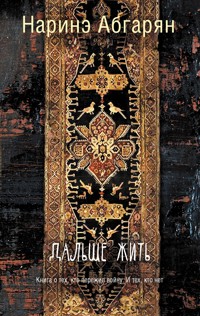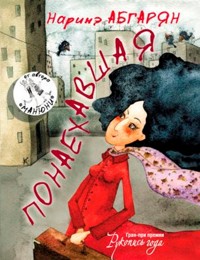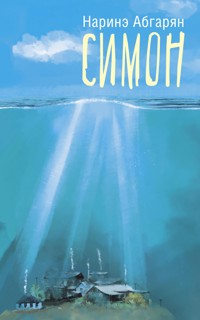
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Люди, которые всегда со мной
- Sprache: Russisch
В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был известен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в последний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда-то любил. И у каждой из них — своя история. Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, он о любви.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Наринэ Абгарян Симон
Моему сыну
Проводы
У Айинанц Меланьи умер муж. Не сказать чтобы его смерть стала для людей неожиданностью, ведь Симону было крепко за семьдесят, а точнее – без году восемьдесят лет. Но расстроились все – муж Меланьи был душой компании и общим любимцем. Жил он широко и безудержно, в тратах себя не ограничивал, ел словно в последний раз, пил так, будто назавтра утвердят сухой закон и впредь за спиртное будет полагаться смертная казнь. Потому завтракал Симон вином (для бодрости), обедал тутовкой (от изжоги), ужинал кизиловкой (чтоб крепко спалось). Несмотря на царящие в Берде[1] пуританские нравы, в интрижках он себе не отказывал. Любил женщин – самозабвенно и на износ, очаровывался с наскока, ревновал и боготворил, на излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение. «Расставаться нужно так, чтобы баба, встретившись с тобой на улице, не прожгла плевком!» – учил он друзей. Друзья отшучивались и, намекая на его любвеобильность, дразнили джантльменом, от слова «джан» – душа моя.
Меланья по молодости устраивала мужу сцены ревности, но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы. И все же иногда, чтоб не слишком зарывался, закатывала скандалы с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс. Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, грохая об пол посуду.
– Ишь! – комментировал, подметая потом осколки. Пока он прибирался, Меланья курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа. Жили, в общем, душа в душу.
Симон умер накануне своего 79-летия, абсолютно здоровым и бодрым. Плотно поужинав и опрокинув от бессонницы стопочку кизиловки, он уснул в привычное время, а утром не смог подняться с постели. Вызванная скорая диагностировала инсульт, но до больницы не довезла – Симон умер, когда машина выезжала со двора. Выдали его семье к утру следующего дня, одетым в шерстяной костюм и белоснежную рубашку, тщательно побритым и причесанным на идеально ровный пробор. Столь нарядного усопшего не стыдно было бы в гроб положить и предъявить общественности, если бы не багровые, в синюшный перелив, уши, портящие представительный вид. Молодой патологоанатом, предвосхищая расспросы родственников, пояснил, что подобное случается с людьми, умершими от инсульта.
– И как же нам быть? – прослезилась Меланья.
– Хоронить! – сухо бросил патологоанатом, которому явно было не до сантиментов.
Меланья долго раздумывала, как придать покойному приличный вид. От предложения старшей невестки замазать уши тональным кремом сердито отмахнулась – не дам из своего мужа меймуна[2] делать! Обозвав бессовестной, выставила вон младшую, предложившую повязать ему косынку. Средней невестке не дала даже рта раскрыть – все одно толкового не скажет. Ничего в итоге не придумав, она понадеялась на тактичность земляков и решила оставить все, как есть. Перепоручила невесткам хлопоты по поминальному столу, переоделась в темное и подчеркнуто скромное и уселась в изголовье гроба, вознамерившись провести в скорбном молчании два дня.
Но надежды на тактичность земляков не оправдались. При виде покойного они, позабыв о словах сочувствия, первым делом справлялись, почему у него такие вызывающе-синие уши. Меланья вынуждена была, прерывая молчание, обстоятельно им отвечать. Мужчины обескураженно цокали языком, женщины сразу же предлагали что-нибудь предпринять.
– Да что тут предпримешь! – вздыхала Меланья.
– Ну хоть что-нибудь! – упорствовали женщины, сыпля наперебой идиотскими предложениями, как то: приложить к ушам листья подорожника, нарисовать йодную сетку, облепить перебродившим тестом, желательно холодным – чтоб наверняка. Мужчины в ответ крутили пальцем у виска, едко любопытствуя, как вообще можно помочь тому, кому ничем уже не поможешь. Цитата из «Идиота» о красоте, которой суждено спасти мир, неосмотрительно приведенная учителем литературы Офелией Амбарцумовной, вызвала в мужском лагере бесцеремонные смешки и вполне разумный довод, что красотой покойника не оживишь. «Зато приятно будет на него смотреть!» – не сдавался женский лагерь. Обстановка неуклонно накалялась, превращая церемонию прощания в перепалку. Траурный тон мероприятию вернула новоиспеченная вдова. Поднявшись со своего места и торжественным шагом направившись к буфету, она со скрипом его отворила, вытащила тяжеленную супницу и со значением грохнула ее об пол. Женщины, моментально вспомнив, за каким делом явились, дружно заголосили, мужчины вышли во двор – перекурить. Меланья, довольная произведенным эффектом, снова уселась в изголовье гроба.
Потихоньку стали подтягиваться бывшие пассии Симона, расфуфыренные, словно на пасхальную службу. Первой явилась Сев-Мушеганц Софья, в кардигане цвета топленого масла и с фальшивым жемчугом на дряблой шее. Следом заглянула Тевосанц Элиза. Сыновья Элизы давно перебрались во Фресно, потому она пришла во всем американском: платье, туфлях, даже сумка и помада цвета пыльной розы – и те были заграничные, о чем она не преминула сообщить, устраиваясь по правую руку от вдовы. Меланья повела носом и поморщилась – пахла Элиза нестерпимо сладкими духами. «Передушилась, ага», – виновато шепнула та и уверила, что терпеть придется недолго – духи, в отличие от всего остального, не американские, потому быстро выветрятся. Из далекого Эчмиадзина приехала Бочканц Сусанна и в один миг взбесила публику литературной речью, высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями и подобранными в частую складочку узкими губами. Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца-оборванца. Сусанна вернула брови на законное место и, расслабив узел рта, перешла на диалект, чем сразу же снискала благосклонное к себе расположение. Последней пришла Вдовая Сильвия, удачно выдавшая дочь замуж в Россию. Невзирая на октябрьскую теплынь, она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе. Встав к окну спиной (чтоб дневной свет не ложился на «упавшее лицо», но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба), она, делая многозначительные проникновенные паузы, прочитала печальные стихи о разлуке.
Поэзия стала последней каплей. Бесцеремонно подвинув чернобурку, Меланья ушла к себе, переоделась в маркизетовую блузку и длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру юбку, заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем. От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы из слоновой кости с сожалением отказалась. Зато напудрилась и подкрасила губы – не сидеть же среди этих расфуфыренных куриц неухоженной выдрой! К тому времени, когда она вернулась, публика значительно поредела. Остались самые стойкие: родственники, бывшие коллеги мужа, пассии (все) и подслеповатая старая Катинка, кажется, намеренно позабытая своими детьми.
Именно она и предложила смазать уши покойного растопленным утиным жиром. Мол, вреда все одно не будет, а вот польза может приключиться. Ведь знахарка Пируз вполне успешно лечила утиным жиром не только синяки и ушибы, но даже переломы.
Не хоронить же его синеухим, дочка! – прошамкала Катинка, утирая слезы краем передника. Меланья хотела было возразить, что покойному без разницы, какого цвета у него уши, но, поймав боковым зрением шевеление бровей Бочканц Сусанны, передумала – повода злорадствовать она ей не даст.
– Несите утиный жир! – скомандовала вдова.
– Главное – наложить сверху компрессы с камфорным маслом. Так знахарка делала! – сыпала инструкциями Катинка, следя за тем, чтобы камфары не переложили. Иначе, пояснила она, могут случиться судороги.
– Ну ему-то судороги не грозят! – отмахнулась невестка Меланьи.
– Откудыва ты можешь знать? – встопорщилась старая Катинка. – И вообще, вместо того, чтобы языком молоть, ты бы лучше охладила утиный жир до комнатной температуры!
– Почему именно до комнатной? – полюбопытствовала Вдовая Сильвия, обмахиваясь журналом: в полушубке и шляпе ей было нестерпимо жарко, но на предложения раздеться она отвечала неизменным отказом.
– Как почему? – всплеснула руками Катинка. – Чтоб не обжечь покойному кожу!
Сильвия, обменявшись ошалелыми взглядами с невесткой Меланьи, булькнула нечленораздельное и притихла.
К тому времени, когда у детей Катинки проснулась совесть и они наконец-то явились за своей матерью, голову Симона украшали большие беспроводные наушники, отжатые со скандалом у младшего правнука. Наушники надежно фиксировали компрессы с камфорным маслом. Несмотря на неловкость ситуации, покойный выглядел вполне умиротворенным и даже счастливым. Вокруг гроба расселись вдова и бывшие пассии, потягивали домашнее вино и, разгоряченные то ли спиртным, то ли беспомощным видом Симона, откровенничали «за жизнь». Вдовая Сильвия, сдвинув на затылок фетровую шляпу и выставив на обозрение сотоварок почти лысую голову, жаловалась на поредевшие волосы. Софья, сняв фальшивый жемчуг и оттянув ворот водолазки, демонстрировала некрасивый шрам, оставшийся после операции на щитовидке. Элиза с горечью призналась, что сыновья, вознамерившись открыть свое дело и понабрав кредитов, еле сводят концы с концами и потому вся ее одежда приобретена не в приличном магазине, а в секонд-хенде, чуть ли не на развес. Сусанна же с упоением жаловалась на высокомерную городскую свекровь: «Старая грымза попрекает меня деревенским происхождением, а сама рюкзак называет лугзагом!»
– Обмажь ей уши утиным жиром, вдруг подобреет, – посоветовала Меланья под общий смех. Изредка кто-то из женщин заглядывал под наушники и сообщал остальным, что толку от утиного жира ноль.
– Неужели вы надеялись, что толк будет? – каждый раз осведомлялась Софья и, с удовлетворением выслушав заверения в обратном, разливала по бокалам новую порцию вина.
Кулон
Запах моря был таким настойчивым, что Вдовая Сильвия проснулась с ощущением, будто оно плещется у нее под окнами. Она повернулась на бок, подогнула ноги, тщательно накрылась одеялом и пролежала так несколько минут, не размыкая век и дыша полной грудью. Форточка, уступив натиску стеклянного зимнего ветра, приоткрылась и впустила в дом солоноватый дух морозного ущелья. Тот метался по комнатам крупным бестолковым щенком, бился башкой о дверные косяки, застревал под тахтой и креслами, путался в тяжелых шторах, воевал с бахромой диванных подушек. Сильвия прислушивалась к его возне, блаженно улыбаясь – хорошо. Тем не менее вскоре она поднялась, пробежалась, босая, ежась от холода, по дощатым полам, плотно прикрыла форточку, не давая ей, поддетой порывом ветра, захлопнуться и наделать шума. Одевалась, настороженно прислушиваясь к тишине. Подошла на цыпочках к комнате дочери, прижалась ухом, удовлетворенно кивнула – спят!
Время двигалось к семи утра, ночь неохотно отступала, влача темный подол своего одеяния, но и день с приходом не особо спешил, ограничившись лишь тем, что лениво притушил и без того неяркое свечение звезд да передвинул к краю горизонта блеклую четвертушку луны. Было зябко и неприкаянно, там и сям, нехотя чирикнув, сразу же притихали воробьи, молчали дворовые собаки, а петухи, успев откукарекать по третьему кругу свое ежеутреннее приветствие, с чувством исполненного долга отдыхали.
Вдовая Сильвия вспомнила петуха из своего детства, невольно фыркнула. Тот был до того заполошным, что изводил криком всю округу. Иногда, чтоб немного угомонить, дед смазывал ему под хвостом солидолом. Ничего не подозревающий петух взлетал на частокол, вознамериваясь в очередной раз сотрясти окрестные дворы торжествующим криком, набирал полные легкие воздуха, однако терпел фиаско: не встретив сопротивления, воздух беспрепятственно выходил через задний проход, обрывая в зародыше его «кукареку». Сделав несколько неудачных попыток крикнуть, петух сползал с частокола и плелся по двору, топорщась перьями на затылке и уныло свесив пестрые крылья. Весь его облик – скособоченный клюв, сокрушенный взгляд, неуверенная поступь – свидетельствовал о глубоком недоумении и неподдельном потрясении. «И что, теперь так и будет?» – будто бы жаловался он, едва слышно бухтя себе под нос. Сильвия не помнила, что стало с ним потом – то ли зарезали, то ли продали, но крик его, пустопорожний, торжествующий, до сих пор звучал в ушах.
Прочитав над водой коротенькую молитву и поблагодарив Бога за новый день, Вдовая Сильвия тщательно умылась. Этой церемонии ее научила глубоко уважающая и неукоснительно чтящая народные традиции бабушка. В свое время она даже умудрилась подстроить под них весь свой быт. К примеру, заметив, что пес задрал голову и обеспокоенно обнюхивает воздух, она, ничуть не сомневаясь, что дело движется к дождю, спешила убрать вывешенное на просушку белье. Если глаза бесцельно замирали на каком-нибудь предмете – тотчас застилала обеденный стол свежей скатертью и, проверив запасы сладкого, садилась молоть кофе – ведь ни для кого не секрет, что застывший взгляд к нежданным гостям. Путникам она неизменно подкладывала в вещи узелок с горсточкой огородной земли – чтобы они благополучно вернулись домой. Никогда не передавала из рук в руки чеснок, потому что это могло навредить здоровью того, кто его просил. Не делала уборку на ночь, чтоб не расстраивать домашних духов – она искренне верила в них и непременно оставляла на чайном блюдце угощение, к примеру – карамельные конфеты, фантики которых она обязательно приоткрывала, но полностью не разворачивала, тем самым облегчая работу и в то же время уважая желания духов: захотят угоститься – сами дальше справятся.
Сильвия, по молодости относившаяся с иронией к привычкам старшего поколения, с возрастом сама в них поверила и нет-нет да и ловила себя на том, что, вторя бабушке, старается переделать всю работу по дому до субботнего полудня, оставляя свободным вечер и последующее воскресенье. Или же, помня о том, что в народе понедельник считают недобрым для начинаний днем, старалась ничего в этот день не планировать. А засеивать огород принималась во вторник – самый благоприятный для этого день.
Анна, дочь Вдовой Сильвии, мирилась с привычками матери, а вот зять, не вытерпев, иногда подтрунивал над тещей. Впрочем, делал он это до того смешно и по-доброму, что Сильвия не обижалась – молодой еще, наивный, жизни не понимает. На резонное замечание зятя, что к тридцати пяти годам вполне уже можно кое-что в жизни понимать, она снисходительно цокала языком: кое-что – это не все! Рано поседевшая и растратившая былую красоту, себя Вдовая Сильвия, невзирая на в общем-то небольшой возраст – пятьдесят два года – прочно записала в старухи и мягко, но решительно отметала любые попытки близких убедить ее в обратном. Рождение долгожданного внука окончательно укрепило ее в убеждении, что лучшие времена остались позади. Сразу же оформив на работе бессрочный отпуск, она с радостным облегчением переключилась с бухгалтерских расчетов на благословенные заботы бабушки, с первого же дня привязавшись к младенцу с той самоотверженной преданностью, на которую способны только люди, всю жизнь промечтавшие о беззаветной любви – и наконец-то ее заполучившие.
Анна, не считаясь с настоятельными советами воронежских врачей, приняла решение рожать в Берде. «Мне только у мамы будет спокойно», – отмела она все их доводы. Муж ее решение поддержал, но компания, где он работал, требовала постоянного его присутствия, поэтому выбраться к семье он смог только к родам. Дождавшись выписки жены и сына из больницы и убедившись, что все с ними в порядке, он улетел обратно в Россию. Анна же намеревалась вернуться туда к началу лета. Перспектива провести долгие месяцы с дочерью и новорожденным внуком наполнила душу Вдовой Сильвии ощущением сбывшейся заветной мечты. «Аствац[3]-джан, только не посчитай мое счастье излишним», – оказавшись в уединении, боязливо шептала она, воздевая к небу руки и торопливо осеняя себя крестом. С Богом она всегда говорила с глазу на глаз, не сомневаясь, что так меньше ему досаждает.
Появление внука изменило Вдовую Сильвию, женщину молчаливую и замкнутую, до неузнаваемости: она стала вдруг охочей до общения и могла проводить долгое время в телефонных беседах, неизменно норовя свести любое обсуждение к разговору о ребенке. Небольшая любительница магазинов – как правило, она приходила туда с тщательно составленным списком и, за несколько минут выбрав нужное, с облегчением уходила, теперь она проводила там чуть ли не часы, перебирая умильные, с зайчиками и бегемотиками, ползунки, чепчики и распашонки. Набрав целый ворох одежды, она какое-то время еще ходила вдоль полок, заменяя одну вещицу на ровно такую же, но без шва на спине, а потом, с чувством выполненного долга расплатившись, несла покупки домой.
Под натиском чувств изменилось даже отношение Вдовой Сильвии к традициям. Если раньше они соблюдались с некоей вариативностью, то теперь именно там, где дело касалось новорожденного, она следовала им с маниакальной, доходящей до гротеска неукоснительностью. К примеру, обычай советовал хранить под матрасиком младенца нож или ножницы, чтобы отпугивать злых духов. Вдовая Сильвия, рассудив, что многого мало не бывает, разложила по противоположным краям дна кроватки и то и другое. Следом, чуть поразмыслив, разместила в третьем углу оставшуюся от деда опасную бритву, предварительно заточив ее осколком водного камня и обмотав острое лезвие бинтом. Порывшись в коробке с вязаньем, присовокупила к арсеналу спицы. Сложив их крест-накрест в свободном уголке кроватки, она накрыла обереги сложенным вчетверо шерстяным пледом, водрузила поверху детский матрас, подоткнула его простынкой и лишь тогда вздохнула с облегчением.
Обычай рекомендовал первые сорок дней жизни беречь новорожденного от посторонних, объясняя это тем, что в таком возрасте он особенно восприимчив к сглазу. Суровый мораторий был наложен на любых гостей. От двора было отказано даже теру Маттеосу, заглянувшему поздравить семью с прибавлением и напомнить, что на восьмой день младенца положено крестить. Вдовая Сильвия, перекинувшись со священником несколькими дежурными фразами, поблагодарила его за визит и решительно выпроводила за порог, не дав пройти дальше прихожей.
– Так что с крестинами? – полюбопытствовал на прощание тер Маттеос, отряхивая пропыленную рясу пестрящей золотистыми, не успевшими сойти с лета веснушками рукой.
– Сорок дней пройдут – там видно будет! – последовал исчерпывающий ответ.
Тер Маттеос даже бровью не повел, когда входная дверь непочтительно захлопнулась перед его носом. Пригладив отчаянно кудрявящуюся бороду растопыренной пятерней, он направился к лестнице, ведущей с открытой веранды во двор, однако замер на верхней ступеньке и, обозвав себя беспамятным болваном, вернулся. Вытащив из кармана накидки мягкую игрушку – смешного пучеглазого ослика в полосатом сюртучке, он было сунулся в дом, но потом махнул рукой, огляделся по сторонам и, не найдя более подходящего места, оставил игрушку на подлокотнике старой тахты. Удостоверившись, что ослик крепко сидит, святой отец принялся спускаться по заледенелым ступенькам, придерживаясь морозных перил кончиками пальцев и напевая под нос мотив любимой песни. Добравшись до нижней ступеньки, он прервал пение подбадривающим «оп-ля», полуприсел и грузно спрыгнул во двор, повергнув в изумление рассевшуюся на краешке забора стайку воробьев. Умолкнув, они уставились на него, наблюдая, как он идет к калитке, прищелкивая пальцами по болтающемуся на груди кресту. «Like last summer’s rose I’m in love… love, love, love», – разливался его густо-бархатный бас, запоздало подхваченный бранчливым аккомпанементом наконец-то очнувшейся от потрясения птичьей стайки.
Ослик просидел на веранде совсем недолго – вышедшая задать корм птице Сильвия сразу же его приметила. Она умиленно повздыхала, но забирать его не стала. Ушла в птичник, вернулась оттуда с пустой миской из-под корма, неся под мышкой курочку с окровавленным гребешком. На днях петуху с большим скандалом подстригли когти, чтоб он курам бока и спины не обдирал, вот он и мстил, поганец. Обработав ранку зеленкой, Вдовая Сильвия отнесла пострадавшую обратно, постояла над развалившимся на верхней жерди насеста петухом-красавцем, хмыкнула, выдрала в сердцах из его хвоста длинное и наглое золотистое перо – в назидание, и под негодующие его крики ушла домой, бормоча под нос: «Скажи спасибо, что я тебе, ироду, клюв аптечной резинкой не обмотала!»
Тщательно вымыв руки, она вернулась на веранду – забрать ослика. Высвободила его из упаковки, повертела так и эдак, застегнула на пуговку ворсистый жилет, нажала на живот, прислушалась к деликатному «иа-иа», кивнула, соглашаясь: раз Создатель в оперные певцы не определил, то ничего тебе, горемыке, и не остается, как только иакать!
Тер Маттеос оказался единственным бердцем, рискнувшим заглянуть к Вдовой Сильвии. Соседи, не решаясь нарушить положенный традицией сорокадневный «карантин», ограничились телефонными звонками и поздравительными открытками. На звонки она отвечала подробным отчетом об аппетите, росте и прочих успехах быстро прибавляющего в весе младенца, открытки же, бегло пробежав глазами, складывала в жестяную коробку из-под сахарного печенья, чтобы потом, когда свободного времени будет предостаточно, обстоятельно их перечитать. Директор консервного заводика, где она четверть века проработала бухгалтером, передал с посыльным заклеенный конверт. Вдовая Сильвия обнаружила внутри поздравительную открытку и три новенькие стодолларовые купюры с прозрачной синенькой полоской и портретом озабоченно поджавшего губы Бенджамина Франклина. Американский президент остро напомнил ей прабабку, умершую более века назад. Смерть ее стала притчей во языцех. Случилась она в Пасху, когда вся семья, включая многочисленных внуков и правнуков, собралась за праздничным столом. Прабабка, женщина крайне богобоязненная и благовоспитанная – никто прежде не слышал от нее резкого слова, опрокинув себе на колени солонку, явственно и громко чертыхнулась. Сконфуженно рассмеявшись, она попросила притвориться, что никто ничего не слышал, и пока родные, пряча улыбки, дружно уверяли, что все так и было, бедняжка тихо отдала богу душу. Посмертно прабабка снискала славу самой совестливой жительницы не только Берда, но и всего региона – ведь на памяти людей не было ни одного случая, чтобы человеку довелось умереть со стыда. Вдовая Сильвия прабабку в живых не застала и знала ее по старой фотографической карточке, на которой та, точь-в-точь как президент Франклин, полуобернув полное лицо и поджав губы, с претензией таращилась в объектив большими, немного навыкате, круглыми глазами. Рука прабабки покоилась на плече напряженно улыбающегося пятилетнего мальчика в сюртучке, коротеньких штанишках и ботинках со сбитыми носами. Над левым ухом мальчика торчала смешная кудряшка, которую хотелось пригладить пальцем, чтоб она не портила тщательно прилизанного общего вида. Мальчика звали Ованесом, он был младшим из семи внуков прабабушки и отцом Вдовой Сильвии. Сильвию, кстати, назвали в честь прабабушки. Имя, столь не характерное для этих краев, предложила мать новорожденной, по слогам вычитав его на баночке мятных леденцов. И, хоть в церкви при крещении девочке дали более подходящее армянское имя, закрепилось за ней то, непривычное для слуха, отдающее голосом горного родника и шелестом весенней листвы. А потом, через два поколения, это имя перешло к правнучке.
Растроганная щедрым подарком, Вдовая Сильвия позвонила на консервный заводик и, стараясь не выдать волнения, сдержанно поблагодарила. Взяв с нее обещание, что сразу же после отъезда дочери она вернется на работу, начальство попрощалось. Двести долларов Сильвия отложила на потом, сотню же, разменяв в банке на армянские драмы, пустила на всякие насущные нужды: бутылочки, соски, подгузники, присыпку, а также продукты, прописанные в рацион кормящей матери. Анна возмутилась, что мать потратила свои деньги, но та решительно оборвала ее – мне это в радость, дочка. Оставшиеся двести долларов, походив по дому в поисках безопасного угла (банкам после денежной реформы, съевшей все ее сбережения, Сильвия не доверяла), она припрятала в пятом томе собрания сочинений Чехова. Правда, перед тем, как убрать книгу обратно, благоразумно сделала запись-напоминалку в блокноте, чтоб потом не перерывать все книжные шкафы. Выглядела эта запись вполне интригующе и даже несколько криминально и, пожалуй, не всякому шифровальщику пришлась бы по зубам. «Прабабушку Сильвию искать в вишневом саду», – гласила она.
Запрет на «карантин» нарушили только для сватов, выбравшихся навестить внука из Иджевана. Ревниво и подобострастно рассмотрев спящего младенца, сватья сразу же с удовлетворением объявила, что он – копия ее отца, потому назвать его нужно в честь деда Багдасаром. Вдовая Сильвия хотела было возразить, что подобным ветхозаветным именем не всякий в наши дни решится ребенка обозвать, но ее опередил сват. Повертев в характерном недоумевающем жесте воздетый к потолку указательный палец, он обрушил на жену водопад негодования:
– У этого ребенка на лице вместо носа кнопка от телевизионного пульта! Какой из него Багдасар?
– А что, Багдасар означает «носатый»? – уставилась на него сбитая с толку сватья.
– Конечно, раз под носом твоего отца в дождь вся наша улица собиралась!
– Ну раз ребенок носом не вышел, может, его тогда Вараздатом назовем? В честь твоего отца-пьяницы?
– Женщина, ты соображаешь, что говоришь? В сотый раз повторяю: он не пьяницей был, а ценителем тутовки! И вообще! Тебе внука не жаль? Какой Багдасар, какой Вараздат? Имя у мальчика должно быть современным. А главное, звонким и стремительным, словно выпущенная из лука стрела.
– Стремительным?! Назовите тогда сразу Гепард. Чего мелочиться-то? – встряла в перепалку Вдовая Сильвия, уязвленная тем, что никто не поинтересовался ее мнением.
Сваты, спохватившись, сразу же принялись советоваться с ней. В итоге, после недолгих и почти кровопролитных препирательств, право выбора благоразумно решено было оставить за родителями младенца. Те, обещав придумать такое имя, которое устроит всех, развели взрослых по углам ринга. Однако с выбором не спешили, потому на второй неделе жизни ребенок продолжал оставаться безымянным. Традиции ничего предосудительного в этом не видели, так что и Вдовая Сильвия не беспокоилась. Придумают, никуда не денутся. Свидетельство о рождении-то надо ведь справлять.
Самый строгий из обычаев запрещал первые десять недель жизни вывозить новорожденного на прогулку, опять же чтобы поберечь его от ненужного внимания окружающих. Но на дворе стоял чудесный ранний декабрь, и грех было лишать младенца возможности подышать морозным чистым воздухом. Пораскинув мозгами, Вдовая Сильвия придумала выход: она обшила верх прогулочной коляски дополнительной шторкой, которую сама же и смастерила из отреза тюля, для вящей непроницаемости пустив ткань двойным густым воланом. Сведущий человек сразу догадается, что нельзя заглядывать за шторку, а несведущего можно будет спокойно подвинуть! Анна, старающаяся никогда не перечить матери, осторожно поинтересовалась, зачем такие сложности, если первое время можно гулять, не покидая пределов двора. Вдовая Сильвия отвела взгляд, помолчала, протяжно вздохнула, подняла на дочь ореховые, в пепельный перелив, окаймленные лучиками мелких морщин глаза и ответила с обезоруживающей искренностью: уж очень хочется внуком похвастать, дочка. Анна обняла ее, чмокнула в висок, улыбнулась: конечно, мамочка, как скажешь.
Дом Вдовой Сильвии замыкал неширокую улицу, упираясь задним двором в грудь обросшего кустарником холма Хали-Кар. Улиц, расположенных на плавно спускающемся ко дну ущелья склоне, было три, и все они брали начало с небольшой криводонной площади, на которой торчали административные постройки: управа, полиция, банк, загс, суд и нотариальная контора. Недолго проплутав между крепкостенных домов, эти улицы разбегались в разные стороны. Одна стремительно спускалась к подножию холма, а остальные две карабкались вверх и опоясывали его нарядными шалями-поясами, которыми в старину поверх рубах-архалуков обвязывались мужчины.
Та из дорог, что огибала подножие и заканчивалась низеньким каменным мостом, называлась Нижней. Тянулась она вдоль невинной с виду, но непредсказуемой и взбалмошной, а в половодье разливающейся далеко за каменистые берега горной речки. В сезон таяния снегов и ливней она превращалась в неуправляемую лавину, сносившую на своем пути всякую преграду. Потому дома на Нижней улице выстроились на основательном от берега отдалении и непочтительно отвернулись, отгородившись от него высоченными, битыми ледяной волной заборами.
Вымощенная камнем Садовая улица тянулась до вершины холма и заканчивалась у ворот небольшого парка, откуда открывался чудесный вид на окрестности: каменные жилища со стекленными верандами-шушабандами; сады, сквозь сирое полотно которых, дозревая, золотились хурма и айва; ссутуленные горы, отвыкшие за лето от пронзительного дыхания ветров; стеклянный осколок далекого озера с линялым ликом неба в отражении. Дома Садовой улицы, расположенные на внушительной высоте, раньше остальных ловили в окнах лучи просыпающегося солнца и первыми прознавали о приближении скороспелого дождя.
Вдовая Сильвия жила на третьей, Мирной улице, которая тянулась по груди холма, разделяя его пополам. По обочинам Мирной улицы стояли дома с воздушными открытыми верандами и обширными садами-огородами. Защищенные от капризов речки и шумных ветров, они могли позволить себе вольность в виде основательных глубоких погребов, дощатых амбаров и низкорослых хлипких оград, сквозь щели которых неустанно шастали писклявые цыплята, доводя до истерических припадков заполошных наседок. Мирная улица, карабкаясь на пригорки и проворно устремляясь вниз, путалась под ногами и цеплялась за край одежды, оставляя на ней то перезрелую цветочную пыльцу, то приставучие колючки чертополоха, а то и иссушенные до невесомости сережки крапивы. Огибая дворы, в самом своем конце она резко поворачивала направо и утыкалась в дом Вдовой Сильвии, не дойдя каких-то пару метров до ограды.
Много лет назад отец Сильвии заделал этот зазор, вымостив его речной галькой в незамысловатом узоре: два светлых каменных полукруга на темном фоне. Маленькой Сильвии тогда было всего пять, и она с нетерпением ждала вечера, когда отец возвращался с работы. Переодевшись и наспех пообедав, он забирал ее с собой на речку, где они проводили час-другой, выискивая крупную, с ладонь, гальку нужной формы и расцветки. Бабушка уступила им железное ведерко, в котором хранила всякую каменную мелочь для заточки садового инвентаря, и Сильвия до сих пор невольно жмурилась, вспоминая звонкий стук первой кинутой на дно этой старой, почти насквозь проржавевшей посудины гальки.
Пустив на поиски камня почти два летних месяца, отец наконец принялся мостить дорожку. Маленькая Сильвия запомнила тот день таким, будто наблюдала его с высоты. Отец умудрился где-то раздобыть крепкий корабельный канат и смастерил удобные качели, заботливо обшив сиденье подушкой на гусином пуху. Сильвия раскачалась до упора, до ледяных мурашек и застывшего в горле комка, и, чтобы отвлечься от страха, выискивала глазами то бабушку, чистящую зеленые стручки фасоли, то маму, достающую из каменной печи караваи пахнущего сладкой горбушкой хлеба, то деда, поливающего розовые кусты. Прошло уже почти полвека, в жизни произошло много всего, что могло навсегда заслонить собой тот пронзительно-беззаботный день, но Сильвия запомнила его, словно многажды пересмотренный фильм, и часто переживала заново, восстанавливая в памяти мельчайшие подробности и радуясь всплывающим из небытия деталям, о которых успела позабыть: простенький деревянный гребень в волосах бабушки, перекинутое через плечо желтое посудное полотенце, серебряную змейку речки, которую можно было увидеть, раскачавшись до клокочущего в горле сердца…
Над калиткой раскинулась чудом прижившаяся груша неведомого для этих краев сорта. Обернутый во влажную тряпицу саженец отец вез из крохотного литовского городка Дукштас, добираясь домой на перекладных почти неделю. Высадил деревце на краю сада, сразу за калиткой, там, где невысокий, но крепкий выступ скалы, образуя мелкую ложбинку, защитил бы непривычное к новому климату растение от промозглой влаги зимы и иссушающего жара лета. Груша сразу же вытянулась, но потом замедлилась в росте и, распавшись в кроне на две макушки, раздалась в боках. К пятому году жизни она обвесилась крупными сочно-сладкими желтоватыми плодами, нежно розовеющими обернутой к солнцу стороной. Первый свой урожай она дала в год, когда родилась Сильвия, потому в доме принято было считать, что это ее дерево. Маленькая Сильвия с удовольствием ухаживала за «своей» грушей: рыхлила землю, поливала, подсыпала древесной щепы – чтобы та удерживала влагу, прилежно осматривала серовато-шероховатый, в редких крапушках чечевичек, ствол в поисках пятен от болезни: однажды, обнаружив крохотную отметину, не успокоилась, пока отец, вычистив ее, не обработал место поражения медным купоросом и садовым варом. Весной литовская груша невестилась, покрываясь, словно густой гипюровой фатой, снежно-кремовыми цветками. Они появлялись еще до листиков, пахли робко-сладким и долго не облетали. Маленькая Сильвия любила встать на цыпочки, осторожно притянуть к себе ветку и, стараясь не дышать, зарыться лицом в нежные лепестки, ловя их легкий ненавязчивый аромат. К середине лета, когда налившиеся плоды гнули к земле ветви, она собственноручно подпирала их специальными двурогими брусьями-опорами. Бережно, стараясь не поранить нежную кожицу, укладывала созревшие плоды в деревянные ящички, которые потом отправлялись в большой погреб – на хранение. Бабушка, старавшаяся пускать на заготовки и сухофрукты всякий собранный в саду урожай, на литовскую грушу даже не замахивалась, жалея ее для переработки. «Так съедим», – приговаривала она, окидывая довольным взглядом увешанное сладкими плодами, облюбованное медоносными пчелами дерево.
По далекой детской привычке Вдовая Сильвия считала литовскую грушу своей, и если в уходе за садом и огородом охотно принимала помощь соседей, то к этому дереву никого не подпускала, справляясь даже с такой непростой работой, как обрезка ветвей. Будущему зятю она чуть ли не с порога заявила: «Это – мое дерево». «То есть остальные деревья в саду я могу считать своими?» – не растерялся тот и, смешавшись, покраснел. Вдовая Сильвия с удовлетворением отметила его смущение (совести, значит, не лишен) и решила, что дочь сделала правильный выбор. Чувство юмора, наравне с совестливостью и преданностью, она ценила пуще остальных качеств. Терпеть не могла скаредности, но и расточительности не поощряла. Сторонилась завистливых людей, сплетен на дух не переносила, пропуская их мимо ушей. О любви не заговаривала – ни с близкими, ни с родными, однако никто из них не сомневался – о любви она знала больше, чем кто-либо еще в этом мире.
На завтрак Сильвия отварила овсяной каши, немного ее передержав – недавно с изумлением обнаружила, что дочь любит, подождав, когда овсянка остынет, скрести ложкой по дну эмалированной кастрюльки, подъедая подрумяненную корочку. К тому времени, когда она заглянула в спальню, Анна успела переодеть и покормить проснувшегося сына. Сильвия поставила на прикроватную тумбочку поднос с завтраком, поцеловала сначала дочь, потом, умильно лопоча, – внука.
– Пойду погуляю с ребенком. Решилась наконец, – заявила она и добавила не терпящим возражений голосом: – А ты поешь и поспи, слышишь меня?!
Анна спорить не стала. Она не совсем еще отошла от последнего месяца беременности, когда, измученная беспокойно ворочающимся в тяжелом животе младенцем, вынуждена была бодрствовать почти сутками. Потому сейчас использовала каждую минуту, чтобы доспать.
Стараясь не шуметь, Вдовая Сильвия выкатила коляску из дома, изрядно помучилась, спуская ее во двор. Перенесла туда тепло укутанного младенца, накрыла его простеганным ватным одеяльцем. Проверила еще раз содержимое сумки, в которую сложила все, что могло ему понадобиться. Тронулась в путь. С непривычки все выходило не так: сначала она умудрилась зацепиться верхом коляски за ветку литовской груши, затем застряла колесом в проеме калитки, вдобавок еще и не удержала ее, и та, выскользнув, с громким стуком захлопнулась и лязгнула заржавелой неповоротливой щеколдой.
– Отвинчу тебя к чертовой матери! – пригрозила Сильвия, срывая злость на щеколде, которой с того дня, как приладили к калитке, ни разу не удосужились воспользоваться.
По вымощенной галькой дорожке коляска покатилась плавным ходом, оставляя за собой влажный отпечаток колес. Всмотревшись, Вдовая Сильвия различила в узоре череду сердечек. Сунула руку за пазуху, нащупала кулон в форме сердца, который носила, не снимая. Подумала, что совпадения редко бывают случайными. Заглянув за шторку и убедившись, что внук спит, она набрала в грудь воздуха, медленно выдохнула, успокаиваясь, и, подбодрив себя гагаринским «поехали», выкатила коляску на улицу. Держалась ближе к кромке, огибая лужи и увязая колесами в подмерзшей грязи, привычно поругивая городские службы, так и не сподобившиеся сделать хоть какие-нибудь тротуары.
В некоторых домах уже затопили дровяные печки, и воздух сытно пах дымом и обогретым кровом. Где-то внизу громко загагакали гуси, им ответил заполошный петушиный крик и лай дворовых псов. Вдовая Сильвия притормозила, дожидаясь, пока ленивый лай, переметываясь со двора на двор и поднимаясь вверх по холму, благополучно стихнет на самой его макушке, – и лишь тогда продолжила путь. Прохожих в этот полуденный час было мало. С каждым она здоровалась и, выслушав поздравления, благодарила и продолжала путь. Никто из встреченных попыток заглянуть за шторку не делал, и все же, памятуя о бесхитростной, но от этого не менее раздражающей манере своих земляков совать куда не следовало нос, Сильвия бдительности не теряла. С людьми у нее всегда складывались ровные и уважительные отношения, но общение она старалась сводить к ни к чему не обязывающим приветствиям с дежурными расспросами о здоровье. На предложение зайти в гости, поблагодарив, неизменно отвечала вежливым отказом. К себе тоже не звала. Ее любили и ценили, но, вспомнив о ней, суеверно стучали по дереву костяшками согнутых пальцев – чтоб не приманить к себе испытание, которое выпало на ее долю. За глаза ее часто называли бедняжкой, но неизменно добавляли – слава богу, что теперь у нее все хорошо.
Смерзшаяся за ночь земля к полудню оттаяла, превратившись в труднопроходимую грязь. Коляска подскакивала на ухабах и застревала то одним, то другим колесом в жижистых ямах. Приходилось сильно наваливаться на ручку, чтобы проехать дальше. Добравшись до конца улицы, Вдовая Сильвия совсем выбилась из сил. «Похвастать внуком хотела? Ну и как? Довольна собой?» – приговаривала она сквозь сбитое дыхание, потирая онемевшие от напряжения руки и проклиная себя за упрямое желание прогуляться в столь неподходящую погоду. К счастью, младенец, безучастный к треволнениям бабушки, мирно спал, укутанный в теплое одеяльце и воздев кверху крохотные, затянутые в две пары шерстяных рукавичек, кулачки. Пеленать его, следуя новомодным тенденциям, Анна не позволяла, и Вдовой Сильвии пришлось, скрепя сердце и наступив на горло обычаю, уступить дочери. Раньше ведь как было? Расстелил одну пеленку, сверху, сложив пополам треугольником, положил вторую, надел на ребенка мягкую фланелевую распашонку, завязал тесемки чепчика узлом, заправив концы под ворот распашонки, приладил между ножек марлевый подгузник, затянул их нижней пеленкой, ручки – сложенной треугольником верхней и туго замотал в одеяльце так, чтобы только щеки торчали. Запеленатый, младенец спал спокойнее, потому что не пугал себя дергающимися ручками, да и, как уверяла бабушка, вырастал ладным и стройным – тугое пеленание выправляло тело.
– А если у него ноги кривыми будут? – отчаявшись переубедить дочь, сделала робкую попытку перетянуть на свою сторону зятя Сильвия, наблюдая за тем, как Анна укладывает младенца спать в мягких штанишках.
– Футболистом сделаем. Кривоногий футболист – находка для любой команды, – отшутился зять.
– Оба два балбеса, – возмутилась Сильвия, но махнула рукой – пусть в этот раз будет, как хотят!
Городская площадь была почти безлюдна. Двор управы пустовал, из банка вышли два одинаково худющих, сутуловатых солдатика и, пересчитывая на ходу купюры, направились к продуктовым ларькам. От здания полиции, пронзительно взвыв сиреной, но сразу же захлебнувшись, отъехала машина, полицейский, молодой курчавый парень, высунув руку в окно, помахал Вдовой Сильвии: простите, тетечка, не заметил коляску. Она кивнула: ничего страшного, но добавила про себя – остолоп безглазый.
На лавочке перед зданием управы сидели две старушки. Одна – большая, круглощекая и улыбчивая, с детским конопатым лицом, вязала в четыре спицы. Иногда, отрываясь от дела, она поднимала голову и провожала пытливым взглядом редких посетителей, стараясь угадать по выражению лица, за какой надобностью они пришли в управу. Другая – смугленькая и горбоносая, резво орудуя ножом, перебирала большой пучок просвирняка. Поздоровавшись со старушками, Вдовая Сильвия первым делом осведомилась об их здоровье.
– Кости ноют, дочка. К снегу, – благожелательно ответила горбоносая. В ее голосе не прозвучало ни сетования, ни расстройства – а только смирение. Круглолицая, с одобрением оглядев шторку коляски, поинтересовалась, как внука назвали.
– Да вот раздумывают пока, – вздохнула Сильвия. И неожиданно для себя разоткровенничалась: – Хотелось бы, конечно, чтобы назвали именем моего отца.
– Ованес – хорошее имя. Доброе, – поспешили согласиться старушки.
Сильвия собиралась уже спросить, где они раздобыли в декабре просвирняк, но не успела – внимание старушек отвлекли хмурые люди, высыпавшие из здания суда.
– Видно, в разбирательстве объявили перерыв, – возвестила полненькая старушка, разглядывая разбредающуюся по площади толпу, и со вздохом добавила: – Такая беда, такая беда!
– А что случилось? – всполошилась Вдовая Сильвия. Поглощенная заботами о внуке, она упустила последние новости.
– У Сайинанц Петроса сыновья подрались, какую-то ерунду не поделили. Старший толкнул младшего, тот упал, разбил голову. Одного похоронили, а другого посадят. Бедный Петрос, как теперь ему с таким горем жить! Было у человека два сына, остался один, да и тот с поломанной судьбой!
Старушки покряхтели, поцокали языком. Чернявая постучала по краю скамейки, боязливо поплевала – тьфу-тьфу-тьфу, Аствац-джан, отведи от нас такую беду!
По краю площади, тяжело опираясь на палку, шел высокий худощавый старик в истрепанном на локтях и вороте клетчатом пальто. Полненькая старушка, заприметив его, мигом вынырнула из тягостных раздумий, толкнула локтем чернявую – глянь, ухажер твой идет, помнишь, как в молодости за тобой ухлестывал? Чернявая хмыкнула, отложила нож, уставилась на старика. Тот, почуяв пристальное к себе внимание, браво развел плечи, скользнул пальцами по пуговицам пальто, проверяя, все ли застегнуты. Навесив на лицо непроницаемое выражение, он пошел, хорохорясь и небрежно, словно делая одолжение, опираясь на палку.
– Ходит с таким видом, будто его вулкан еще не потух! – проскрипела едко чернявая, когда старик поравнялся с ними.
Полненькая, от неожиданности выпустив спицы, всплеснула руками и уставилась на подругу. Вдовая Сильвия поспешно наклонилась, делая вид, будто ищет что-то в сумке с вещами младенца. Совладав с предательской улыбкой, она подняла голову, поздоровалась со стариком. Тот, хоть и не расслышал слов чернявой старушки, но догадывался, что ничего хорошего она не сказала. Потому, подчеркнуто вежливо ответив Вдовой Сильвии и кивнув полненькой, он не удостоил взглядом другую старушку и пошел дальше, не убавляя скорости. Хватило его запала, правда, ненадолго: добравшись до ларечка, торгующего всякой мелочью, он, якобы для того, чтобы внимательно рассмотреть товар, а на самом деле с целью справиться с одышкой, тяжело облокотился на витрину. Палка со стуком упала и откатилась к краю тротуара, гремя железным набалдашником. Кто-то из прохожих поднял ее, участливо спросил, нужна ли помощь. Старик помотал головой – все в порядке, отдышаться надо. У Вдовой Сильвии больно сжалось сердце. Своего отца она пожилым не застала. Ему сейчас было бы столько же лет, сколько этому старику, и он бы, конечно, тоже хорохорился при виде симпатичных посторонних старушек… Хотя кто его знает, не уйди он так рано, и мама, наверное, бы жила, и они тогда все вместе пошли бы гулять с младенцем, увязая по щиколотки в грязи и ругая городские службы за то, что так и не удосужились провести хотя бы мало-мальских дорог…
Из печальных раздумий ее вывела перепалка старушек. Полненькая ругала чернявую за то, что та неучтиво обошлась с кавалером.
Чернявая с раздражением отмахивалась – ничего, переживет.
– Пережить-то переживет. Но зачем ты его потухшим вулканом обзываешь?
– А что, у тебя на этот счет имеются другие сведения? – ехидно поинтересовалась чернявая.
Полная, мгновенно оскорбившись, поднялась со скамейки и ушла не попрощавшись. Вдовая Сильвия хотела последовать за ней, но решила переждать поток возвращавшихся на слушание людей. Старик, заметив, что двор суда стремительно пустеет, заковылял обратно. Поравнявшись с чернявой старушкой, которая как раз, дочистив просвирняк, заворачивала его в газетный обрывок, он, поколебавшись, все-таки учтиво поклонился и поздоровался:
– Добрый день, Анушик-джан!
– Иди куда шел, – сердитый голос чернявой, прогремев набатом, настиг вторую старушку и больно толкнул в спину. Та остановилась, но оборачиваться не стала. Чернявая засеменила к ней, отряхивая на ходу подол шерстяной юбки. Поравнявшись с Сильвией, она сунула ей кулек с зеленью – свари дочери суп, кормящей матери он нужнее. Та онемела от неожиданности, но, мигом стряхнув оцепенение, растроганно поблагодарила и спросила, сколько денег должна. Чернявая скривилась – не нервируй меня дурацкими вопросами! Обернувшись к старику, она бросила – вскользь, делано безразличным тоном:
– Заходи в гости, Самсон. Чаю, так и быть, тебе налью.
– Вот ведь язва! – развел руками старик. Окрыленный приглашением на чай, он мгновенно расцвел и скинул, казалось, с десяток лет. Вдовая Сильвия наблюдала происходившие с ним перемены, не скрывая улыбки.
На прощание старик поинтересовался, как внука назвали.
– Ованес, – неожиданно для себя соврала Сильвия и густо покраснела, не найдя объяснения собственной лжи. К счастью, старик не заметил ее замешательства.
– Хороший у тебя был отец, дочка. Добрый, – вздохнул он, и, по-родительски похлопав ее по щеке, направился к зданию суда, тяжело опираясь на палку и с оханьем подгибая ноющую ногу.
Когда Анна в телефонном разговоре сообщила о своем желании рожать в Армении, Вдовая Сильвия, не поверив услышанному, несколько раз переспросила: «В Армении? В Берде? Рожать?» Получив утвердительный ответ, она, перепугавшись, попыталась отговорить дочь:
– В Воронеже специалисты и клиники лучше, зачем тебе наша захудалая больница? Да и стоит ли лететь из одной страны в другую, рисковать собой и ребенком?
Но Анна стояла на своем. И Вдовая Сильвия, едва скрывая слезы радости, уступила.
Первым делом она сбегала на кладбище – рассказать о новости родителям. Прикупив на обратном пути десять свечек, половину поставила в часовне, а остальные принесла домой, чтобы зажечь их перед статуэткой Богоматери.
Статуэтка стояла на краю комода, с таким расчетом, чтобы луч рассветного солнца, проникая сквозь узкий зазор между шторами, падал на ее трогательное, по-детски кругленькое и розовощекое, совсем не скорбное лицо. Вдовая Сильвия привезла ее из своей последней поездки в Ереван. Все ее выезды в большой мир можно было сосчитать по пальцам одной руки – после возвращения в Берд она старалась его не покидать. Местному неврологу, заподозрившему у нее серьезное заболевание, стоило немалых усилий убедить ее выбраться в столицу, где в специализированной клинике можно было сделать все необходимые обследования. Красочно описав последствия болезни со странным названием «рассеянный склероз», он все-таки добился своего и, снабдив пациентку нужными бумагами, проводил ее в столицу. Скоротав два долгих дня в новенькой, с иголочки клинике нейрохирургии, Вдовая Сильвия получила на руки совершенно нелепое заключение, где крупным и неожиданно читабельным почерком было написано, что диагноз нельзя подтвердить из-за пограничного состояния пациентки, но и снять подозрения тоже не представляется возможным из-за того же пограничного состояния. Осанистый широкобровый невролог, выдавший ей заключение, посоветовал дообследоваться в какой-нибудь заграничной клинике. В Израиле, например, или в Германии. «Они там точно сумеют подтвердить заболевание. Ну или исключить его», – поспешно поправился он.
– Это дорого? – спросила Вдовая Сильвия.
– Очень.
– Не знаете, насколько «очень»? – чтоб занять паузу, возникшую, пока складывала в кипу справки и снимки, неловко пошутила она.
– Не могу сказать точно. Счет выставляет клиника. Думаю, как минимум тысяч двадцать долларов.
– Тысяча двадцать?
– Нет, что вы. Тысяч двадцать. То есть двадцать тысяч.
– Очень дорого, – покивала, соглашаясь, Вдовая Сильвия, ругая себя за бестолковость.
– Но здоровье дороже любых денег! – заученно бодрым голосом затараторил невролог, для убедительности широко жестикулируя. На полном запястье блеснул золотом вычурный браслет часов. Он заправил их под рукав халата и продолжил тем же фальшиво-жизнерадостным тоном: – У каждого армянина в родственниках половина страны. Можно подзанять, кредит, в конце концов, оформить. Есть еще благотворительные фонды, но там очередь большая, да и, говоря по правде, – здесь он подался вперед и заговорщицки понизил голос, – денег у них так мало, что, когда выбор стоит между ребенком и взрослым, они помогают детям… Ну вы же понимаете?!
Вдовая Сильвия, заверив, что все понимает, с облегчением откланялась. Время до автобуса терпело, и она решила прогуляться по городу. В гулком переходе, ведущем от крытого рынка к мосту, она набрела на лоточек, торгующий керамическими статуэтками. Нарочито неладные, толстобокие и круглощекие, но невозможно умильные, эти статуэтки не оставляли равнодушными никого – всякий прохожий непременно останавливался и, повертев их в руках, выбирал себе одну или же, посетовав на дороговизну, но все же отпустив какую-нибудь добрую реплику в адрес автора, ретировался. Автор, он же продавец – невысокий, невероятно худющий молодой человек, совершенно смуглый и ослепительно-зеленоглазый, – смущенно благодарил и извинялся, что не может сбавить цену.
– Тогда уж совсем задаром отдавать, – тянул он на певучем севанском наречии, потирая озябшие руки и попеременно постукивая одним ботинком об другой – в переходе было ощутимо холодно.
Вдовая Сильвия сразу приметила для себя статуэтку Мариам.
– Сколько за Богоматерь просите? – спросила она.
Молодой человек, от удивления выкатив глаза, хотел было ответить, но закашлялся и принялся хватать воздух, по-птичьи дергая головой и широко разевая рот. Вдовая Сильвия поспешно обошла прилавок, постучала его по спине, ужаснулась худобе – позвонки выпирали, словно ребра стиральной доски.
– Болеете? – осведомилась участливо она.
– Это почему же?
– Худой очень, – виновато улыбнулась Вдовая Сильвия.
– Ем как не в себя, но все равно не толстею, – улыбнулся молодой человек, трогательным детским жестом утирая глаза краем ладони. Она невольно залюбовалась его необычной красотой: короткостриженые каштановые волосы, смугло-золотистая кожа, матово-зеленые, будто илистые, глаза. Несмотря на свою донную густоту, смотрели они ясно и открыто, и взгляд их был весел и легок.
– Сколько за Богоматерь просите?
– О том, что это святая Мариам, знал только я. Вы – первая, кто об этом догадался. Так что я ее вам задаром отдам.
Вдовая Сильвия воспротивилась, но он решительно замотал головой – и не начинайте! Она оставила ему в благодарность всю еду, которую у себя нашла: горсть шоколадных конфет и яблоко.
– Как вы поняли, что это Мариам? – спросил он на прощание.
Она с минуту разглядывала круглые, в двойных ямочках, детские щеки Богоматери, ее прижатые к полной груди большие руки, мягкие складки фартука, в карманах которых явно что-то лежало: сухофрукты или, может быть, грецкие орехи. Или же, вполне возможно, это были куриные яйца, которые она, причитая, собрала с грядок, ругая бестолковую птицу, несущуюся где попало.
– А я и не поняла, – ответила Вдовая Сильвия. И, чуть поразмыслив, неуверенно предположила: – Сердцем, может, почувствовала?
Вернувшись с кладбища, Вдовая Сильвия первым делом тщательно соскребла с подошв туфель налипшую грязь, протерла их влажной тряпочкой и, вынеся во двор, надела на колья забора. Пусть повисят в тени, вечером уберет. Потом она вымыла лицо и руки обычным хозяйственным мылом, запах которого терпеть не могла, но, свято веря в его дезинфицирующие способности, преданно им пользовалась. Всю одежду, в которой была, она старательно вытряхнула и убрала в шкаф, дверцу которого оставила настежь – тоже до вечера. Солнечный луч, беззастенчиво пробравшись внутрь, тускло забликовал на задней стенке, отразившись в стекле. Издали могло показаться, что там висит картина. На самом деле это был обнесенный стеклом лоскут фланелевой ткани с неровными рваными краями. Узор на нем был откровенно детским: пушистые желтые цыплята и утята, мохнатые облака со смеющимся круглощеким солнышком. Среди вешалок с одеждой этот убранный в раму лоскут смотрелся неуместно и даже нелепо, будто вырванное из одного времени событие, бесцеремонно вставленное в другое. Впрочем, Сильвию это не смущало. Она намеренно распределила внутреннее пространство шкафа таким образом, чтобы каждый раз, когда распахивала дверцу, ее взгляд первым делом падал именно на этот лоскут.
Затеплив перед статуэткой Богоматери принесенные свечки и наспех пообедав, она взялась приводить в порядок комнату для дочери, под которую определила родительскую спальню. Это была лучшая комната в доме: просторная и уединенная, она выходила балконом на огромный, карабкающийся малинником вверх по склону сад. Летом там было прохладно, зимой – наоборот, тепло, и все благодаря солнцу, в разное время года по-разному освещающему западное крыло дома.
Обстановка в родительской спальне не менялась больше полувека, оставаясь такой, какой ее продумала бабушка, когда подготавливала комнату к заселению новобрачных – сына и его избранницы. Вдовая Сильвия любила в той обстановке все: широченный темного дерева шкаф в бронзовой фурнитуре; кровать с низким изголовьем и двумя прикроватными тумбочками с массивными латунными подсвечниками; основательный и толстобокий бельевой сундук, выглядящий неожиданно воздушным благодаря изящной резьбе, украшающей его выпуклую крышку; рассеянный вечерний свет дымчатых плафонов люстры, мягко отражающийся в натертом воском деревянном полу; массивное, обтянутое бархатом цвета выгоревшей травы кресло, в подлокотнике которого, если поддеть его за край и потянуть в сторону, обнаружится пепельница, навсегда пропахшая любимыми отцовскими сигаретами «Двин»… Правда, удобное на вид кресло на поверку оказалось совсем не таким: от неловко изогнутой спинки быстро затекала шея, а слишком жесткое сиденье не располагало к расслабленному отдыху. Потому отец проводил в нем совсем недолгое время, ровно столько, чтобы хватало выкурить пару сигарет и, проигнорировав первые страницы местной газеты, пробежать глазами спортивные новости. Под конец он всегда оставлял фельетоны, которые зачитывал вслух, похохатывая и отмечая прекрасное чувство юмора и отличный стиль. Мать на его похвалы поджимала губы (автор фельетонов, строптивая и своевольная журналистка Шушаник Амирян, снискала себе не очень добрую славу), но вынуждена была соглашаться – написано виртуозно!