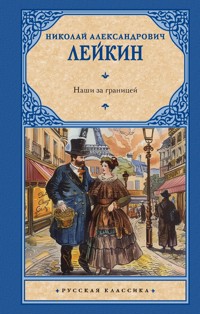Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Николай Александрович Лейкин — в свое время известный петербургский писатель-юморист, журналист, издатель. «Наши за границей» — одно из самых известных произведений Лейкина. Веселое повествование о путешествиях купца Николая Ивановича Иванова и его жены Глафиры Семеновны, о забавных приключениях и всевозможных недоразумениях, которые случаются с героями в чужих краях, настолько понравилось читателям, что Лейкин написал несколько продолжений. «Под южными небесами» — четвертая, и последняя часть этого цикла. Супруги, уже бывалые путешественники, отправляются во Францию, в курортный город Биарриц, где Николай Иванович становится героем газетной хроники, а Глафира Семеновна, выйдя на пляж в купальном костюме, производит настоящий фурор. Затем герои едут в Мадрид, но вскоре покидают Испанию: причиной становится испанский капитан, поклонник Глафиры Семеновны. Лейкин с юмором изображает соотечественников, знакомящихся с чужой историей и культурой, совершающих для себя множество открытий, но неизменно тоскующих за границей по русскому чаепитию с самоваром.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
Подготовка текста и комментарии Аллы Степановой
Лейкин Н.
Наши за границей. Под южными небесами : Юмористическое описание поездки супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Биарриц и Мадрид / Николай Лейкин. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-27005-3
16+
Николай Александрович Лейкин — в свое время известный петербургский писатель-юморист, журналист, издатель. «Наши за границей» — одно из самых известных произведений Лейкина. Веселое повествование о путешествиях купца Николая Ивановича Иванова и его жены Глафиры Семеновны, о забавных приключениях и всевозможных недоразумениях, которые случаются с героями в чужих краях, настолько понравилось читателям, что Лейкин написал несколько продолжений. «Под южными небесами» — четвертая, и последняя часть этого цикла. Супруги, уже бывалые путешественники, отправляются во Францию, в курортный город Биарриц, где Николай Иванович становится героем газетной хроники, а Глафира Семеновна, выйдя на пляж в купальном костюме, производит настоящий фурор. Затем герои едут в Мадрид, но вскоре покидают Испанию: причиной становится испанский капитан, поклонник Глафиры Семеновны. Лейкин с юмором изображает соотечественников, знакомящихся с чужой историей и культурой, совершающих для себя множество открытий, но неизменно тоскующих за границей по русскому чаепитию с самоваром.
© А. С. Степанова, комментарии, 2024
© Оформление.ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024Издательство Азбука®
I
Стояла теплая ясная осень, но по ночам температура воздуха значительно понижалась. Каштановые деревья и белые акации на парижских бульварах давно уже пожелтели и обсыпали тротуары желтым скоробившимся листом. Стоял конец сентября по новому стилю [1]. Был девятый час утра. Каретка общества «Урбен» [2] с кучером в белой лакированной шляпе, выехав из улицы Ришелье в Париже, давно уже тащилась к самому отдаленному от парижского центра железнодорожному вокзалу — к вокзалу Орлеанской железной дороги. Рядом с кучером стоял большой дорожный сундук, залепленный самыми разнообразными цветными бумажными ярлыками с надписями городов и гостиниц. В каретке среди саквояжей, баульчиков, картонок со шляпами и связки с двумя подушками, завернутыми в пледы, сидели русские путешественники супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы. Николай Иванович курил, выпуская изо рта густые струи дыма. Глафира Семеновна морщилась и попрекала мужа.
— На минуту не можешь обойтись без соски, — говорила она и кашлянула. — Учись у французов. Они курят только после еды, а ведь ты как засосешь спозаранку, да так до ночи и тянешь. Все глаза мне задымил... И в нос, и в рот... Брось...
— Да уж докурил. Две-три затяжки только... — спокойно отвечал муж.
— Брось, тебе говорят! Ты видишь, мне першит!
Она вырвала из руки мужа папироску и выкинула за окно кареты.
Карета переехала уже два моста и тащилась по набережной.
— Удивительное дело: сколько раз мы ездили за границу и ни разу не были в Биаррице, — сказал супруг после некоторого молчания.
— Да ведь ты же... — опять набросилась на него Глафира Семеновна. — Всякий раз я говорила тебе, что у меня ревматизм в плече и коленке, что мне нужны морские купанья, но ты не внимаешь. Еще когда мы были на последней Парижской выставке [3], я у тебя просилась съездить покупаться в Трувиль...
— В первый раз слышу.
— Ты все в первый раз слышишь, что до жены касается. У тебя уши уж так устроены. А между тем в Париже на выставке я даже купила себе тогда купальный костюм.
— Ты купила себе, насколько мне помнится, красную шерстяную фуфайку и красные панталоны.
— Так ведь это-то купальный костюм и был. И так зря, ни за что тогда съела у меня в Петербурге моль этот костюм.
— Ну, матушка, если в таком костюме, какой ты купила тогда в Париже, купаться даме при всей публике, то мое почтение! Совсем на акробатический манер...
— Молчите. Что вы понимаете!
— Понимаю, что срам...
— Но если это принято и дамы купаются в костюмах, которые еще срамнее, так неужели же мне отставать? В чужой монастырь с своим уставом не ходят. Впрочем, ведь на купальные костюмы мода, как и на все другое. И я, как приеду в Биарриц, сейчас же куплю себе там самый модный купальный костюм.
— Только уж, прошу тебя, поскромнее.
— Не ваше дело. Какой в моде, такой и куплю.
— Декольты-то этой самой поменьше.
— Мне нечего утаивать. У меня все хорошо, все в порядке. А если так принято...
— Но ведь ты дама хорошего купеческого круга, а не какая-нибудь, с позволения сказать...
— Если есть чем похвастать, то отчего же не похвастать и даме из хорошего купеческого круга? Ведь если бы дама тайком от мужа, а тут... Решительно ничего не вижу предосудительного. Но главное, на морских купаньях это принято, — закончила Глафира Семеновна тоном, не допускающим возражения, и умолкла.
Умолк и Николай Иванович. Он видел, что жена уж начинает его поддразнивать, и знал по опыту, что чем больше он будет ей возражать, тем сильнее она закусит свои удила и будет его поддразнивать. Это состояние супруги он обыкновенно называл «закусить удила».
Карета подъехала к самому вокзалу Орлеанской железной дороги, закоптелому и грязному на вид, и остановилась у подъезда. К карете подскочили носильщики в синих блузах с нумерами на форменных фуражках и стали вынимать из кареты багаж.
— Директ а Биарриц, — сказал Николай Иванович носильщику, вылезая из кареты с пачкой зонтиков и тростей. — Е шерше вагон авек коридор... [4]
— Вуй, вуй [5]. Непременно вагон первого класса с коридором, в котором была бы уборная, — прибавила, в свою очередь, и Глафира Семеновна тоже на ломаном французском языке и пояснила по-русски: — А то эти французские купе каретками с двумя дверями и без уборной — чистое наказание. Ведь более полусуток ехать. Ни поправиться, ни рук вымыть, ни... — улыбнулась она, не договорив, и, кивнув носильщику, опять перешла на французский язык: — Если будет для нас купе с коридором — получите хорошо за услугу.
Носильщик, захватив из кареты мелкие вещи, пошел в вокзал за тележкой для крупного багажа. Глафира Семеновна, опасаясь за свои новые шляпки в картонках, только что купленные в Париже, побежала, слегка переваливаясь с ноги на ногу, за носильщиком и кричала ему, мешая русские слова с французскими:
— Экуте... Же ву при картонки поосторожнее! Се сон ле шапо... Не опрокидывать их... Ту ба... Ву компрене? [6] — спрашивала она, опередив носильщика.
Но тот, полагая, что его подозревают, чтобы он не скрылся с вещами, указал на свой нумер на фуражке и отвечал по-французски:
— Номер шестьдесят девять, мадам... Будьте покойны.
Супруги Ивановы, как и все русские за границей, приехали к поезду еще задолго до его отправления. Даже билетная касса была еще заперта. Они были на вокзале первыми пассажирами. Глафира Семеновна, как всегда, и за это набросилась на мужа.
— Ну вот, целый час ждать поезда. Даже билеты купить нельзя. Ходи и слоняйся, пока откроют кассу. А все ты! — восклицала она. — «Скорей, Глаша! Торопись, Глаша! Не копайся, Глаша!»
— Так что за беда, что рано приехали? — отвечал муж. — Опоздать неприятно, а приехать раньше отлично. Хорошие места себе займем в вагоне с коридором. Ты знаешь, места-то в вагоне с уборной берут чуть не штурмом. Наконец, взявши билеты, пока не впускают еще в поезд, можно пройти в ресторан.
— Нет, насчет ресторана-то ты уж оставь. Кофе мы пили в гостинице, а глотать вино с раннего утра я тебе не позволю.
— Не пить сейчас, но захватить с собой в вагон бутылочку не мешает. Ведь это поезд-экспресс... Летит, как молния... Нигде на станциях не останавливается. Начнется жажда...
— Вздор. С нами пойдет ресторан в поезде.
— Какой же на французских железных дорогах ресторан! Ведь это не неметчина с поездом гармониями.
Носильщик между тем, уложив весь ручной багаж супругов на тележку, тыкал пальцем в тюк с подушками, высовывающимися из пледов, и, улыбаясь, спрашивал:
— Les russes?
— Рюсс, рюсс... — кивнула ему Глафира Семеновна, тоже улыбнувшись, и сказала мужу: — По подушкам узнал.
— Brave nation! [7] — похвалил носильщик русских и прищелкнул языком.
Кассир отворил кассу, и Николай Иванович бросился к его окошечку за билетом.
II
Не прошло и десяти минут, как супруги Ивановы сидели уже в купе вагона первого класса с коридором и уборной — единственном вагоне с коридором во всем поезде.
— Отвоевали себе местечки в удобном вагончике! — радостно и торжественно говорила Глафира Семеновна, располагаясь в купе с своими вещами.
— Да хорошо еще, что такой вагон в поезде-то нашелся, а то иногда во французских поездах с коридором-то и не бывает, — тоже торжествующе отвечал Николай Иванович и на радостях дал носильщику целый франк. — На, получай и моли Бога о здравии раба божьего Николая, — сказал он ему по-русски, но, ощупав в кармане медяки, сунул носильщику и их, прибавив: — Вот тебе и еще ребятишкам на молочишко три французские пятака. С Богом... Мерси... — приветливо махнул он ему рукой.
— Bon voyage, monsieur... [8] — раскланялся с ним носильщик, улыбаясь во всю ширину своего рта по поводу такой особенной щедрости.
Мадам Иванова была так рада удачному занятию мест, что даже перестала придираться к мужу, но, не особенно доверяя себе в том, что вагон их с уборной, тотчас же пошла убедиться в этом.
— Всё в порядке... — любезно подмигнула она мужу. — Раскладывай поскорей вещи-то по сиденьям.
Николай Иванович стал раскладывать вещи.
— Почти еще полчаса до отхода поезда, — говорил он, взглянув на станционные часы. — За что люблю французов? За то, что у них на конечных пунктах, как и у нас в России, заранее в вагоны забираться можно. Ведь вот поезду еще полчаса стоять, а мы уж сидим. Можно и в окошечко посмотреть, публику покритиковать, водицы содовой выпить, газетку купить. Одним словом, без спешки, с прохладцей... А ну-ка, попробуй это в Берлине! Там на станции Фридрихштрассе примчится не ведь откуда поезд и трех минут не стоит. Все бросаются в поезд, как на пожар... вагоны берут чуть не штурмом. Не успеешь даже разглядеть, куда садишься. Носильщик зря бросает в вагон вещи. Некогда пересчитать их. Насилу успеешь сунуть ему никелевые пфенниги за труды — фю-ю-ю, и помчался поезд. А здесь куда проще. Нет, французы нам куда ближе немцев!..
Николай Иванович выглянул в окошко и купил у разносчика газету «Фигаро» [9].
— Зачем ты это? Ведь читать ты не будешь, — заметила ему жена.
— А может быть, кое-что прочту и пойму, — отвечал он. — Во-первых, в «Фигаро» всегда картинка есть. Картинку посмотреть можно. Наконец, о приезжих. Кто из русских в Париж приехал. Это-то уж я всегда понять могу... Да и вообще приятно в путешествии быть с газеткой.
Он надел пенсне, развернул газету и стал смотреть в нее, но тотчас же отложил в сторону.
— Пойду-ка я в буфет... Как ты хочешь, а бутылочку винца надо с собой захватить, — сказал он жене.
— Незачем, — строго остановила его та. — Ты уйдешь из вагона, а здесь увидят, что я одна, и сейчас же займут места в купе.
— Однако, душечка, ведь это экспресс... Поезд полетит без остановки. Нас жажда замучить может. Ведь и тебе не мешает глоточек винца сделать.
— О мне прошу не заботиться... А ваше пьянство за границей мне уже надоело. Стоит только вспомнить Турцию, где мы с тобой были в прошлом году, так и то меня в дрожь бросает. Уж, кажется, турки и народ-то такой, которым вино законом запрещено, но ухитрялся же ты...
— Позволь... Но какое же тут пьянство, если я одну бутылку вина-ординера? [10]
— Сиди... От жажды у меня яблоки с собой есть.
И муж повиновался. Он вышел в коридор и стал смотреть в окошко. Прошли дама с мужчиной. Мужчина был в усах, в светлом пальто и фетровой серой шляпе. Пальто сидело на нем как на вешалке и было далеко не первой свежести. Они говорили по-русски.
«Наверное военный, — подумал про мужчину Николай Иванович. — Не умеют военные за границей статское платье носить».
Догадка его подтвердилась. Мужчина говорил даме:
— Представь себе, мне все кажется, что я где-нибудь свою шашку забыл. Хвачусь за бедро, нет шашки, и даже сердце екнет. Удивительная сила привычки.
Николай Иванович обернулся к жене и сказал:
— С нами в поезде русские едут: мужчина и дама.
— Что ж тут удивительного? Я думаю, даже и не один русский мужчина с дамой, а наверное целый десяток, — отвечала Глафира Семеновна. — Теперь в Биаррице начало русского сезона. Ведь потому-то я тебя туда и везу. Туда русские всегда наезжают на сентябрь месяц и живут до половины октября. Я читала об этом.
Через минуту и в конце коридора послышалась русская речь. Кто-то плевался и произнес:
— Черт знает, какие здесь во Франции папиросы делают! Словно они не табаком, а мочалой набиты. Мочалой набиты да еще керосином политы. Право. Не то керосином, не то кошкой пахнут.
— Глаша! И в нашем вагоне русские сидят, — снова заглянул в купе к жене Николай Иванович.
— Ну вот видишь. Я же говорила тебе... Мадам Кургузова говорила мне в Петербурге, что теперь Биарриц переполнен русскими.
— Но все-таки в поезде не много пассажиров. Разве на пути садиться будут, — заметил супруг, сел на свое место, достал из саквояжа путеводитель Ашетта [11] и развернул карту Южной Франции.
— Конечно же, по пути будут садиться, — продолжал он, смотря в карту. — По пути будет много больших городов. Вот Орлеан... Это где Орлеанская-то дева была. Помнишь Орлеанскую деву? Мы пьесу такую видели [12].
— Еще бы не помнить. Еще в первом акте ты чуть не заснул в театре, — отвечала Глафира Семеновна.
— Уж и заснул! Скажешь тоже... — пробормотал Николай Иванович.
— Однако храпеть начал. С ног срезал... Действительно, эта Орлеанская дева что-то уж очень много ныла. Монологи длинные-предлинные... Но как же спать-то!
— Да не спал я... Брось... Бордо будет по дороге... — рассказывал Николай Иванович. — Это откуда к нам бордоское вино идет. Бордо... Бордо — большой город во Франции. Я читал про него. Торговый город. Вином торгуют. Вот бы нам где остановиться и посмотреть.
— И думать не смей! С какой стати? Поехали в Биарриц, так прямо в Биарриц и проедем.
— Всемирный винный город. При громадной реке город... У нас билеты проездные действительны на пять дней. Остановились бы, так по крайности настоящего бордо попробовали.
— А я вот винных-то этих городов и боюсь, когда с тобой путешествую. Бордо... Пожалуйста, ты эту Борду выкинь из головы.
— Да ведь я ежели говорю, то говорю для самообразования. Путешествие — это самообразование... — доказывал Николай Иванович.
Часы по парижскому времени показывали девять часов тридцать пять минут. Кондуктор провозгласил приглашение садиться в вагоны и стал захлопывать дверцы вагонов, запирая их на задвижки. Раздался свисток обер-кондуктора. Ему откликнулся паровоз, и поезд тронулся.
Глафира Семеновна перекрестилась:
— Давнишняя моя мечта исполняется. Я еду в Биарриц на морские купанья.
III
Поезд-экспресс, постепенно ускоряя ход, вышел из пределов Парижа и несся вовсю, мелькая мимо полустанок, около которых ютились красивые дачные домики парижан, огороженные каменными заборами. С высоты поезда за заборами виднелись садики с фруктовыми деревьями и другими насаждениями, огородики с овощами. Попадались фермы с скученными хозяйственными постройками, пасущиеся на миниатюрных лужках коровы и козы, привязанные на веревках за рога к деревьям, фермерские работники, работающие в синих блузах и колпаках. Некоторые из рабочих, заслыша несшийся на всех парах поезд, переставали работать, втыкали заступы в землю и, уперев руки в бока, тупо смотрели на мелькающие мимо них вагоны. Из придорожных канав вылетали утки, испуганные шумом. Погода стояла прекрасная, солнечная, а потому чуть ли не в каждом домишке сушили белье. Белье сушилось на протянутых веревках, на оголенных от листьев фруктовых деревьях, на балконах и иногда даже на черепичных крышах. Николай Иванович смотрел в окно и воскликнул:
— Да что они, по команде все выстирались, что ли! В каждом домишке стирка.
Вскоре, однако, однообразные, хоть и ласкающие взоры виды приелись. Николай Иванович перестал смотреть в окно и, вооружившись пенсне, снова стал рассматривать карту Франции, приложенную к путеводителю. Смотрел он в карту долго. Тряска вагона мешала ему читать мелкие надписи городов. Но вдруг лицо его прояснилось, и он произнес:
— Мимо каких знаменитых городов-то мы поедем!
— Мимо каких? — задала вопрос Глафира Семеновна, от нечего делать кушавшая шоколадные лепешки из коробки.
— Да мимо Бордо, мимо Ньюи, Медока... Все они тут. Наверное и Шато-Марго тут, и Сан-Жюльен...
— А чем они знамениты, эти города?..
— Бог мой! Чем они знамениты... Да неужели ты не знаешь?.. А еще в хорошем пансионе училась. Ньюи, Медок, Марго, Лафит — это все винные города.
— Какие?
— Винные... Где вино делают.
— Тьфу ты! А я думала, и не ведь чем знамениты! Да разве девиц в пансионе про винные города учат? Я думаю, и у мальчиков-то эти города из географии вычеркивают.
— Нет, у нас учили. Про все хмельные города учили. Я и по сейчас помню, где Херес в испанской земле лежит. У меня в карте, когда я учился, он был даже красными чернилами обведен.
— Хвастайся! Хвастайся! Разве это хорошо? — сказала мужу Глафира Семеновна.
Николай Иванович продолжал разглядывать карту.
— Бордо, Ньюи, Медок... Когда еще в другой раз будем в этих краях — неизвестно. А теперь едем почти что мимо — и вдруг не заехать!
— Опять? И из головы выбрось, и думать об этом не смей!
— Да я так, я ничего... А только, согласись сама, быть у самого источника виноделия и не испробовать на месте — непростительно. Ты женщина молодая, любознательная.
— Пожалуйста, не заговаривайте мне зубы! — строго сказала жена. — Едем мы в Биарриц, и никуда я не сверну до Биаррица... а тем более в хмельные города.
— Батюшки! И Коньяк тут! — воскликнул Николай Иванович, ткнув пальцем в карту. — Глаша! Коньяк! Вот он, не доезжая Бордо, вправо от железной дороги лежит. Знаменитый Коньяк, вылечивший столько лиц во время холеры... Коньяк... Скажи на милость... Ты, душечка, и сама им, кажется, лечилась столько раз от живота? — обратился он к жене.
— Оставь ты меня, пожалуйста, в покое! Не подговаривайся. Никуда я не сверну. Выбрал самый хмельной город и хочет туда свернуть...
— Допустим, что он очень хмельной... но ведь я не ради пьянства хотел бы в нем побывать и посмотреть, как вино делают, а прямо для самообразования...
— Знаю я твое самообразование!
— Для культуры... И главное, как близко от железной дороги этот самый Коньяк. Чуть-чуть в сторону... Сама же ты стоишь за культуру и прогресс...
— Никуда мы не свернем с дороги... — отрезала Глафира Семеновна.
— Да хорошо, хорошо... Слышу я... Но ты посмотри, Глаша, как это близко от железной дороги.
Николай Иванович протянул жене книгу с картой, но та вышибла у него книгу из рук. Он крякнул и стал поднимать с пола книгу.
В это время отворилась дверь купе и на пороге остановился молодой человек в коричневом пиджаке с позументом [13] на воротнике, с карандашом за ухом и в фуражке с надписью по-французски: «Ресторан». Он говорил что-то по-французски. Из речи его супруги поняли только два слова: дежене и дине [14].
— Как?! С нами едет ресторан! — воскликнул Николай Иванович, оживившись. — Глаша! Ресторан! Вот это сюрприз.
— Я говорила тебе, что есть ресторан, — кивнула ему супруга.
— Me коман донк ресторан? [15] — обратился было к гарсону по-французски Николай Иванович, но тут же сбился, не находя французских слов для дальнейшей речи. — Глаша, спроси у него, — коман донк ресторан в поезде, если поезд без гармонии? Как же в вагон-ресторан-то попасть из нашего вагона, если прохода нет?
Начала спрашивать ресторанного гарсона Глафира Семеновна по-французски и тоже сбилась. Гарсон между тем совал билеты на завтрак и разъяснял по-французски, на каких станциях и в какие часы супруги могут выйти из своего вагона во время остановки поезда и пересесть в вагон-ресторан. Билеты были красного цвета и голубые, так как всех желающих завтракать ресторан мог накормить не сразу, а в две смены.
— Дежене? — спросила гарсона Глафира Семеновна и сказала мужу: — Что ж, возьмем два билета на завтрак. Ведь уж если он предлагает билеты, то как-нибудь перетащит нас из нашего вагона в вагон-ресторан.
— Непременно возьмем. Нельзя же не пивши, не евши целые сутки в поезде мчаться. Погибнешь... — радостно отвечал супруг. — Но какие же билеты взять: красные или голубые?
— Да уж бери какие дороже, чтобы кошатиной не накормили. Кель при? [16] — задала гарсону вопрос Глафира Семеновна, указывая на голубой билет.
— Quatre francs, madame... — отвечалтот. — Mais vous payez après.
— Четыре франка за голубой билет, — пояснила она мужу. — А платить потом.
— А красный билет почем? Гуж, биле руж комбьян? — спросил Николай Иванович гарсона, тыкая в красный билет.
— La même prix, monsieur, — и гарсон опять заговорил что-то по-французски.
— И красные, и голубые билеты одной цены, — перевела мужу Глафира Семеновна.
Значение разного цвета билетов супруги не поняли.
— Странно... Зачем же тогда делать разного цвета билеты, если они одной цены?.. — произнес Николай Иванович и спросил жену: — Так какого же цвета брать билеты? По красному или по голубому будем завтракать?
— Да уж бери красные на счастье, — был ответ со стороны супруги.
Николай Иванович взял два красные билета. Гарсон поклонился и исчез, захлопнув дверь купе.
IV
В полдень на какой-то станции, не доезжая до Орлеана, была остановка. Кондукторы прокричали, что поезд стоит столько-то минут. По коридору вагона шли пассажиры, направляясь к выходу. Из слова «déjeuner», несколько раз произнесенного в их французской речи, супруги Ивановы поняли, что пассажиры направляются в вагон-ресторан завтракать. Всполошились и они. Глафира Семеновна захватила свой сак, в котором у нее находились туалетные принадлежности и бриллианты, и тоже начала выходить из вагона. Супруг ее следовал за ней.
— Скорей, скорей, — торопила она его. — Иначе поезд тронется и мы не успеем в вагон-ресторан войти. Да брось ты закуривать папироску-то! Ведь за едой не будешь курить.
Выскочив на платформу, они побежали в вагон-ресторан, находившийся во главе поезда, и лишь только вскочили на тормаз [17] вагона-ресторана, как кондукторы начали уже захлопывать купе — и поезд тронулся.
Супруги испуганно переглянулись.
— Что это? Боже мой... Поезд-то уж поехал. Глаша, как же мы потом попадем к себе в купе? — испуганно спросил жену Николай Иванович.
— А уж это придется сделать при следующей остановке, — пояснил русский, стоящий впереди их пожилой коренастый мужчина в дорожной легкой шапочке.
— Ах, вы русский? — улыбнулся Николай Иванович. — Очень приятно встретиться на чужбине с своим соотечественником. Иванов из Петербурга. А вот жена моя Глафира Семеновна.
— Полковник... из Петербурга, — пробормотал свою фамилию пожилой и коренастый мужчина, которую, однако, Николай Иванович не успел расслышать, поклонился Глафире Семеновне и продолжал: — В этом поезде много русских едет.
— Да, мы слышали в Париже на станции, как разговаривали по-русски.
— Позвольте, полковник, — начала Глафира Семеновна. — Вот мы теперь в ресторане... Но как же наш багаж-то ручной в купе? Никто его не тронет?
— Кто же может тронуть, сударыня, если теперь поезд в ходу? А при следующей остановке вы уж сядете в ваше купе.
— Да-да, Глаша... Об этом беспокоиться нечего. Да и что же у нас там осталось? Подушки да пледы, — сказал Глафире Семеновне муж.
— А шляпки мои ты ни во что не считаешь? У меня там четыре шляпки. Неприятно будет, если даже их начнут только вынимать и рассматривать.
— Кто же будет их рассматривать? Никто не решится. У тебя везде на коробках написана по-русски твоя фамилия. А здесь, во Франции, ты сама знаешь, «вив ля Рюсси»... [18] К русским все с большим уважением. Вы в Биарриц изволите ехать, полковник? — спросил Николай Иванович пожилого господина.
— Да ведь туда теперь направлено русское паломничество. Ну и мы за другими потянулись. Там теперь русский сезон.
— И мы в Биарриц. Жене нужно полечиться морскими купаньями.
Разговор этот происходил на тормазе вагона, так как публика, скопившаяся в вагоне-ресторане, еще не уселась за столики и войти туда было пока невозможно.
У входа в ресторан метрдотель, с галуном [19] на воротнике жакета и с карандашом за ухом, спрашивал билеты на завтрак.
Полковник в круглой дорожной шапочке дал билет метрдотелю и проскользнул в ресторан, но когда супруги Ивановы подали свои билеты метрдотелю, тот не принял билеты и супругов Ивановых в ресторан не впускал, заговорив что-то по-французски.
— Me коман донк?.. Дежене... Ну вулон дежене... Вуаля биле... [20] — возмутился Николай Иванович. — Глаша! Что же это такое!? Навязали билеты и потом с ними не впускают!
— Почем же я-то знаю? Требуй, чтобы впустили, — отвечала Глафира Семеновна. — Экуте... Пуркуа ву не лесе на? Вуаля ле билье [21], — обратилась она к метрдотелю.
Опять объяснение на французском языке, почему супругов не пускают в ресторан, но из этого объяснения они опять ничего не поняли и только видели, что их в ресторан не впускают.
— Билеты на завтрак были двух сортов и, очевидно, двух цен, — сказала Глафира Семеновна мужу. — Ты по своему сквалыжничеству взял те, которые подешевле, а теперь дежене за дорогую плату, и вот нас не впускают.
— Да нет же, душечка... Ведь мы об этом спрашивали.
— Однако видишь же, что нас не впускают. Должно быть, гарсон, который приходил к нам в купе, наврал нам. Ах, и вечно ты все перепутаешь! Вот разиня-то! Ничего тебе нельзя поручить! Ну, что мы теперь делать будем? Ведь это скандал! Ну, куда мы теперь? — набросилась Глафира Семеновна на мужа. — Не стоять же нам здесь, на тормазе... А в купе к себе попасть нельзя. Ведь это ужас что такое! Да что же ты стоишь, глаза-то выпучив?! Ведь ты муж, ты должен заступиться за жену! Требуй, чтобы нас впустили в ресторан! Ну, приплати ему к нашему красному билету... Скажи ему, что мы вдвое заплатим. Но нельзя же нам здесь стоять!
Николай Иванович растерялся.
— Ах, душечка... Если бы я мог все это сказать по-французски... Но ведь ты сама знаешь, что я плохо... — пробормотал он. — Все, что я могу, — это дать ему в ухо.
— Дурак! В ухо... Но ведь потом сам сядешь за ухо-то в тюрьму! — воскликнула она и сама с пеной у рта набросилась на метрдотеля: — By деве лесе... [22] Не имеете права не впускать! Се билде руж, доне муа билле бле... Прене анкор и доне... [23] Мы вдвое заплатим. Ну сом рюсс... [24] Прене дубль... Николай Иваныч, дай ему золотой... Покажи ему золотой...
Рассвирепел и Николай Иванович.
— Да что с ним разговаривать! Входи в ресторан, да и делу конец! — закричал он и сильным движением отпихнул метрдотеля, протискал в ресторан Глафиру Семеновну, ворвался сам и продолжал вопить: — Протокол! Сию минуту протокол! Где жандарм? У жандарм? Он, наверное, заступится за нас. Мы русские... Дружественная держава... Нельзя так оскорблять дружественную нацию, чтоб заставлять ее стоять на тормазе, не впускать в ресторан! Папье и плюм!.. [25] Протокол. Давай перо и бумагу!..
Он искал стола, где бы присесть для составления протокола, но все столы были заняты. За ними сидели начавшие уже завтракать пассажиры и в недоумении смотрели на кричавшего и размахивающего руками Николая Ивановича.
К Николаю Ивановичу подскочил полковник в дорожной шапочке, тоже уж было усевшийся за столик для завтрака.
— Милейший соотечественник! Что такое случилось? Что произошло? — спрашивал он.
— Ах, отлично, что вы здесь. Будьте свидетелем. Я хочу составить протокол, — отвечал Николай Иванович. — Папье, плюм и анкр... [26] Гарсон, плюм!
— Да что случилось-то?
— Вообразите, мы взяли билеты на завтрак, вышли из своего купе, и вот эта гладкобритая морда с карандашом за ухом не впускает нас в ресторан. Я ему показываю билеты при входе, а он не впускает. Вас впустил, а меня не впускает и бормочет какую-то ерунду, которую я не понимаю. Жена ему говорит, что мы вдвойне заплатим, если наши билеты дешевле... дубль... а он, мерзавец, загораживает нам дорогу. Видит, что я с дамой, и не уважает даже даму... Не уважает, что мы русские... И вот я хочу составить протокол, чтобы передать его на следующей станции начальнику станции. Ведь это черт знает что такое! — развел Николай Иванович руками и хлопнул себя по бедрам.
— Позвольте, позвольте... Да вы мне покажите прежде ваши билеты, — сказал ему полковник.
— Да вот они...
Полковник посмотрел на билеты, прочел на них надпись и проговорил:
— Ну, вот видите... Ваши билеты на второй черед завтрака, а теперь завтракают те, которые пожелали завтракать в первый черед. Теперь завтракают по голубым билетам, а у вас красные. Ваш черед по красным билетам завтракать при следующей остановке, в Орлеане, когда мы в Орлеан приедем. Вы рано вышли из купе.
Николай Иванович стал приходить в себя.
— Глаша! Слышишь? — сказал он жене.
— Слышу. Но какое же он имеет право заставлять нас стоять на тормазе! — откликнулась Глафира Семеновна. — Не впускать в ресторан!
— Конечно, вы правы, мадам, но ведь и в ресторане поместиться негде. Вы видите, все столы заняты, — сказал полковник.
— Однако впусти в ресторан и не заставляй стоять на тормазе. Ведь вот мы все-таки вошли в него и стоим, — проговорил Николай Иванович, все более и более успокаивавшийся. — Так составлять протокол, Глаша? — спросил он жену.
— Брось.
За столами супругам Ивановым не было места, но им все-таки в проходе между столов поставили два складных стула, на которые они и уселись в ожидании своей очереди для завтрака.
V
Супругам Ивановым пришлось приступить к завтраку только в Орлеане, около двух часов дня, когда поезд, остановившийся на орлеанской станции, позволил пассажирам, завтракавшим в первую очередь, удалиться из вагона-ресторана в свои купе. Быстро заняли они первый освободившийся столик со скатертью, залитою вином, с стоявшими еще на нем тарелками, на которых лежала кожура от фруктов и огрызки белого хлеба. Хотя гарсоны все это тотчас же сняли и накрыли стол чистой скатертью, поставив на нее чистые приборы, Николай Иванович был хмур и ворчал на порядки вагона-ресторана.
— В два часа завтрак... Где это видано, чтобы в два часа завтракать! Ведь это уж не завтрак, а обед, — говорил он, тыкая вилкой в тонкий ломоток колбасы, поданной им на закуску, хотел переправить его себе в рот, но сейчас от сильного толчка несшегося на всех парах экспресса ткнул себе вилкой в щеку и уронил под стол кусок колбасы.
Он понес себе в рот второй кусок колбасы и тут же ткнул себя вилкой в верхнюю губу, до того была сильна тряска. Кусок колбасы свалился ему за жилет.
— Словно криворотый... — заметила ему Глафира Семеновна.
— Да тут, матушка, при этой цивилизации, где поезд вскачь мчится по шестидесяти верст в час, никакой рот не спасет. В глаз вилкой можно себе угодить, а не только в щеку или в губу. Ну, цивилизация! Окриветь из-за нее можно.
Николай Иванович с сердцем откинул вилку и положил себе в рот последний оставшийся кусочек колбасы прямо рукой.
— И что бы им в Орлеане-то остановиться на полчаса для завтрака, по крайности люди поели бы по-человечески, — продолжал он. — А с ножа если есть, то того и гляди, что рот себе до ушей прорежешь.
— Это оттого, что ты сердишься, — опять заметила жена.
— Да как же не сердиться-то, милая? Заставили выйти из купе для завтрака в двенадцать часов, а кормят в два. Да еще в ресторан-то не пускают. Стой на дыбах два часа на тормазе. Хорошо, что я возмутился и силой в вагон влез. Нет, это не французы. Французы этого с русскими не сделали бы. Ведь этот ресторан-то принадлежит американскому обществу спальных вагонов [27], — сказал Николай Иванович.
— Но ведь гарсоны-то французы.
— То был не гарсон, что нас не впускал, то был метрдотель, а у него рожа как есть американская, только говорил-то он по-французски.
Подали яичницу. Приходилось опять есть вилкой, но Николай Иванович сунул вилку в руку гарсону и сказал:
— Ложку... Кюльер... Тащи сюда кюльер... Апорте... Фуршет не годится... Заколоться можно с фуршет... By компрене?
Гарсон улыбнулся и подал две ложки.
— Ешь и ты, Глашенька, ложкой. А то долго ли до греха? — сказал жене Николай Иванович.
— Словно в сумасшедшем доме... — пробормотала супруга, однако послушалась мужа.
Ложками супруги ели и два мясных блюда, и ломтики сыру, поданные вместо десерта.
Завтрак кончился. Николай Иванович успел выпить бутылку вина и развеселился. За кофе метрдотель, тот самый, который не впускал их в вагон, подал им счет. Николай Иванович пристально посмотрел на него и спросил:
— Америкен? Янки?
Последовал отрицательный ответ.
— Врешь! Америкен. По роже вижу, что американец! — погрозил ему пальцем Николай Иванович. — Не французская, брат, у тебя физиономия.
— Je suis suisse...
— Швейцарец, — пояснила Глафира Семеновна.
— Ну, вот это так. Это пожалуй!.. — кивнул ему Николай Иванович. — Всемирной лакейской нации, поставляющей также и швейцаров, и гувернеров на весь свет. Это еще почище американца. Нехорошо, брат, нехорошо. Швейцарская нация коли уж пошла в услужение ко всей Европе, то должна себя держать учтиво с гостями. Иль не фо па комса [28], как давеча.
Метрдотель слушал и не понимал, что ему говорят. С поданного ему супругами золотого он сдал сдачи и насыпал на тарелку множество мелочи.
— Что ж, давать ему на чай за его невежество или не давать? — обратился Николай Иванович к жене. — По-настоящему не следует давать. Вишь, рожа-то у него!
— Да рожа-то у него не злобная, — откликнулась супруга. — А мы действительно немножко и сами виноваты, что, не спросясь брода, сунулись в воду... Может быть, у них и в самом деле порядки, чтобы не пускать, если в поезде такая цивилизация, что он бежит с рестораном.
— Ну, я дам. Русский человек зла не помнит, — решил Николай Иванович и, протянув метрдотелю две полуфранковые монеты, прибавил: — Вот тебе, швейцарская морда, на чай. Только на будущее время держи себя с русскими в аккурате.
Метрдотель поклонился и поблагодарил.
— Зачем же ты ругаешься-то, Николай? — заметила мужу Глафира Семеновна. — Нехорошо.
— Ведь он все равно ничего не понимает. А мне за свои деньги отчего же не поругать? — был ответ.
— Тут русские есть в столовой. Они могут услышать и осудить.
Часу в четвертом поезд остановился на какой-то станции на три минуты и можно было перейти из вагона-ресторана в купе. Супруги опрометью бросились из него занимать свои места. Когда они достигли своего купе, то увидели, что у них в купе сидит пассажир с подстриженной а-ля Генрих IV бородкой [29], весь обложенный французскими газетами. Пассажир оказался французом. Читая газету, он курил и, когда Глафира Семеновна вошла в купе, обратился к ней с вопросом на французском языке, не потревожит ли ее его курение.
— Если вам неприятен табачный дым, то я сейчас брошу сигару, — прибавил он.
Она поморщилась, но просила его курить.
Николай Иванович тотчас же воскликнул:
— Вот видишь, видишь! Француз сейчас скажется. У него совсем другое обращение. У них все на учтивости. Разве может он быть таким невежей, как давешняя швейцарская морда, заставлявшая нас стоять на тормазе! Me комплиман, монсье... Вив ли Франс... Ну — рюсс... [30] — ткнул он себя пальцем в грудь и поклонился французу.
Француз тоже приподнял свою дорожную испанскую фуражку.
— Зачем ты это? С какой стати расшаркиваться! — сказала мужу Глафира Семеновна.
— Ничего, матушка. Маслом кашу не испортишь. А ему за учтивость — учтивость.
Поезд продолжал стоять. Вошел кондуктор, попросил билеты и, увидав, что супруги едут в Биарриц, сообщил, что в Бордо им надо пересаживаться в другой вагон. Фраза «шанже ля вуатюр» была хорошо известна Николаю Ивановичу, и он воскликнул:
— Коман шанже ля вуатюр? А нам сказали, что ту директ... Коман?
— Коман шанже? Сет вагон е пур Биарриц... — возмутилась, в свою очередь, Глафира Семеновна.
— Нет, мадам, в Бордо в шесть часов вечера вы должны переменить поезд, — опять сказал ей кондуктор по-французски, поклонился и исчез из купе.
— Боже мой! Это опять пересаживаться! Как я не терплю этой пересадки! — вырвалось у Глафиры Семеновны.
VI
В 6 часов вечера были в Бордо. Поезд вошел под роскошный, но плохо освещенный навес из стекла и железа. Пассажирам, едущим в Биарриц, пришлось пересаживаться в другой вагон. Супруги Ивановы всполошились. Явился носильщик в синей блузе. Глафира Семеновна сама сняла с сетки свои картонки со шляпами.
— Как ты хочешь, а эти две картонки я не могу поручить носильщику, — говорила она мужу. — Неси ты сам...
Николай Иванович сделал недовольное лицо.
— Но это же, душечка... — начал было он.
— Неси, неси. Вот эта шляпка стоит восемьдесят три франка. Больше четырех золотых я за нее заплатила в Париже. А носильщик потащит ее как-нибудь боком — и что из нее будет! Неси....
И муж очутился с двумя картонками в руках.
— Биарриц... Вагон авек коридор, же ву при... [31] — скомандовала Глафира Семеновна носильщику и торопила его.
— Будьте покойны, мадам... Времени много вам. Здесь вы будете сорок минут стоять, — отвечал ей старичок-носильщик и поплелся как черепаха.
Поезд в Биарриц был уже готов, но стоял на противоположной стороне вокзала, на другом пути. Это был поезд Южной дороги [32]. В нем уже сидели пассажиры.
— Вагон авек коридор, авек туалет, — напоминала носильщику Глафира Семеновна, но в поезде не было ни одного вагона с коридором.
Все вагоны были старого французского образца с купе, у которых двери отворялись с двух сторон.
— Варвары! — сказала она. — Вот вам и французы! Вот вам и цивилизованная нация, а не может понять, что вагоны без уборной быть не могут.
Пришлось садиться в тесноватое купе, где уже сидела пожилая дама, горбоносая, в усах и с маленькой мохнатой собачонкой в руках. Собачонка ворчала и лаяла на супругов, когда они садились.
— Приятное соседство, нечего сказать... — ворчала Глафира Семеновна и крикнула на мужа: — Тише ты с картонками-то! Ведь в них не репа.
Николай Иванович промолчал и стал располагаться у окошка. Через минуту он взглянул на часы и проговорил:
— Полчаса еще нам здесь в Бордо стоять. Бордо... Такой счастливый случай, что мы в знаменитом винном городе Бордо... Пойду-ка я в буфет да захвачу с собой бутылочку настоящего бордоского вина.
— Сиди! Пьяница! Только и думает об вине! — огрызнулась на него супруга.
Она была раздражена, что в поезде нет вагона с коридором, и продолжала:
— Нет, в деле удобств для публики в вагонах мы, русские, куда опередили французов! У нас в первом классе, куда бы ты ни ехал, так тебе везде уборная, отличный умывальник, зеркало и все, что угодно.
— Зато здесь рестораны в поездах... — попробовал заметить супруг.
— Тебе только бы одни рестораны. Вот ненасытная-то утроба... Пить, пить и пить. Как ты не лопнешь, я удивляюсь!
Николай Иванович пожал плечами и, показав глазами на усатую соседку, тихо пробормотал:
— Душечка, удержись хоть при посторонних-то! Неловко.
— Все равно эта собачница ничего не понимает.
— Однако она может по тону догадаться, что ты ругаешься.
— Не учите меня! Болван!
Муж умолк, но через пять минут посмотрел на часы и сказал со вздохом:
— Однако здесь мы могли бы отлично пообедать в ресторане. Бог знает когда еще потом поезд остановится, а теперь уже седьмой час.
— Вот прорва-то! — воскликнула супруга. — Да неужели ты есть еще хочешь? Ведь ты в три часа только позавтракал. Ведь тебе для чего ресторан нужен? Только для того, чтобы винища налопаться.
— Не ради винища... Что мне винище? А я гляжу вперед. Теперь есть не хочется, так в девять-то часов вечера как захочется! А поезд летит, как птица, и остановки нет.
— Не умрешь от голоду. Вот гарсон булки с ветчиной продает, — кивнула Глафира Семеновна в открытое окно на протягивающего свой лоток буфетного мальчика. — Купи и запасись.
— Да, надо будет взять что-нибудь, — сказал Николай Иванович, выглянул в окошко и купил четыре маленькие булочки с ветчиной и сыром.
— Куда ты такую уйму булок взял? — опять крикнула ему супруга.
— Я и для тебя, душечка, одну штучку...
— Не стану я есть. У меня не два желудка. Это только ты ненасытный. Впрочем, у него виноград есть. Купи мне у него винограду тарелочку и бутылку содовой воды.
— Вот тебе виноград, вот тебе содовая вода.
Глафира Семеновна стала утихать.
— Там у него, кажется, груши есть? Возьми мне штуки три груш.
Куплены и груши.
— Прихвати еще коробочку шоколаду. У него шоколад есть.
Куплен и шоколад. Глафира Семеновна обложилась купленным десертом и принялась уписывать виноград. Николай Иванович с аппетитом ел булку с ветчиной. Поезд тронулся. Собачонка на руках у усатой дамы залаяла. Дама дернула ее за ухо. Собака завизжала.
— Хороший покой нам будет в дороге от этой собаки, — проговорила Глафира Семеновна. — То лает, то визжит, подлая. Ведь этак она, пожалуй, соснуть не даст. Да и хозяйка-то собачья своими усами и носом испугать может, если на нее взглянешь спросонья. Совсем ведьма.
Николай Иванович, видя, что к супруге его несколько вернулось расположение духа, с сожалением говорил:
— Бордо, Бордо... Какой мы случай-то хороший опустили! Были в Бордо и не выпили настоящего бордо. Похвастаться бы потом в Петербурге можно было, что вот так и так, в самом бордоском винограднике пил бордо.
— И так похвастаться можешь. Никто проверять не будет, — отвечала супруга.
— Но еще Бордо — Бог с ним! А что в Коньяк мы не заехали, так просто обидно! — продолжал он. — Век себе не прощу. И ведь как близко были! Чуть-чуть не доезжая Бордо в сторону... А все ты, Глаша!
— Да, я... И радуюсь этому...
— Есть чему радоваться! Это была бы наша гордость, если бы мы побывали в Коньяке. Оттуда бы я мог написать письмо Рукогрееву. Пусть бы он затылок себе расчесал от зависти. Вином человек иностранным торгует, а сам ни в одном винном городе не бывал. А мы вот и не торгуем вином, да были. Даже в Коньяке были! Шик-то какой! И написал бы я ему письмо из Коньяка так: «Коньяк, такого-то сентября. И сообщаю тебе, любезный Гаврила Осипович, что мы остановились в Коньяке, сидим в коньяковском винограднике и смакуем настоящий коньяк финь-шампань». Каково? — подмигнул жене Николай Иванович.
— Брось. Надоел, — оборвала его супруга, взглянула на даму с усами и проговорила: — И неужели эта ведьма усатая поедет с нами вплоть до Биаррица?!
Молчавшая до сего времени усатая дама вспыхнула, сердито повела бровями и ответила на чистом русском языке:
— Ошибаетесь, милая моя! Я не ведьма, а вдова статского советника и кавалера! [33] Да-с.
VII
Выслушав эти слова, произнесенные усатой дамой, Глафира Семеновна покраснела до ушей и мгновенно уподобилась Лотовой жене, превратившейся в соляной столб [34]. Разница была только та, что Лотова жена окаменела стоя, а мадам Иванова застыла сидя. Она во все глаза смотрела на мужа, но глаза ее были без выражения. Сам Николай Иванович не совсем растерялся и мог даже вымолвить после некоторой паузы:
— Вот так штука! А вы, мадам, зачем же притворились француженкой? — задал он вопрос усатой даме, но не смотря на нее, а устремив взор в темное пространство в окошке.
— Никем я, милостивый государь, не притворялась, а сидела и молчала, — отвечала усатая дама.
— Молчали, слушали, как мы с женой перебраниваемся, и не подали голоса — вот за это и поплатились, — произнес он опять, несколько помолчав. — А мы не виноваты. Мы приняли вас за француженку.
— Еще смеете оправдываться! Невежа! Кругом виноват и оправдывается! — продолжала усатая дама. — И вы невежа, и ваша супруга невежа!
— Вот и сквитались. Очень рад, что вы нас обругали.
— Нет, этого мало для таких нахалов.
— Ну, обругайте нас еще. Обругайте, сколько нужно, — вот и будем квит.
— Я женщина воспитанная и на это не способна.
Она отвернулась, прилегла головой к спинке вагона и уж больше не выговорила ни слова.
Глафира Семеновна стала приходить в себя. Она тяжело вздохнула и покрутила головой. Через минуту она вынула носовой платок, отерла влажный лоб и взглянула на мужа. На глазах ее показались слезы, до того ей было досадно на себя. Муж подмигнул ей и развел руками. Затем она попробовала улыбнуться, но улыбки не вышло. Она кивнула головой на отвернувшуюся от них усатую даму и опять тяжело вздохнула. Николай Иванович махнул жене рукой: дескать, брось. Они разговаривали жестами, глазами. Собачонка, лежавшая на коленях усатой дамы, видя, что Николай Иванович машет руками, опять зарычала. Усатая дама, не оборачиваясь, слегка ударила ее по спине.
— Вот дьявольская-то собачонка! — прошептал Николай Иванович, наклоняясь к жене.
Та ничего не отвечала, но достала из саквояжа флакон со спиртом и понюхала спирт. Очевидно, она волновалась.
— Успокойся... Все уладилось... — опять шепнул муж, наклоняясь к ней и кивая на усатую даму. — Спит, — прибавил он.
— Как обманулись! В какой переплет попали! — прошептала наконец и Глафира Семеновна.
— Еще смирна она. Другая бы как заголосила, — отвечал супруг шепотом и опять махнул рукой.
Махнула рукой и супруга, несколько повеселев, и принялась есть грушу себе в утешение.
Покончив с парой груш, она стала дремать и наконец улеглась на диван, поджав ноги. Клевал носом и Николай Иванович. Вскоре они заснули.
························································
Когда супруги Ивановы проснулись, поезд стоял. Дверь их купе со стороны, где сидела усатая дама, была растворена, но ни самой дамы, ни ее собаки не было. Не было и ее вещей в сетках. Шел дождь. Завывал ветер. По платформе бегали кондукторы и кричали:
— Bayonne! Bayonne! [35]
— Что это? уж не приехали ли мы в Биарриц? — спрашивал жену Николай Иванович, протирая глаза.
— А почем же я-то знаю? Надо спросить, — отвечала та.
Но спрашивать не пришлось. В их вагон вскочил обер-кондуктор в плаще с башлыком [36], спросил у них билеты, отобрал их и сообщил, что через пятнадцать минут будет Биарриц.
— Ну слава Богу! — пробормотала Глафира Семеновна. — Скоро будем на месте. Но какова погода! — прибавила она, кивнув на окно, за которым шумел дождь.
— Каторжная, — отвечал муж.
— А усатая ведьма провалилась?
— На какой-то станции исчезла, но на какой, я не знаю, я спал.
— Да и я спала. И как это мы не могли понять, что эта усатая морда русская!
— Да ведь она притворилась француженкой. Даже собачонке своей сказала по-французски: «Куш» [37].
— С собаками всегда по-французски говорят.
Глафира Семеновна суетилась и прибирала свои вещи, связывала ремнями подушку, завернутую в плед.
Поезд опять тронулся. Николай Иванович опять вспомнил о Коньяке.
— Ах, Коньяк, Коньяк! — вздыхал он. — Какой город-то мы мимо проехали! О Бордо и Ньюи я не жалею, что мы в них не заехали, но о городе Коньяке...
— Молчи, пожалуйста. И без Коньяка нарвались и вляпались, а уж возвращались бы из Коньяка, так что же бы это было!
— Да ведь ты же назвала, а не я эту усатую мадам ведьмой. А как меня-то ты при ней ругала! — вспомнил он. — И дурак-то я, и болван.
— Ты этого стоишь.
В окне сверкнула молния, и сейчас же загремел гром.
— Гроза... — сказал Николай Иванович. — В такую грозу приедем в незнакомый город...
Супруга разделяла его тревогу.
— Да-да... — поддакнула она. — Есть ли еще крытые экипажи? Если нет, то как я с своими шляпками в легоньких картонках?.. Пробьет насквозь и шляпки превратит в кисель. Слышишь... Если на станции нет карет, то я со станции ни ногой, покуда дождь не перестанет.
— Наверное есть. Наверное есть и омнибусы с проводниками из гостиниц. Такой модный город — да чтоб не быть! Но вот вопрос: в какой гостинице мы остановимся? Мы никакой гостиницы не знаем.
— А скажем извозчику наугад. Наверное уж есть в городе «Готель де Франс». Вот в «Готель де Франс» и остановимся, — решила Глафира Семеновна.
— Ну, в «Готель де Франс», так в «Готель де Франс», — согласился Николай Иванович.
Глафира Семеновна прибралась с вещами и уселась.
— Говорят, здесь испанская земля начинается, хоть и принадлежит эта земля французам, — начала она. — Мне Марья Ивановна сказывала. В гостиницах лакеи и горничные испанцы и испанки. Извозчики испанцы.
— Вот посмотрим на испаночек, — проговорил муж, осклабясь. — До сих пор видел испаночек только в увеселительных садах на сцене, а тут вблизи, бок о бок...
— А ты уж и рад? У тебя уж и черти в глазах забегали! — вскинулась на него супруга.
Николай Иванович опешил.
— Душечка, да ведь я на твои же слова... — пробормотал он.
— То-то на мои слова! смотри у меня!
Поезд убавлял ход и наконец остановился на плохо освещенной станции.
— Биарриц! Биарриц! — кричали кондукторы.
Дверь купе отворилась. Вбежал носильщик в синей блузе и заговорил на ломаном французском языке. Что он говорил, супруги не понимали.
— Испанец, — сказала Глафира Семеновна мужу про носильщика. — Слышишь, как он говорит-то? И меня синьорой называет. — Вуатюр пур ну... [38] «Готель де Франс», — объявила она носильщику.
Супруги вышли из купе и поплелись за носильщиком.
У станции стояли и кареты, и омнибусы. Нашлась и «Готель де Франс», супруги не обманулись. Был на станции и проводник из «Готель де Франс». Он усадил супругов в шестиместный омнибус, поставил около Глафиры Семеновны ее картонки со шляпками и побежал с багажной квитанцией за сундуком супругов.
А дождь так и лил, так и хлестал в стекла окон омнибуса. По временам завывал ветер, сверкала молния и гремел гром. Была буря. Омнибус, в ожидании багажа, стоял около плохо освещенного одним газовым фонарем станционного подъезда. Площадь перед станцией была вовсе не освещена, и чернелось совсем темное пространство. На подъезде переругивались носильщики на непонятном языке, который супруги принимали за испанский, но который был на самом деле местный язык басков. Все было хмуро, неприветливо. Николай Иванович взглянул на часы и сказал:
— По парижскому времени четверть одиннадцатого. Достанем ли еще чего-нибудь поесть-то в гостинице? Есть как волк хочу, — прибавил он. — Две порции румштека подавай — и то проглочу!
— Уж и поесть! Хоть бы кофе или чаю с молоком и булками дали — и то хорошо! — откликнулась супруга.
Но вот сундук принесен и взвален на крышу омнибуса, проводник вскочил на козлы, и лошади помчались по совершенно темному пространству. Ни направо, ни налево не было фонарей. Глафира Семеновна была в тревоге.
— Уж туда ли нас везут-то? — говорила она. — В гостиницу ли? Смотри, какая темнота...
— А то куда же? — спросил супруг.
— Да кто же их знает! Может быть, в какое-нибудь воровское гнездо, в какой-нибудь вертеп. Ты видал проводника-то из гостиницы? Рожа у него самая разбойничья, самая подозрительная.
— Однако у него на шапке надпись «Готель де Франс».
— Да ведь можно и перерядиться, чтобы ограбить. Что меня смущает — это темнота.
— Полно... Что ты... Разве это возможно? — успокаивал супруг Глафиру Семеновну, а между тем уж и сам чувствовал, что у него холодные мурашки забегали по спине.
— Главное — то, что мы в карете одни. Никто с нами в эту гостиницу не едет, а приехали в Биарриц много, — продолжала супруга.
— Не думаю я, чтобы здесь проделывали такие штуки. Европейское модное купальное место.
— Да, модное, но здесь испанская земля начинается, а испанцы, ты, я думаю, сам читал, — нож у них на первом плане... нож... разбойничество...
Николай Иванович чувствовал, что бледнеет. Он выглянул в открытое дверное окно омнибуса и затем произнес дрожащим голосом:
— В самом деле, по лесу едем. Стволы деревьев направо, стволы деревьев налево, и никакого жилья по дороге. Не вынуть ли револьвер? Он у меня в саквояже, — сказал он жене.
— Да ведь он у тебя не заряжен.
— Можно зарядить сейчас. Патроны-то у тебя... Ах, патроны-то ведь в багажном сундуке, а сундук на крыше омнибуса!
— Ну, вот ты всегда так! — набросилась на мужа Глафира Семеновна. — Стоит возить с собой револьвер, если он не заряжен! А вот начнут на нас нападать — нам и защищаться нечем.
— Да ведь никто не знает, что не заряжен. Все-таки им можно напугать. Я выну его.
И Николай Иванович стал отворять саквояж.
— Постой... Погоди... Фонари появились... Улица... Мы выехали из леса... — остановила мужа Глафира Семеновна.
Действительно, выехали из леса. Ехали улицей с мелькавшими кое-где газовыми фонарями. То там, то сям попадались постройки. На одной из них виднелась даже вывеска: «Hôtel de Bayoune». Наконец постройки пошли уж вплотную.
— Ну, слава Богу, город... здесь если что случится, так и караул закричать можно. Услышат... — сказала Глафира Семеновна и перекрестилась.
Николай Иванович тоже ободрился и тотчас же стал упрекать жену:
— Какая ты, однако, трусиха... Это ужас что такое!
— Да ведь и ты то же самое...
— Я? Я ни в одном глазе...
— Однако за револьвером полез.
— Это чтоб тебя успокоить.
А дождь так и лил, ветер так и завывал, гремя железными вывесками.
Омнибус остановился перед железной решеткой, за которой виднелся двухэтажный дом с освещенной фонарем вывеской «Hôtel de France», висевшей над входной дверью. Из двери выбежал мужчина с непокрытой головой и с распущенным зонтиком, отворил дверцы омнибуса и, протянув руку Глафире Семеновне, помог ей выйти и под зонтиком проводил ее до входа.
Сзади ее перебежал и Николай Иванович.
Супруга стояла в швейцарской и говорила:
— Коробки со шляпками... Бога ради, коробки со шляпками чтоб не замочило! Ле картон авек де шапо... ля плюй... же ву при, авек параплюи... [39] Николай Иваныч, бери зонтики и беги в карету за коробками.
VIII
Комната в гостинице осмотрена супругами. Цена сообщена. Их сопровождал хозяин-француз, тот самый, который выскочил из гостиницы с зонтиком к Глафире Семеновне.
— Дорого... — сказал Николай Иванович в ответ на объявленную цену. — Се шер... [40] Больше шер, чем в Париже. А Пари дешевле...
Он хотел было торговаться, но Глафира Семеновна перебила его.
— Брось... Биарриц ведь самое дорогое, самое модное место, — сказала она. — Здесь само собой дороже Парижа.
— Модное-то модное, но почем знать: может быть, мы не в центре города, а в каком-нибудь захолустье? Да и верно, что в захолустье, судя по той пустынной дороге, по которой мы ехали.
— А если это в захолустье, то ночь переночуем, а завтра и переедем. Ведь завтра утром пойдем смотреть город и увидим, в захолустье это или в центре.
Пока они разговаривали по-русски, француз-хозяин хлопал глазами.
— Если вы возьмете у нас полный пансион, то, разумеется, вам обойдется дешевле, — проговорил он по-французски.
Глафира Семеновна перевела мужу.
— Какой тут пансион! — воскликнул тот. — Надо прежде испытать завтра — чем и как здесь кормят, а потом уж уговариваться о пансионе. Нон, нон, пансион демен, завтра пансион, — дал он ответ хозяину. — А апрезан — доне ну дю тэ... тэ рюсс... русский чай и манже [41], манже побольше. Глаша! Ты лучше меня говоришь. Скажи ему, чтоб подали нам чаю, молока, кипятку к чаю и поесть чего-нибудь.
Начала ломать французский язык Глафира Семеновна. Хозяин понял и объяснил, что еды теперь он никакой не может дать, кроме хлеба, масла и яиц, так как кухня уже заперта. Она перевела мужу.
— Ну, черт его дери, пусть даст к чаю хоть хлеба с маслом и яйца.
Хозяин ушел. В комнату начали вносить картонки, саквояжи, баульчики, подушки. Явилась в комнату молоденькая заспанная горничная в черном платье и белом чепце и стала приготовлять постели и умывальник. Глафира Семеновна раздевалась, снимала с себя корсаж и надевала ночную кофточку. Николай Иванович сердился и говорил:
— И как это они здесь за границей свою кухню везде берегут! Кухня и повар словно какая-то святыня. Еще нет одиннадцати часов, а уж и кухня закрыта, и ничего достать поесть горячего нельзя. Мы, русские, на этот счет куда от иностранцев вперед ушли! У нас в Петербурге, да и вообще в России, в какую хочешь захолустную гостиницу приезжай ночью до полуночи, то тебе уж всегда чего-нибудь горячего поесть подадут, а холодного — ветчины, телятины, ростбифа — так и под утро дадут. Разбудят повара и дадут. А здесь в хорошей гостинице только в одиннадцатом часу — и уж отказ: кухня заперта, его превосходительства господина повара на месте нет.
— Ну что делать, в чужой монастырь с своим уставом не ходят, — откликнулась умывавшаяся супруга. — Такие уж здесь порядки.
— Да пойми ты: я есть хочу, есть, я путешественник и приехал под защиту гостиницы. Гостиница должна быть для меня домом, как это у нас в России и есть. Ведь это гостиница, а не ресторан. А я в ней и холодной еды себе вечером достать не могу, — доказывал Николай Иванович.
Девушка принесла в номер чай, сервированный на мельхиоре, две булочки, два листочка масла, но яиц не было.
— Пуркуа без еф? Яйца нужно! Еф! — воскликнул Николай Иванович.
Но горничная заговорила что-то на непонятном для супругов языке.
— Испанка, должно быть, — сказала Глафира Семеновна. — Эспаньоль? — спросила она девушку.
— Non, madame... Basque... — дала ответ горничная.
— Баска она.
— Что же она про яйца говорит?
— Ничего понять не могла я. Да брось. У меня в корзинке два хлебца с ветчиной есть, которые ты купил в Бордо, — вот и съешь их.
— Ах, Бордо, Бордо! Вот видишь, как Бордо нам помог, а ты не хотела в этот город заехать! — проговорил Николай Иванович. — Ну, баска, уходи, проваливай, — махнул он рукой остановившейся горничной и смотревшей на него недоумевающими глазами. — Да никак она и кипятку к чаю не подала? — взглянул он на поднос с чаем.
— Подать-то подала, но меньше чайной ложки, в маленьком молочничке, — отвечала жена и покачала головой. — Не могут они научиться, как русские чай пить любят, а еще имеют здесь в Биаррице так называемый русский сезон.
— Да-да, — подхватил Николай Иванович. — К англичанам приноравливаются, англичанам и чай приготовляют по-английски, и английские сандвичи делают, пудинги английские в табльдотах подают, хотя эти пудинги никто не ест за столом, кроме англичан, а для русских — ничего. А русских теперь за границей не меньше, чем англичан, да и денег они тратят больше. Черти! закоснелые черти! — выбранился он и принялся есть хлебцы с ветчиной, купленные в Бордо, запивая их английским скипяченным и доведенным до цвета ваксы чаем.
Хлебцы с ветчиной опять навеяли ему воспоминание о Бордо и о других винных городах, мимо которых он проехал, и он снова принялся вздыхать, что не побывали в них.
— Ах, Бордо, Бордо! Но о Борде я не жалею. Но вот за город Коньяк — никогда я себе не прощу...
— Да уж слышали, слышали. Я думаю, что пора и бросить. Надоел, — оборвала его супруга.
— Эдакий знаменитый винный город...
— Брось, тебе говорят, иначе я погашу свечи и лягу спать.
— Хорошо, я замолчу. Но я удивляюсь твоей нелюбознательности. Женщина ты просвещенная, объездила всю Европу, а тут в Коньяке, который лежал нам по пути, имели мы возможность испробовать у самого источника...
Глафира Семеновна задула одну из свечей.
— Не замолчишь, так я и вторую загашу, — сказала она.
— Какая настойчивость! Какая нетерпеливость! — пожал плечами муж и зажег погашенную свечку.
— Надоел... Понимаешь ты, надоел! Все одно и то же, все одно и то же... Коньяк, Коньяк...
— А ты хочешь, чтобы я говорил только об одних твоих шляпках, купленных тобой в Париже?...
— Как это глупо!
Глафира Семеновна, кушавшая в это время грушу, рассердилась, оставила грушу недоеденною и начала ложиться спать.
Николай Иванович умолк. Он поел, зевал и стал тоже приготовляться ко сну, снимая с себя пиджак и жилет.
На дворе по-прежнему ревела буря, ветер завывал в каменной трубе, а дождь так и хлестал в окна, заставляя вздрагивать деревянные ставни, которыми они были прикрыты.
— Погода-то петербургская, нужды нет, что мы в Биаррице, на юге Франции, — сказал он.
— Не забудь запереть дверь на ключ да убери свой бумажник и паспорт под подушку, — командовала ему супруга.
— Ну вот... Ведь мы в гостинице. Неужели уж в гостинице-то?.. — проговорил супруг.
— А кто ее знает, какая это гостиница! Приехали ночью, не видали ни людей, ни обстановки. Да наконец, давеча сам же ты говорил, что, может быть, эта гостиница находится где-нибудь на окраине города, в захолустье. Сундук давеча внес к нам в комнату совсем подозрительный человек: черный, как жук, и смотрит исподлобья.
— Хорошо. Вот этого совета послушаюсь.
Николай Иванович положил под подушку часы, бумажник и стал влезать на французскую высокую кровать, поставив около себя, на ночном столике, зажженную свечку.
В трубе опять завыло от нового порыва ветра.
— Холодновато, холодновато здесь на юге, — пробормотал он, укрываясь, по французскому обычаю, периной. — Как мы завтра в море-то купаться полезем? Поди, и вода-то теперь от такого ветра холодная, такая же, как у нас в Петербурге.
— Ну вот... Ведь здесь купаются в костюмах, а костюмы эти шерстяные. В костюмах не будет так уж очень холодно. Все-таки в одежде, — отвечала Глафира Семеновна.
Через пять минут супруги спали.
IX
Ночью утихла буря, перестал дождь, и наутро, когда Николай Иванович проснулся, он увидел, что в окна их комнаты светит яркое южное солнце. Он проснулся первый и принялся будить жену. Глафира Семеновна проснулась, потянулась на постели и сказала: