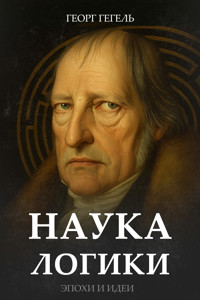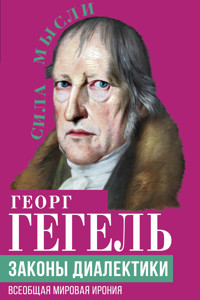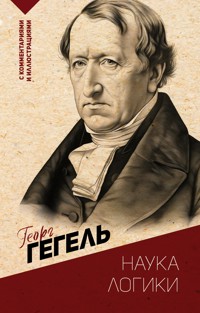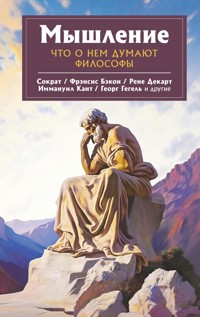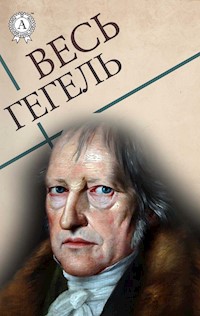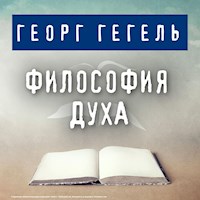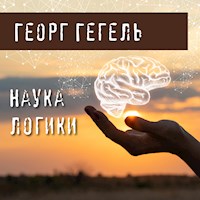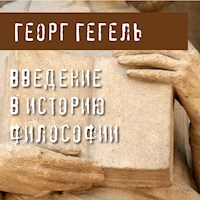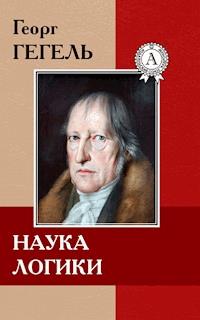
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
"Наука логики" - один из фундаментальных трудов Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831) – немецкого философа, одного из создателей немецкой классической философии, последовательного теоретика философии романтизма. Понятие абсолютной идеи, чистого разума пронизывает все гегелевское учение. Логика служит для абсолютной идеи стихией чистоты. Там, где царит чистая мысль, пребывает истина. Наука логики Гегеля в полной мере излагает предназначение и содержание абсолютной идеи. Георг Фридрих Гегель развивал содержание логики с помощью диалектического метода. Его девиз – "Противоречие ведет вперед". Логическая идея, она же абсолютный разум, существовала до начала мира. Проходя через бессознательное в природе и сознательное в человеке, она достигает наивысшего развития в философии, религии, искусстве. Идеи великого немецкого философа воплотились в его трудах "Учение о бытии", "Учение о сущности", "Учение о понятии".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 994
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Наука логики
Георг Вильгельм Фридрих Гегель
«Наука логики» — один из фундаментальных трудов Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) — немецкого философа, одного из создателей немецкой классической философии, последовательного теоретика философии романтизма.
Понятие абсолютной идеи, чистого разума пронизывает все гегелевское учение. Логика служит для абсолютной идеи стихией чистоты. Там, где царит чистая мысль, пребывает истина. Наука логики Гегеля в полной мере излагает предназначение и содержание абсолютной идеи.
Георг Фридрих Гегель развивал содержание логики с помощью диалектического метода. Его девиз — «Противоречие ведет вперед». Логическая идея, она же абсолютный разум, существовала до начала мира. Проходя через бессознательное в природе и сознательное в человеке, она достигает наивысшего развития в философии, религии, искусстве. Идеи великого немецкого философа воплотились в его трудах «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии».
Георг Гегель
НАУКА ЛОГИКИ
Предисловие к «Науке логики» Гегеля
«Наука логики» является главным произведением Гегеля, сыгравшим выдающуюся роль в истории развития диалектического метода и в подготовке диалектического материализма.
Известна высокая оценка этого произведения основоположниками марксизма-ленинизма, несмотря на весь идеализм, на всю «мистику идей», содержащиеся в «Науке логики». «Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля есть диалектический метод — это крайне замечательно. И еще одно: в этом самом идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма.
«Противоречиво», но факт!». Известно, что Маркс, работая над своей книгой «К критике политической экономии», явившейся первым печатным наброском «Капитала», перечитывал Логику Гегеля и даже собирался «в объеме 2–3 печатных листов сделать доступным общему человеческому рассудку то разумное в методе, что Гегель открыл и вместе с тем затемнил». Известно, наконец, указание Ленина о том, что «нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля».
В произведениях Маркса, Энгельса и Ленина имеется очень много ценнейших указаний относительно того, как надо изучать Логику Гегеля, чтобы извлечь из этого изучения положительную пользу. «Гегелевская диалектика, — пишет Маркс, — является основной формой всякой диалектики, но лишь после очищения ее от ее мистической формы, а это-то как раз и отличает от нее мой метод». «Маркс был и остается, — писал Энгельс в 1859 г., — единственным человеком, который мог взять на себя труд высвободить из гегелевской логики то ядро, которое заключает в себе действительные открытия Гегеля в этой области; и восстановить диалектический метод, освобожденный от его идеалистических оболочек, в той простой форме, в которой он только и становится правильной формой развития мыслей».
VI Энгельс скромно умалчивает тут о том, что он тоже участвовал в этом грандиозном деле критической переработки идеалистической диалектики Гегеля и в разработке на основе этой критики нового метода и нового мировоззрения, составивших новую эпоху в истории человечества.
Продолжателем этого грандиозного дела явился Ленин.
Он оставил нам гениальный конспект «Науки логики» Гегеля, в котором с исключительной глубиной вскрыл как сильные, так и слабые стороны гегелевской диалектики. Ленин указывает: «Логику Гегеля нельзя применять в данном ее виде; нельзя брать как данное. Из нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от мистики идей: это еще большая работа». Как надо проделывать эту работу, показывают нам все философские, да и не только философские сочинения Ленина. Наиболее непосредственное отношение к этому имеют уже упомянутый конспект «Науки логики», «План диалектики (логики) Гегеля» и фрагмент «К вопросу о диалектике». Эти работы Ленина мы и предпосылаем тексту самой «Логики», чтобы у читателя всегда имелось перед глазами гениальнейшее руководство и наилучший компас для ориентирования в самых сложных вопросах, связанных с изучением гегелевской Логики.
«Я вообще, — пишет Ленин, — стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу) — т. е. я выкидываю большей частью боженьку, абсолют, чистую идею etc.». И Ленин на множестве конкретных примеров конкретно показывает, как надо «переворачивать» Гегеля с головы на ноги, как надо извлекать ценное ядро из мистической оболочки. При этом Ленин везде и всюду ведет самую непримиримую борьбу против идеализма, мистики, поповщины, беспощадно разоблачая философскую «ахинею» и тарабарщину и давая свои собственные, гениальные по своей глубине и четкости, ответы на возникающие при чтении Гегеля вопросы.
Свой конспект «Науки логики» Гегеля Ленин писал в конце 1914 г., а фрагмент «К вопросу о диалектике» — в 1915 или 1916 г., т. е. во время мировой империалистической войны, накануне Великой Социалистической революции в СССР.
Одновременно с работой над Гегелем Ленин работал над книгой «Империализм как высшая стадия капитализма» (написана весной 1916 г.), в которой дан гениальный диалектико-материалистический анализ империализма. Какое значение Ленин придавал изучению диалектики Гегеля, видно из того, что в 1922 г. он снова вернулся к этому вопросу и в статье «О значении воинствующего материализма» призывал к «систематическому изучению диалектики Гегеля с материалистической точки зрения», рекомендовал журналу «Под знаменем марксизма» печатать «отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много».
Конкретизируя и развивая дальше учение Маркса применительно к новым условиям борьбы пролетариата в эпоху империализма и пролетарских революций, Ленин внес новый ценнейший вклад во все составные части марксизма, в том числе и в философскую часть, в материалистическую диалектику, которая, как говорит товарищ Сталин, является «душою марксизма». Ленин продвинул вперед разработку диалектики, как философской науки. Он справедливо упрекал Плеханова в том, что тот совершенно упустил из вида эту кардинальную задачу: «Плеханов написал о философии (диалектике), вероятно, до 1000 страниц… Из них о большой логике, по поводу нее, ее мысли (т. е. собственно диалектика, как философская наука) nil!!».
Дело Ленина с огромным успехом продолжается товарищем Сталиным. В работах товарища Сталина материалистическая диалектика Маркса, Энгельса и Ленина развивается, конкретизируется и разрабатывается дальше со всех сторон, с исключительной глубиной, применительно к новому материалу мировой истории. Товарищ Сталин находит время для того, чтобы давать специальные указания работникам философского фронта. На основе этих указаний были разоблачены и разгромлены идеологические вредители на философском фронте — меныпевиствующие идеалисты и механисты, теоретические оруженосцы контрреволюционного троцкизма и правых реставраторов капитализма. Меныпевиствующие идеалисты и механисты приложили свою грязную руку также и к философскому наследству Гегеля, выдавая плохо переваренную, талмудизированную или идеалистическую диалектику Гегеля за материалистическую диалектику марксизма (меныпевиствующие идеалисты) или третируя Гегеля как «мертвую собаку» (механисты). Хотя обе эти разновидности идеологического вредительства разоблачены и разгромлены, но это не значит, что борьба с ними закончена: необходимо выкорчевать до конца все остатки вражеских «теорий».
VIII Новое издание «Науки логики» Гегеля должно послужить делу дальнейшего повышения культурного уровня наших работников идеологического фронта. Оно должно дать стимул к более углубленному изучению и разработке проблем диалектического материализма на основе материалистической критики идеалистической диалектики Гегеля и ее материалистической переработки.
«Наука логики» Гегеля — так называемая «Большая логика» — была написана Гегелем в нюрнбергский период его деятельности. Первая часть вышла в начале 1812 г., вторая — в 1813 г., третья — в 1816 г. Это было время крупнейших мировых событий. Во Франции только что прогремела на весь мир буржуазная революция 1789 г. Вслед за этим на европейском континенте достиг невиданного могущества вышедший из французской революции Наполеон I, буржуазное правительство которого «задушило французскую революцию и сохранило только те результаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии» (Сталин). После ряда лет блестящих военных успехов, сопровождавшихся частичным уничтожением феодальных порядков в таких странах, как Германия, Наполеон был побежден антифранцузской коалицией, использовавшей широкое национальное движение народных масс, поднявшихся против французского владычества. В Европе восторжествовала реакция. За всеми этими событиями Гегель следил с глубочайшим интересом, живя в небольшом захолустном городке отсталой, раздробленной Германии и выполняя там функции гимназического профессора философии и директора гимназии. В этих условиях он и создал свой великий труд, преобразовавший всю до того существовавшую логику.
В 1831 г., перед самой своей смертью, Гегель приступил к переработке своей «Большой логики» для нового издания. Он успел это сделать только в отношении первой части («Учение о бытии»), которая в результате этой переработки значительно увеличилась в своем объеме. В этом переработанном и расширенном виде первая часть «Науки логики» была издана учеником Гегеля Леопольдом фон Геннингом уже после смерти Гегеля в виде III тома Собрания его сочинений (1833). Две остальные части составили IV и V томы Собрания сочинений и вышли в свет в 1834 г. В 1841 г. все эти три тома были переизданы по тексту издания 1833–1834 гг.
С тех пор до 20-х годов XX в. не было ни одного издания этого важнейшего произведения Гегеля. Лишь в 1923 г. «гегелевед» пастор Георг Лассон выпустил новое, «научно-критическое» издание «Большой логики». Лассон задался целью дать научно проверенный текст на основании сличения всех трех предыдущих изданий «Логики», осуществленных либо самим Гегелем, либо его непосредственными учениками. Лассону действительно удалось внести несколько ценных исправлений и устранить ряд несомненных опечаток предыдущих изданий.
Однако, наряду с этими достоинствами, издание Лассона страдает существенными недостатками: 1) далеко не все опечатки старых изданий исправлены им; 2) в даваемом им тексте появилось значительное количество новых опечаток, которых не было в предыдущих изданиях и которые остались неотмеченными в приложенном к изданию Лассона списке опечаток; 3) не все изменения текста оговорены Лассоном в даваемом им перечне разночтений, вопреки его уверению в противном, и 4) не все конъектуры, предложенные Лассоном, могут быть признаны удачными.
Ввиду этих недостатков лассоновского издания оно не могло быть целиком положено в основу настоящего нового перевода «Науки логики». Пришлось провести сплошную сверку лассоновского текста с текстом издания Глокнера (Штутгарт 1928), фототипически воспроизводящего издание 1833–1834 гг. Этим путем были устранены лассоновские опечатки. Что же касается конъектур, предложенных Лассоном, то все они были подвергнуты тщательному обсуждению, причем часть из них была отвергнута и вместо них переводчиком были выдвинуты другие конъектуры, в соответствии с которыми и был сделан перевод. В примечаниях указаны все наиболее важные случаи такого рода. Там же указаны и важнейшие опечатки, имеющиеся в издании 1833–1834 гг. и перешедшие в издание Лассона. Опечатки же, исправленные Лассоном, а равно и те опечатки, которые имеются только в издании Лассона, в примечаниях не отмечаются, как не отмечаются и те исправления Лассона, которые были признаны бесспорными.
То обстоятельство, что до сих пор не существует подлинно научного издания «Науки логики», которое давало бы окончательно установленный, строго выверенный текст, несомненно значительно осложняло и без того трудную задачу перевода этого труднейшего произведения Гегеля.
При переводе были приняты во внимание и по возможности использованы все в высшей степени ценные указания Маркса, Энгельса и Ленина, относящиеся к «Логике» Гегеля. Были приняты ьо внимание также и все существующие переводы «Большой логики» на европейские языки. Таких переводов имеется три.
Первым по времени появления был русский перевод Н. Г. Дебольского (Петроград 1916). Он был сделан с издания 1841 г, которое дает наихудший текст, так как к опечаткам предыдущих изданий оно прибавляет новые, почти не исправляя старых.
Перевод Дебольского изобилует грубыми ошибками и нередко сводится к совершенно лишенному смысла механическому набору слов. Приведем несколько кратких примеров. На стр. 1–2 первой части Дебольский пишет: «Если логика признается вообще наукой о мышлении, то под этим (обычно) понимается, что это мышление составляет только форму познаний, что логика отвлекает (!) от всякого содержания и что так называемая вторая часть рассудка (!?), составляющая познание, материя, должна быть взята откуда-то извне». У Гегеля же сказано: «Если в общем логику признают наукой о мышлении, то под этим понимают, что это мышление представляет собой лишь голую форму некоторого познания, что логика абстрагирует от всякого содержания и что так называемая вторая составная часть всякого познания, материя, должна быть дана откуда-то извне».. На стр. 34 Дебольский пишет: «Если разрушится мир, то незыблемыми останутся развалины», между тем как в тексте сказано: «Даже если бы на него обрушился весь мир, он без страха встретит смерть под его развалинами». На стр. 40 немецкое слово «Selbstlaut», означающее «гласная», переведено словами «собственный звук». Грубые, совершенно непростительные ошибки Дебольский умудряется делать даже в таких местах, где у Гегеля совершенно простым, вполне удобопонятным языком говорится о самых простых, элементарных вещах. Например, на стр. 212 перевода Дебольского (часть I, кн. 1-я) мы читаем (речь идет о параллелограмах): «Если даны две такие фигуры, имеющие одинаковые основание и высоту, из коих одна прямоугольная, другая же косоугольная, образующая с первой очень тупой угол (?), то образ (?) второй легко может показаться более (стиль! — Ред.), чем образ (?) первой». У Гегеля же сказано: «Если даны две такие фигуры, имеющие одинаковые основания и высоты, причем одна из них прямоугольная, а другая — с очень острыми углами (и, стало быть, с очень тупыми углами на другом конце), то последняя фигура легко может показаться созерцанию большей, чем первая, поскольку…» и т. д.
Всего грубых ошибок в переводе Дебольского можно насчитать значительно больше тысячи.
Перевод Дебольского страдает также тем недостатком, что он совершенно механически передает везде одинаково такие выражения как «aufheben» или «fur sich»: первое всегда передается у Дебольского словом «снять», второе — словами «для себя».
Между тем в немецком языке «aufheben» в большинстве случаев означает просто «устранить», и именно в этом смысле оно употребляется, например, у Канта, а также нередко и у Гегеля. В настоящем новом переводе «aufheben» переводится двояким образом: XI там, где оно имеет специфически-гегелевское отрицательно- положительное значение, оно передается словом «снять»; там же, где оно имеет чисто отрицательное значение, оно передается словом «устранить» или «упразднить». Дебольский же доходит в своем механическом унификаторстве до того, что даже в приводимых у Гегеля цитатах из Канта он переводит «aufheben» через «снять», что прямо нелепо. Подобным же образом и «fur sich» даже там переводится у Дебольского словами «для себя» (вместо: «само по себе», «особо», «самостоятельно»), где это приводит к бессмыслице (например, Дебольский пишет: «Долженствование содержит для себя предел», тогда как у Гегеля сказано: «Долженствование, взятое само по себе, содержит в себе предел»).
Никакого научного аппарата Дебольский не дает, если не считать маленького алфавитного указателя и кратких объяснений (не всегда правильных) некоторых терминов.
Итальянский перевод вышел в 1924–1925 гг. и принадлежит Артуру Мони. В основу перевода положено издание 1841 г., но переводчик сличал его с изданием Лассона и использовал целый ряд исправлений Лассона. Перевод Мони содержит всякого рода ошибки. Даваемые Мони подстрочные примечания имеют по большей части случайный характер и мало облегчают понимание текста. Ни предметного, ни именного указателя Мони не дает.
Английский перевод вышел в 1929 г. и принадлежит двум ученикам профессора Мак-Таггарта (автора весьма плоского «Комментария к гегелевской «Логике», Кэмбридж 1910) — Джонстону и Струзерсу. При всех своих достоинствах этот перевод содержит в себе немало отдельных ошибок и ляпсусов и, кроме того, в нем чувствуется некоторая общая тенденция переводчиков упростить многосложную ткань диалектических рассуждений Гегеля, смазать их диалектическую суть в духе плоского «Комментария» их учителя Мак-Таггарта. Никакого научного аппарата Джонстон и Струзерс не дают, отсылая читателей все к тому же «Комментарию» Мак-Таггарта. Перевод сделан по изданию Лассона, причем авторы перевода совершенно некритически отнеслись к даваемому Лассоном тексту и воспроизвели все его недостатки.
Новый перевод «Науки логики» выполнен Б. Г. Столпнером.
Сверка перевода произведена В. К. Брушлинским. Им же составлены примечания и указатели. Редактирование принадлежит М. Б. Митину. В настоящий V том Собрания сочинений Гегеля входит вся так называемая «Объективная логика» («Учение о XII ПРЕДИСЛОВИЕ К «НАУКЕ ЛОГИКИ» ГЕГЕЛЯ бытии» и «Учение о сущности»). «Субъективная логика» («Учение о понятии») составит VI том Собрания сочинений. Ей будет предпослана та часть ленинского «Конспекта», которая относится к «Учению о понятии». После ленинского «Конспекта» будет дана статья о логике Гегеля и диалектическом материализме.
К VI тому будет приложен исчерпывающий именной указатель и подробный аналитический предметный указатель к обеим частям «Науки логики», а также немецко-русский и русско-немецкий словарик главнейших терминов гегелевской «Логики» и краткая библиография «Науки логики».
Институт философии Академии наук СССР
Ленини. К вопросу о диалектике
1916 ИЛИ 1916 Г. БЕРН
Раздвоение единого и познание противоречивых частей его (см. цитату из Филона о Гераклите в начале III части («О познании») лассалевского Гераклита[1]) есть суть (одна из «сущностей», одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в своей «Метафизике» постоянно бьется около этого и борется с Гераклитом respective с гераклитовскими идеями) Правильность этой стороны содержания диалектики должна быть проверена историей науки. На эту сторону диалектики обычно (например, у Плеханова) обращают недостаточно внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров («например, зерно»; «например, первобытный коммунизм». То же у Энгельса. Но это «для популярности»…), а не как закон познания (и закон объективного мира).
В математике + и -. Дифференциал и интеграл.
Механике действие и противодействие.
Физике положительное и отрицательное электричество.
Химии соединение и диссоциация атомов.
Общественной науке классовая борьба.
Тождество противоположностей («единство» их, может быть, вернее сказать хотя различие терминов тождество и единство здесь не особенно существенно. В известном смысле оба верны) есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в том числе). Условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их, как единства. Запись «К вопросу о диалектике» сделана Лениным в тетради арх. № 18693, вслед за записью конспекта книги Лассаля о Гераклите противоположностей. Развитие есть «борьба» противоположностей. Две основные (или две возможные или две в истории наблюдающиеся) концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и увеличение, как повторение, и развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними). При первой концепции движения остается в тени самодвижение, его двигательная сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, субъект etc.).
При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника «само» движения. Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая — жизненна. Только вторая дает ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и возникновению нового.
Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение.
INВ: отличие субъективизма (скептицизма и софистики etc.) от диалектики, между прочим, то, что в (объективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для субъективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное.
У Маркса в «Капитале» сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение буржуазного (товарного) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой «клеточке» буржуазного общества) все противоречия (respective зародыш всех противоречий) современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, в его отдельных частей, от его начала до его конца.
Таков же должен быть метод изложения (respective изучения) диалектики вообще (ибо диалектика буржуазного общества у Маркса есть лишь частный случай диалектики). Начать с самого простого, обычного, массовидного etc., с предложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика: отдельное есть общее (ср. Aristoteles, Metaphysik, перевод Швеглера Bd. II, S. 40, 3 Buch, 4 Capitel, 8–9: «denn naturlich kann man nicht der Meinung sein, dass es ein Haus — дом вообще — gebe ausser den sichtbaren Hausern», «ou????(??»). Значит, противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного.
Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д.
Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами). И т. д. Уже здесь есть элементы, зачатки, понятия необходимости, объективной связи природы etc. Случайное и необходимое, явление и сущность имеются уже здесь, ибо говоря: Иван есть человек, Жучка есть собака, это есть лист дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков, как случайные, мы отделяем существенное от являющегося и противополагаем одно другому.
Таким образом в любом предложении можно (и должно), как в «ячейке» («клеточке»), вскрыть зачатки всех элементов диалектики, показав таким образом, что всему познанию человека вообще свойственна диалектика. А естествознание показывает нам (и опять-таки это надо показать на любом простейшем примере) объективную природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей.
Диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую «сторону» дела (это не «сторона» дела, а суть дела) не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах.
«Так как, конечно, нельзя думать, что дом вообще существует вне видимых домов». Ред.
Познание в виде ряда кругов представляет и Гегель (см. Логику) — и современный «гносеолог» естествознания, эклектик, враг гегелевщины (коей он не понял!) Paul Volkmann (см. его Erkenntniss-theoretische Grundzuge S.) «Круги» в философии: Античная: от Возрождение: обязательна Демокрита ли хронология насчет лиц. Нет! до Платона и диалектики Гераклита.
Декарт versus Gassendi (Spinoza). II Новая: Гольбах — Гегель (через Беркли, Юм, Кант). Гегель — Фейербах — Маркс. 1 Диалектика как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действительности (с философской системой, растущей в целое из каждого оттенка) — вот неизмеримо богатое содержание по сравнению с «метафизическим» материализмом, основная беда коего есть неумение применить диалектику к Bildertheorie[2], к процессу и развитию познания.
Философский идеализм есть только чепуха с точки зрения материализма грубого, простого, метафизического. Наоборот, с точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное, uberschwengliches (Dietzgen) развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный. Идеализм есть поповщина. Верно. Но идеализм философский есть («вернее» и «кроме того») дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного знания (диалектического) человека.
Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов).
Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, субъективизм и субъективная слепота voila гносеологические корни идеализма. А у поповщины (философского идеализма), конечно, есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, объективного, абсолютного человеческого познания.
План диалектики (логики) Гегеля
1915 Г. БЕРН ОГЛАВЛЕНИЕ МАЛОЙ ЛОГИКИ (ЭНЦИКЛОПЕДИИ)
I. Учение о бытии.
А) Качество:
а) бытие;
b) наличное бытие;
c) для-себя-бытие.
B) Количество:
а) чистое количество;
b) величина (Quantum);
c) степень.
C) Мера.
II. Учение о сущности.
А) Сущность, как основа существования:
a) тождество — различие — основа;
b) существование;
c) вещь.
В) Явление:
a) мир явления;
b) содержание и форма;
c) отношение.
С) Действительность:
a) отношение субстанциальности;
b) каузальности;
c) взаимодействие %.
III. Учение о понятии.
А) Субъективное понятие:
a) понятие;
b) суждение;
c) заключение.
B) Объект:
a) механизм;
b) химизм;
c) телеология.
C) Идея:
a) жизнь;
b) познание;
c) абсолютная идея.
Понятие (познание) в бытии (в непосредственных явлениях) открывает сущность (закон причины, тождество, различие etc.) — таков действительно о б щи и ход всего человеческого познания (всей пауки) вообще. Таков ход и естествознания и политической экономии и истории.
Диалектика Гегеля есть, постольку, обобщение истории мысли. Чрезвычайно благодарной кажется задача проследить сие конкретнее, подробнее, на истории отдельных наук. В логике история мысли должна, в общем и целом, совпадать с законами мышления.
Бросается в глаза, что иногда Гегель идет от абстрактного к конкретному (бытие (абстрактное) — определенное бытие (конкретное) — для себя бытие), — иногда наоборот (субъективное понятие — объект — истина (абсолютная идея)). Не есть ли это непоследовательность идеалиста (то, что Маркс называл мистикой идей у Гегеля). Или есть более глубокие резоны (например, бытие ничто — идея становления, развития). Сначала мелькают, впечатления, затем выделяется нечто, — потом развиваются понятия качества (определения вещи или явления) и количества. Затем изучение и размышление направляют мысль — все течет к познанию тождества — различия — основы— сущности versus явления, — причинности etc.
Все эти моменты (шаги, ступени, процессы, познания направляются от субъекта к объекту) проверяясь практикой и приходя через эту проверку к истине (= абсолютной идее).
Качество и ощущение одно и то же, говорит Фейербах. Самым первым и самым известным нам является ощущение, а в нем неизбежно и качество…
Если Маркс не оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу. В «Капитале» применена к одной науке логика, диалектика и теория познания материализма (не надо 3-х слов: это одно и то же), взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед.
Товар — деньги — капитал производство абсолютной прибавочной стоимости производство относительной прибавочной стоимости.[3]
Анализ его, как отношения социального.
Анализ двоякий, дедуктивный и индуктивный, — логический и исторический (формы стоимости).
Проверка фактами respective практикой есть здесь в каждом шаге анализа. Ср. к вопросу о сущности versus явление — цена и стоимость — спрос и предложение versus стоимость (кристаллизированный труд) — заработная плата и цена рабочей силы.
Георг Гегель
Наука логики
Предисловие к первому изданию
Полное изменение, которое претерпел у нас за последние лет двадцать пять характер философского мышления, более высокая точка зрения относительно себя, которой в этот период времени достигло самосознание духа, до сих пор еще оказали мало влияния на облик логики.
То, что до этого промежутка времени носило название «метафизики, подверглось, так сказать, радикальному искоренению и исчезло из ряда наук. Где теперь «мы услышим или где теперь смеют еще раздаваться голоса прежней онтологии, рациональной психологии, космологии или даже прежней естественной теологии. Где теперь будут интересоваться такого рода исследованиями, как, например, об имматериальности души, о механических и целевых причинах. Да и прежние доказательства бытия божия излагаются лишь исторически или в целях назидания и душевного ободрения. Это — факт, что интерес. отчасти к содержанию, отчасти к форме прежней метафизики, а отчасти «к обоим вместе утрачен. Сколь ни замечательно явление народа, для которого сделались непригодными, например, наука его государственного права, его общие убеждения, его нравственные привычки и добродетели, но столь же по» меньшей мере замечательное явление представляет собой народ, который утрачивает свою метафизику, народ, среди которого дух, занимающийся своей чистой сущностью, уже не имеет действительного существования.
Экзотерическое учение кантовской философии, гласящее, что рассудок не имеет права залетать дальше области опыта и что в противном случае способность познания становится теоретическим разумом, который сам по себе порождает только химерические домыслы, — это учение доставило с научной стороны оправдание отказа от спекулятивного» мышления. На подмогу атому популярному учению шли вопли новейшей педагогики (отзвук трудных времен, направляющих взор людей на непосредственные нужды), разговоры о том, что подобно тому, как для познания опыт является первым и главным, так и для достижения умелости в общественной и частной жизни теоретическое Гегель, том V. Наука логики 2 понимание даже вредно, и существенным, единственно полезным является упражнение и вообще практическое образование. Так как наука и здравый человеческий смысл, таким образом, помогали друг другу в деле уничтожения метафизики, то казалось, что их общими усилиями получилось странное зрелище образованного народа без метафизики, нечто вроде во всем прочем многообразно украшенного храма, но без святого святых. Теология, которая в прежние времена была хранительницей спекулятивных таинств и (правда, зависимой) метафизики, отказалась от этой науки, заменив ее чувствованиями (Gefuhle), практически-популярными поучениями и учено-историческими сведениями. Этой перемене соответствует то обстоятельство, что в другом месте исчезли те одинокие, которые приносились в жертву своим народом и удалялись им из мира, дабы существовали созерцание вечного и жизнь, посвященная единственно только этому созерцанию не ради пользы, а ради благодати. Это исчезновение, хотя оно и стоит в другой связи, может быть рассматриваемо как явление, по существу дела тождественное с вышеуказанным.
Казалось, таким образом, что после изгнания этого мрака, этого бесцветного занятия ушедшего в себя духа самим собою, существование превратилось в светлый, радостный мир цветов, среди которых, как известно, нет черных.
Логика испытала не столь печальную участь, как метафизика. Правда, тот предрассудок, будто она научает мыслить, в чем раньше видели приносимую ею пользу и, стало быть, также и ее цель (это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии» и физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться), — этот предрассудок давно уже исчез, и дух практицизма уготовлял ей не лучшую участь, чем ее сестре. Тем не менее, вероятно ввиду приносимой ею некоторой формальной пользы, ей было еще оставлено место среди наук, и ее даже сохранили в качестве предмета публичного преподавания. Но этот лучший жребий касается только ее внешних судеб, ибо ее облик и содержание остались такими же, какими они по давней традиции передавались от поколения к поколению, причем, однако, в процессе этой передачи ее содержание делалось все более и более тощим и скудным; в ней еще не чувствуется того нового духа, восход которого сказался в науке не менее, чем в действительности. Но нужно сказать раз навсегда, что тщетно желание удержать формы прежнего образования, когда перестроилась субстанциальная форма духа. Они представляют собою увядшие листья, спадающие благодаря напору образовавшихся у их основания новых почек.
Игнорирование этой общей перемены начинает постепенно исчезать также и в научной области. Незаметным образом даже сами противники освоились с этими другими представлениями, усвоили их себе, и если они все еще не приемлют источника этих представлений, лежащих в их основании принципов, и возражают против них, то им зато приходится» мириться с выводами и они оказываются не в силах противиться влиянию последних. Помимо того, что все более и более слабеет их отрицательное отношение к указанным представлениям, этим противникам удается сообщить своим работам положительное значение и» содержание только благодаря тому, что сами они начинают говорить на языке новых представлений.
С другой стороны, уже прошло, невидимому, время того брожения, с которого начинается всякое творчество нового. В своей начальной стадии это творчество относится фанатически враждебно к существующей широко разветвленной систематизации прежнего принципа; оно отчасти также опасается, что потеряется в пространных частностях, но отчасти пугается труда, которого потребовала бы научная разработка, и, чувствуя потребность в такой разработке, хватается сначала за пустой формализм. Требование, чтобы содержание подверглось обработке и было развито, становится после этого еще настоятельнее. В ходе развития той или иной эпохи, как и в ходе развития отдельного человека, бывает период, когда дело идет главным образом о приобретении и отстаивании принципа во всей его неразвитой напряженности. Но более высокое требование состоит в том, чтобы этот принцип развился в науку.
Но, что бы ни было уже сделано в других отношениях для сути и формы науки, логическая наука, составляющая подлинную метафизику или чистую, спекулятивную науку, еще находилась до сих пор в большом пренебрежении. Что я разумею ближе под этой наукой и ее точкой зрения, это я указал предварительно во введении. Необходимость снова начать в этой науке с самого начала, характер самого предмета и отсутствие таких подготовительных трудов, которые могли бы быть использованы для предпринятого нами преобразования, — пусть все эти обстоятельства будут приняты во внимание справедливыми судьями, если бы оказалось, что и многолетняя работа не дала автору возможности сообщить этой попытке большее совершенство.
Существенно главным образом иметь в виду, что дело идет о том, чтобы дать новое понятие научного рассмотрения.
Философия, если она должна быть наукой, как я на это указал в другом мосте, не может для этой цели заимствовать свой «метод от подчиненной науки, каковой является математика, и точно так же она не может успокаиваться на категорических заверениях внутренней интуиции (Anschauung) или пользоваться рассуждениями, опирающимися на основания, доставляемые внешней рефлексией. Методом философии может быть лишь движущаяся в научном познании природа содержания, причем вместе с тем эта же собственная рефлексия содержания впервые полагает и порождает само его (содержания) определение.
Рассудок определяет и твердо держится за свои определения; разум же отрицателен и диалектичен, ибо он разрешает определения рассудка в ничто; он положителен, ибо он порождает всеобщее и постигает в нем особенное.
Подобно тому, как рассудок обычно понимается как нечто отдельное от разума вообще, точно так же и диалектический разум обычно признается чем-то отдельным от положительного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше их обоих; он есть рассудочный разум или разумный рассудок. Он есть отрицательное, то, что составляет качество как диалектического разума, так и рассудка… Он отрицает простое, и тем самым он полагает определенное различие, за которое держится рассудок. Но вместе с тем он также и разлагает это различие, и тем самым он диалектичен. Однако он не задерживается на этом нулевом результате: он здесь вместе с тем выступает также и как положительный разум, и, таким образом, он восстанавливает первоначальное простое, но как всеобщее, которое конкретно внутри себя. Под последнее не просто подводится то или другое данное особенное, а в вышеуказанном процессе определения и разлагании этого определения уже определилось вместе с тем и особенное. Это духовное движение, дающее себе в своей простоте свою определенность, а в последней — свое равенство с самим собою, это движение, представляющее собою, стало быть, имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод познания и вместе с тем имманентная душа самого содержания. — Единственно только на этом конструирующем сам себя пути философия, утверждаю я, способна быть объективной, доказательной наукой. — Таким способом я попытался в «Феноменологии душ» изобразить сознание. Сознание есть дух, как «Феноменология духа», Предисловие к первому изданию.
Подлинным развитием сказанного является познание метода, которое находит себе место в самой логике.
В конкретное знание, притом находящееся в плену у внешности. Но движение форм этого предмета, подобно развитию всякой природной и духовной жизни, покоится только на природе чистых сущностей, составляющих содержание логики. Сознание как являющийся дух, который освобождается на проходимом им пути от своей непосредственности и» сращенности с внешним, становится чистым знанием, дающим себе в качестве предмета те самые вышеуказанные чистые сущности, как они суть в себе и для себя. Они суть чистые» мысли, мыслящий свою сущность дух. Их самодвижение есть их духовная жизнь и представляет собою то, что конституирует науку и изображенном чего она является.
Этим указано внутреннее отношение к логике той науки, которую я называю феноменологией духа. Что же касается внешнего отношения между ними, то я полагал, что за первой частью «Системы науки»[4], содержащей в себе феноменологию, последует вторая часть, которая должна была содержать в себе логику и обе реальные части философии, философию природы и философию духа, так что этой частью заканчивалась бы система науки. Но необходимость расширить объем логики, взятой сама по себе, побудила меня выпустить ее в свет отдельно; она, таким образом, составляет согласно этому расширенному плану первое продолжение «Феноменологии духа». Позднее за нею воспоследует обработка двух вышеназванных реальных философских наук.
Этот первый том «Логики» содержит первую книгу — учение о бытии, а затем вторую книгу, учение о сущности, как второй отдел первого тома; второй же том будет содержать в себе субъективную логику, или учение о понятии.
Нюренберг 22 марта 1812 г.
Предисловие ко второму изданию
К этой новой обработке «Науки логики», первый том которой теперь выходит в свет, я, должен сказать, приступил с полным сознанием как трудности и предмета самого но себе, а затем и его изложения, так и несовершенства его обработки в первом издании. Сколько я ни старался после дальнейших многолетних занятий этой наукой устранить это несовершенство, я все же чувствую, что имею еще достаточно причин просить читателя быть ко мне снисходительным. Право же на таковое снисхождение может быть прежде всего обосновано тем обстоятельством, что для содержания я нашел в прежних метафизике и логике преимущественно только внешний материал. Хотя эти науки разрабатывались часто и повсюду, — последняя из указанных наук разрабатывается еще и поныне, — все же эта разработка мало касалась спекулятивной стороны, а скорее повторялся тот же самый материал, который попеременно то разжижался до тривиальной поверхностности, то расширялся благодаря тому, что снова вытаскивался старый баласт, так что от таких, часто лишь совершенно механических, стараний философское содержание ничего не могло выиграть.
Изображение «царства мысли философски, т. е. в его собственной имманентной деятельности, или, что то же самое, в его необходимом развитии, должно было поэтому явиться новым предприятием, и приходилось начинать все с самого начала.
Вышеуказанный же ранее приобретенный материал — уже известные формы мысли — должен рассматриваться как в высшей степени важный подсобный материал (Vorlage) и даже как необходимое условие, как заслуживающая нашу благодарность предпосылка, хотя этот материал лишь кое-где дает нам слабую вить или безжизненные кости скелета, к тому же еще перемешанные между собою в беспорядке.
Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке. В наше время мы должны неустанно напоминать, что человек отличается от животного именно тем, что он мыслит. Во все, что для него (человека) ставится чем-то внутренним, вообще представлением, во все, что он делает своим, проник язык, а все то, что человек превращает в язык и выражает в языке, содержит в себе, в скрытом ли, спутанном или более разработанном виде, некоторую категорию; в такой мере свойственно его природе логическое, или, правильнее сказать, последнее есть сама его своеобразная природа. Но если вообще противопоставлять природу, как физическое, духовному, то следовало бы сказать, что логическое есть, наоборот, сверхприродное, проникающее во весь природный обиход человека, в его чувства, созерцания, вожделения, потребности, влечения и тем только и превращающее их, хотя лишь формально, в нечто человеческое, в представления и цели.
Если язык обладает богатством логических выражений, и притом своеобразных и отдельных, для обозначения самих определений мысли, то это является для него преимуществом перед другими языками. Из предлогов и членов многие уже выражают отношения, покоящиеся на мышлении; китайский язык, как нам сообщают, вовсе не выработал таких частей речи или выработал их очень мало. Указанные частицы, однако, носят совершенно служебный характер, они только немногим более отделены от других слов, чем глагольные приставки, знаки склонения и т. д. Гораздо важнее, если в данном языке определения мысли выявлены в форме существительных и глаголов и таким образом отчеканены так, что получают предметную форму. Немецкий язык обладает в этом отношении большими преимуществами перед другими новыми языками; многие из его слов имеют к тому же еще ту особенность, что обладают не только различными, но и противоположными значениями, так что нельзя не усмотреть в этом даже некоторого спекулятивного духа этого языка: мышлению может только доставлять радость; если оно наталкивается на такого рода слова и находит, что соединение противоположностей, являющееся выводом спекуляции, но представляющее собою для рассудка бессмыслицу, наивным образом выражено уже лексикально в виде одного слова, имеющего противоположные значения. Философия вообще не нуждается поэтому в особой терминологии; приходится, правда, заимствовать некоторые слова из иностранных языков; эти слова, однако, благодаря частому употреблению, уже получили в нашем языке право гражданства, и аффектированный пуризм был бы менее всего уместен здесь, где более, чем где-либо, важна суть дела. — Успехи образования вообще и, в частности, наук, даже опытных и чувственных, хотя эти последние в общем движутся в рамках обычнейших категорий (например, категорий части и целого, вещи и ее свойств и т. п.), постепенно выдвигают также и более высокие отношения мысли, или по крайней мере, поднимают их до большей всеобщности и тем самым заставляют обращать на них больше внимания. Если, например, в физике получило преобладание определение мысли «сила», то в новейшее время самую значительную роль играет категория полярности, которую, впрочем, слишком а tort et а travers (без разбору) втискивают во все, даже в учение о свете[5]; полярность есть определение такого различия, в котором различенные неразрывно связаны друг с другом. То обстоятельство, что таким образом отошли от формы абстракции, от того тождества, которое сообщает некоей определенности, например силе; самостоятельность, и вместо этого была выдвинута и стала привычным представлением другая форма определения, форма различия, которое вместе с тем продолжает оставаться в тождестве как некое неотделимое от него, — это обстоятельство бесконечно важно.
Рассмотрение природы благодаря реальности, которую сохраняют ее предметы, необходимо заставляет фиксировать кагегории, которых уже нельзя долее игнорировать в ней, хотя при этом имеет место величайшая непоследовательность по отношению к другим категориям, за которыми также сохраняют их значимость, и это рассмотрение не допускает того, что легче происходит в науках о духе, не допускает именно, чтобы переходили от противоположности к абстракциям и всеобщностям.
Но хотя, таким образом, логические предметы, равно как и выражающие их слова, суть нечто всем знакомое в области образования, тем не менее, как я сказал в другом месте[6], то, что известно (bekannt), еще не есть поэтому познанное (erkannt); между тем предъявление требования к человеку, чтобы он еще продолжал заниматься тем, что ему уже известно, может даже вывести его из терпения, — а что более известно, чем именно определения мысли, которыми мы пользуемся постоянно, которые приходят нам на язык в каждом произносимом нами предложении. Это предисловие и имеет своей целью указать общие моменты движения познания, исходящего из этого известного, отношение научной мысли к этому природному мышлению. Этих указаний вместе с тем, что содержится в прежнем введении, достаточно для того, чтобы дать общее представление о смысле логического познания, то общее представление, которое желают получить о науке, к которой приступают, предварительно, до этой науки, которая уже есть сам предмет (die Sache selbst).
Прежде всего следует рассматривать как бесконечный прогресс то обстоятельство, что формы мышления были высвобождены из той матери», в которую они погружены в самосознательном созерцании, представлении, равно как и в нашем вожделении и волении, или», вернее, также и в представляющем вожделении и велении (а ведь нет человеческого вожделения или воления без представления), что эти всеобщности были выделены в нечто самостоятельное «и, как мы это видим у Платона, а главным образом, у Аристотеля, были сделаны предметом самостоятельного рассмотрения; этим начинается познание их. «Лишь после того, — говорит Аристотель, — как было налицо почти все необходимое и требующееся для жизненных удобств «и сношений, люди стали стараться достигнуть философского познания»[7].
«В Египте, — замечает он перед тем, — математические науки рано развились, так как там жреческое сословие было рано поставлено в условия, дававшие ему досуг»[8].
Действительно, потребность заниматься чистыми мыслями предполагает длинный путь, который человеческий дух должен был пройти ранее, она является, можно сказать, потребностью уже удовлетворенной потребности в необходимом, потребностью отсутствия потребности, которой человеческий дух должен был достигнуть, потребностью абстрагироваться от материи созерцания, воображения и т. д., от материи конкретных интересов вожделения, влечения, воли, в каковой материи закутаны определения мысли. В тихих пространствах пришедшего к самому себе и лишь в себе пребывающего мышления умолкают интересы, движущие жизнью народов и отдельных людей. «Со многих сторон, — говорит Аристотель в той же связи, — человеческая природа зависима, но эта наука, которой ищут не для какого-нибудь употребления, есть единственная наука, свободная в себе и «для себя, и потому кажется, что она как бы не является человеческим достоянием»[9]. Философия вообще еще имеет дело с конкретными предметами — богом, природой, духом — в их мыслях; логика же занимается этими предметами, взятыми всецело особо, в их полнейшей абстракции.
Логика поэтому является обычно предметом изучения для юношества, каковое еще не вошло в интересы повседневной жизни, пользуется по отношению к ним досугом и лишь для субъективной своей цели должно заниматься приобретением средств и возможностей для проявления своей активности в сфере объектов указанных интересов, причем и эти занятия еще носят теоретический характер. К этим средствам, в противоположность вышеуказанному представлению Аристотеля, причисляют и науку логики; усердные занятия: ею считаются предварительной работой, местом для этой работы — школа, лишь после окончания которой должны LO выступить на сцену вся серьезность жизни и деятельность для достижения действительных целей. В жизни переходят к пользованию категориями; они понижаются в ранге, лишаются чести рассматриваться особо, а обрекаются на то, чтобы служить в деле духовной выработки живого содержания, в создании и сообщении друг другу относящихся к этому содержанию представлений. Они благодаря своей всеобщности служат отчасти сокращениями, ибо какое бесконечное множество частностей внешнего существования и деятельности объемлют собою представления: битва, война, народ, или море, животное и т. д.; какое бесконечное множество представлений, деятельностей, состояний и т. д. должно быть сокращено в представлении: бог или любовь и т. д., чтобы благодаря этой концентрации получилась из них простота такого единого представления! Отчасти же они служат для более точного определения и нахождения предметных отношении, причем, однако, содержание и цель, правильность и истинность вмешивающегося мышления ставятся в полную зависимость от самого существующего, и определениям мысли, самим по себе, не приписывается никакой определяющей содержание действенности. Такое употребление категорий, которое в прежнее время называлось естественной логикой, носит бессознательный характер; а если научная рефлексия отводит им в духе роль служебных средств, то она этим превращает вообще мышление в нечто подчиненное другим духовным определениям. Ведь о наших ощущениях, влечениях, интересах мы не говорим, что они нам служат, а считаем их самостоятельными силами и властями (Machte); так что мы сами состоим в том, чтобы ощущать так-то, желать и хотеть того-то, полагать свой интерес в том-то. У нас, наоборот, может получиться сознание, что мы скорее служим нашим чувствам, влечениям, страстям, интересам и тем паче привычкам, а не обладаем ими; ввиду же нашего внутреннего единства с ними нам еще менее может прийти в голову, что они нам служат средствами. Мы скоро обнаруживаем, что такого рода определения души и духа суть особенные в противоположность всеобщности, в качестве каковой мы себя сознаем и в каковой заложена наша свобода, и начинаем думать, что мы находимся в плену у этих особенностей, что они властвуют над нами. После этого мы тем менее можем считать, что формы мысли, тянущиеся через вое наши представления, — будут ли последние чисто теоретическими или содержащими материю, принадлежащую области ощущений, влечений, воли — служат нам, что мы обладаем ими, а не скорее они нами. Что остается на нашу долю против них, каким образом можем мы, каким образом могу я возвышать себя над ними, как нечто более всеобщее, когда они сами суть всеобщее как таковое. Когда мы влагаем себя в какое-нибудь чувство, какую-нибудь цель, какой-нибудь интерес и чувствуем себя в них ограниченными, несвободными, то областью, в которую мы из них в состоянии выбраться и тем самым выйти назад на свободу, является эта область самодостоверности, область чистой абстракции, мышления. Или, если мы хотим говорить о вещах, то мы равным образом называем их природу или сущность их понятием, а последнее существует только для мышления; о понятиях же вещей мы еще гораздо менее решимся сказать, что мы ими владеем или что определения мысли, комплексом которых они являются, служат нам; наша мысль должна, напротив, ограничивать себя; сообразно им и наш произвол или свобода не должны переделывать их по-своему. Стало быть, поскольку субъективное мышление есть наше наивнутреннейшее делание, а объективное понятие вещей составляет самое вещь, то мы не можем выходить за пределы указанного делания, не можем стать выше его, и столь же мало мы можем выходить за пределы природы вещей. Последнее определение мы можем, однако, оставить в стороне; оно совпадает с первым постольку, поскольку оно есть некое отношение нашего мышления к вещи, но только оно дало бы нам нечто пустое, ибо мы этим признали бы вещь правилом для наших понятий, а между тем вещь не может быть для нас не чем иным, кроме как нашим понятием о ней. Если критическая философия понимает отношение между этими тремя терминами так, что мы ставим мысли между нами и вещами, как средний термин, в том смысле, что этот средний термин скорее отгораживает нас от вещей вместо того, чтобы смыкать нас с ними, то этому взгляду следует противопоставить то простое замечание, что как раз эти вещи, которые якобы стоят на другом конце, по ту сторону нас и по ту сторону соотносящихся с ними мыслей, сами суть вещи, сочиненные мыслью (Gedankendinge), а как совершенно неопределенные, они суть лишь одна сочиненная мыслью вещь (так называемая вещь в себе), пустая абстракция.
Но сказанного нами будет достаточно для уяснения той точки зрения, с которой исчезает отношение к определениям мысли, как только к полезностям и к средствам.
Более важное значение имеет находящийся в связи с указанным отношением дальнейший взгляд, согласно которому их понимают, как внешние формы. Проникающая все наши представления, цели, интересы и поступки деятельность мышления происходит, как сказано, бессознательно (естественная логика). Наше сознание имеет пород собою согласно этому взгляду содержание, предметы, представления, то, что заполняет интерес; определения же мысли суть формы, которые только находятся на содержании, а не суть само содержание. Но если верно то, что мы указали выше и с чем в общем соглашаются, а именно, если верно, что природа, своеобразная сущность, как истинно пребывающее и субстанциальное в многообразии и случайности явлений и преходящем проявлении есть понятие вещи, всеобщее в самой этой вещи (как например, каждый человеческий индивидуум, хотя и есть нечто бесконечно своеобразное, все же имеет в себе prius (первичное) всего своего своеобразия, prius, состоящее в том, что он в этом своеобразии есть человек или как каждое отдельное животное имеет prius, состоящее в том, что оно есть животное), то нельзя сказать, что осталось бы от такого индивидуума (какими бы многообразными прочими предикатами он ни был снабжен), если бы из дего была вынута эта основа (хотя последняя тоже может быть названа предикатом). Непременная основа, понятие, всеобщее, которое и есть сама мысль, поскольку только при слове «мысль» можно отвлечься от представления, — это всеобщее не может рассматриваться лишь как безразличная форма, находящаяся на некотором содержании. Но эти мысли всех природных и духовных вещей, составляющие само субстанциальное содержание, суть еще такое содержание, которое заключает в себе многообразные определенности и еще имеет в себе различие души и тела, понятия и относительной реальности; более глубокой основой служит душа, взятая сама по себе, чистое понятие, представляющее собою наивнутреннейшее в предметах, их простой жизненный пульс, равно как и жизненный пульс самого субъективного мышления о них. Задача состоит в том, чтобы осознать эту логическую природу, одушевляющую Дух, орудующую и действующую в нем.
Инстинктообразное делание отличается от руководимого интеллектом и свободного делания вообще тем, что последнее происходит сознательно; поскольку содержание побудительного мотива выключается из непосредственного единства с субъектом и получает характер стоящей перед ним предметности, постольку возникает свобода духа, который в инстинктообразном действовании мышления, связанный своими категориями, расщепляется на бесконечно многообразную материю. В этой сети завязываются там и сям более прочные узлы, служащие опорными и направляющими пунктами его (духа) жизни и сознания; эти узлы обязаны своей прочностью и мощью именно тому, что они, поставленные перед сознанием, суть в себе и для себя сущие понятия его сущности. Важнейшим пунктом, уясняющим природу духа, является отношение к тому, что он есть в действительности не только того, что он есть в себе, но и того, чем он себя знает; так как дух есть по существу сознание, то это знание себя есть основное определение его действительности. Вот, следовательно, высшая задача логики: она должна очистить категории, действующие сначала лишь инстинктообразно, как влечения, и осознаваемые духом порозненно, стало быть, как изменчивые и путающие друг друга, доставляющие ему таким образом порозненную и сомнительную действительность, и этим очищением возвысить его в них, поднять его к свободе и истине.
То, на что мы указали, как на начальный пункт науки, высокая ценность которого, взятого сам по себе, и вместе с тем как условия истинного познания, признано было уже ранее, а именно, рассматривание понятий и вообще моментов понятия, определений мысли, прежде всего в качестве- форм, отличных от материи и лишь находящихся на ней, — это рассматривание тотчас же являет себя в самом себе неадэкватным отношением к истине, признаваемой предметом и целью логики. Ибо, беря их как простые формы, как отличные от содержания, принимают, что им присуще определение, характеризующее их, как конечные, и делающее их неспособными схватить истину, которая бесконечна в себе.
Пусть истинное в свою очередь сочетано помимо этого в каком бы то ни было отношении с ограниченностью и конечностью, — это есть аспект его отрицания, его неистинности и недействительности, как раз его конца, а не утверждения, каковое оно есть, как истинное. По отношению к пустоте чисто формальных категорий инстинкт здравого разума почувствовал себя, наконец, столь окрепшим, что он презрительно предоставляет их познание школьной логике и школьной метафизике, пренебрегая вместе с тем той ценностью, которую рассмотрение этих нитей имеет уже само по себе, и не сознавая того, что, когда он ограничивается инстинкт о об разным действием естественной логики, а тем более когда он обдуманно (reflectiert) отвергает изучение и познание самих определений мысли, он рабски служит неочищенному и, стало быть, несвободному мышлению. Простым основным определением или общим определением формы собрания таких форм служит тождество, которое в логике этого собрания форм признается законом, как А=А, как закон противоречия. Здравый разум в такой мере потерял свое почтительное отношение к школе, которая обладает такими законами истины и в которой их продолжают разрабатывать, что он из-за этих законов насмехается над нею и считает невыносимым человека, который, руководясь такими законами, умеет высказывать такого рода истины: растение есть растение, наука есть наука и т. д. до бесконечности Относительно формул, служащих правилами умозаключения, которое на самом деле представляет собою одно из главных употреблений рассудка, также упрочилось столь же справедливое сознание, что они по меньшей мере суть безразличные средства, средства, которые приводят также и к заблуждению и которыми пользуется софистика; что, как бы мы ни определяли истину, для высшей, например, религиозной, истины они непригодны, что они вообще касаются лишь правильности познания, а не его истинности, хотя было бы несправедливо отрицать, что в познании есть такая область, где они должны обладать значимостью, и что вместе с тем они представляют собою существенный материал для мышления разума.
Неполнота этого способа рассмотрения мышления, оставляющего в стороне истину, может быть устранена лишь привлечением к мыслительному рассмотрению не только того, что обыкновенно причисляется к внешней форме, но вместе с тем также и содержания. Тогда вскоре само собою обнаруживается, что то, что в ближайшей обычной рефлексии отделяют от формы, как содержание, в самом деле не должно быть бесформенным, лишенным определений внутри себя, ибо в таком случае оно было бы пустотой, скажем абстракцией вещи в себе; что оно, наоборот, обладает в самом себе формой и, даже больше того, только благодаря ей одушевлено и обладает содержимым (Gehalt), и что это она же сама превращается в видимость некоего содержания, равно как, стало быть, и в видимость чего-то внешнего на этой видимости содержания. С этим введением содержания в логическое рассмотрение предметом логики становятся уже не вещи (Dinge), а суть (die Sache), понятие вещей. Однако при этом нам могут также напомнить о том, что имеется множество понятий, множество сутей.
Но ответ на вопрос, чем ограничивается это множество, уже отчасти дан в том, что мы сказали выше, а именно, что понятие, как мысль вообще, как всеобщее есть беспредельное сокращение по сравнению с единичными вещами, как они, их множество, предносятся неопределенному созерцанию и представлению. Отчасти же некоторое понятие есть вместе с тем, во-первых, понятие в самом себе, а последнее имеется только в единственном числе и есть субстанциальная основа; но, во-вторых, оно есть некоторое определенное понятие, каковая определенность в нем есть то, что выступает как содержание; на самом же деле определенность понятия есть определение формы указанного субстанциального единства, момент формы, как целостности, момент самого понятия, составляющего основу определенных понятий. Последнего мы не созерцаем и не представляем себе чувственно; оно есть только предмет, продукт и содержание мышления и в себе и для себя сущая суть, логос, разум того, что есть, истина того, что носит название вещей. Логос-то уж «менее всего должно оставлять вне науки логики. Поэтому не может зависеть от каприза, вводить ли его в науку или оставлять его за ее пределами.
Если те определения мысли, которые суть только внешние формы, рассматриваются нами истинно в них самих, то из этого может получиться в качестве вывода только их конечный характер, неистинностъ их якобы самостоятельного бытия и, как их истина, понятие. Поэтому, имея дело с определениями мысли, проходящими в нашем духе инстинктообразно и бессознательно и остающимися беспредметными, незамеченными даже тогда, когда они проникают в язык, логическая наука будет одновременно также и реконструкцией тех определений мысли, которые выделены рефлексией и фиксированы ею, как субъективные, внешние формы, формы на материи и на содержимом.
Нет ни одного предмета, который, сам по себе взятый, сталь поддавался бы такому строгому, имманентно пластическому изложению, как развитие мышления в его необходимости; нет ни одного предмета, который в такой мере требовал бы такого изложения; наука о нем должна была бы в этом отношении превосходить даже математику, ибо ни один предмет не имеет в самом себе этой свободы и независимости. Такое изложение требовало бы, как это в своем роде имеет место в последовательном движении математики, чтобы ни на одной ступени развития мысли не встречались определения мысли и размышления, которые не порождались бы непосредственно на этой ступени, а переходили бы в нее из предшествующих ступеней. Но, конечно, приходится в общем отказаться от такого абстрактного совершенства изложения. Уже одно то обстоятельство, что наука должна начинать с совершенно простого и, стало быть, наиболее всеобщего и пустого, заставляет требовать, чтобы изложение ее допускало как раз только такие выражения для уяснения простого, которые и сами являются простыми, без всякого дальнейшего добавления хотя бы одного слова; единственно, что по существу дела было бы допустимо, — это отрицательные размышления, которые старались бы не подпускать и удалить вое то прочее, что представление или недисциплинированное мышление могли бы сюда привнести.
Но такие вторжения в простой, имманентный ход развития мысли, однако, сами по себе случайны, и старания отразить их, стало быть, сами страдают таким случайным характером; да и помимо того было бы напрасно стремиться отразить все такого рода вторжения именно потому, что они не касаются сущности дела, и для удовлетворения требования систематичности здесь было бы по крайней мере желательно не гоняться за полнотой. Но свойственные нашему современному сознанию беспокойство и разбросанность не допускают, чтобы мы не принимали также более или менее во внимание напрашивающиеся размышления и вторжения. Пластическое изложение требует к тому же пластической способности воспринимания и понимания; но таких пластических юношей и мужей, каких придумывает Платон, таких слушателей, столь спокойно следящих лишь за ходом рассуждения, самоотречение отказываясь от высказывания собственных рефлексий и взбредших на ум соображений, которыми доморощенное мышление нетерпеливо торопится показать себя, нельзя было бы выставить в современном диалоге; еще того менее можно было бы рассчитывать на таких читателей. Мне, напротив, слишком часто встречались такие яростные противники, которые не хотели сообразить такой простой вещи, что взбредшие им в голову мысли и возражения содержат в себе категории, которые сами суть предположения и которые нужно подвергнуть критическому рассмотрению, прежде чем пользоваться ими. Отсутствие, сознания этого заходит невероятно далеко; оно приводит к основному недоразумению, к тому плохому, т. е. необразованному способу рассуждения, который, встречаясь с рассмотрением определенной категории, мыслит нечто другое, а не эту категорию. Это отсутствие сознания тем менее может быть оправдано, что такое другое есть другие определения мысли и понятия, а в системе логики эти другие категории должны были как раз тоже найти себе место, и там они подвергнуты самостоятельному рассмотрению. Более всего это бросается в глаза в преобладающем числе возражений и нападок, вызванных первыми понятиями или положениями логики, бытием, ничто и становлением, каковое последнее, хотя оно и само есть простое определение, тем не менее неоспоримо — простейший анализ показывает это — содержит в себе указанные два определения как моменты. Основательность, по видимому, требует, чтобы прежде всего было вполне исследовано начало как то, на чем строится все остальное, и даже требует того, чтобы не шли дальше, прежде чем не будет доказано, что оно прочно, и чтобы, напротив, если этого не будет доказано, было отвергнуто все следующее за ним.
Эта основательность обладает также и тем преимуществом, что она необычайно облегчает дело мышления: она имеет перед собою все дальнейшее развитие заключенным в этом зародыше и считает, что покончила со всем исследованием, если покончила с этим зародышем, а с ним легче всего справиться потому, что он есть наипростейшее, само простое; малостью требуемой работы главным образом и подкупает эта столь самодовольная основательность. Это ограничение критики простым оставляет свободный простор произвольному мышлению, которое само не хочет оставаться простым, а приводит относительно этого простого свои соображения.
Будучи вполне вправе сначала заниматься только основоначалом (Prinzip) и, стало быть, не вдаваться в рассмотрение дальнейшего, эта основательность сама действует в своем рассмотрении как раз обратно этому, привлекает к рассмотрению дальнейшее, т. е. другие категории, чем ту, которая представляет собою только основоначало, другие предпосылки и предрассудки. Для поучения критикуемого автора излагаются предпосылки вроде того, что бесконечность отлична от конечности, содержание есть нечто другое, чем форма, внутреннее есть не то, что внешнее, а опосредствование также не есть непосредственность, как будто кто-то этого не знает, и притом эти предпосылки не доказываются, а их рассказывают и уверяют, что они справедливы. В таком поучении, как системе обращения с автором, есть — иначе это нельзя назвать — нечто глупое. По существу же здесь имеется отчасти то неправомерное, что такого рода положения только служат предпосылкой и принимаются сразу, без доказательств; отчасти же и в еще большей мере незнание того, что потребностью и делом логического мышления и является именно исследование того, действительно ли конечное без бесконечного есть нечто истинное, и суть ли что-либо истинное, а также что-либо действительное такая абстрактная бесконечность, бесформенное содержание и лишенная содержания форма, такое особое внутреннее, которое не имеет никакого внешнего проявления и т. д. Но эти культура и дисциплина мышления, благодаря которым достигается его пластическое отношение к предмету научного рассмотрения и преодолевается нетерпение вторгающейся рефлексии, приобретаются единственно только движением вперед, изучением и проделыванием всего пути развития.
При упоминании о платоновском изложении тот, кто в новейшее время работает над самостоятельным построением философской науки, может ожидать, что ему напомнят рассказ, согласно которому Платон семь раз перерабатывал свои книги о государстве. Напоминание об этом и сравнение, поскольку можно подумать, что это напоминание заключает в себе таковое, могли бы только еще в большей мере вызвать желание, чтобы автору произведения, которое, как принадлежащее современному миру, имеет перед собою более глубокий принцип, более трудный предмет и материал более широкого объема, был предоставлен свободный досуг для перерабатывания его не семь, а семьдесят семь раз.
Но, принимая во внимание, что труд писался в условиях заботы о внешне необходимом, что величие и многосторонность современных интересов неизбежно отрывали от работы над ним, что автору приходило даже в голову сомнение, оставляют ли еще повседневная суета и оглушающая болтливость самомнения, тщеславящаяся тем, что она ограничивается этой суетой, свободный простор для соучастия в бесстрастной тишине исключительно только мыслительного познания, — принимая во внимание все это, автор, рассматривая свой труд под углом зрения величия задачи, должен довольствоваться тем, чем этот труд мог стать в таких условиях.
Берлину 1 ноября 1831 г.
Введение
Общее понятие логики
Ни в какой другой науке не чувствуется так сильно потребность начинать с самой сути дела, без предварительных размышлений, как в науке логики. В каждой другой науке рассматриваемый ею предмет и научный метод отличны друг от друга; равным образом и содержание этих наук не начинает абсолютно с самого начала, а зависит от других понятий и находится в связи» с облегающим, его другим материалом. За этими науками» мы вследствие этого готовы признавать право говорить лишь лемматически о почве, на которой они стоят, и ее связи, равно как и о «своем методе, применять без дальнейших околичностей предполагаемые известными и принятыми формы дифиниций и т. п. и пользоваться для установления своих всеобщих понятий и основных определений обычным способом рассуждения.