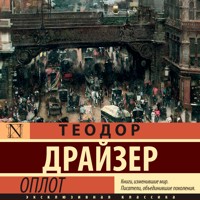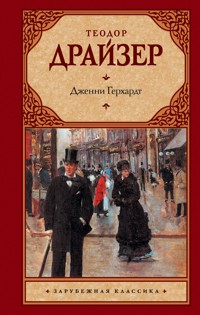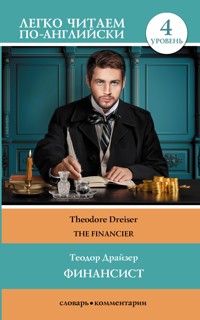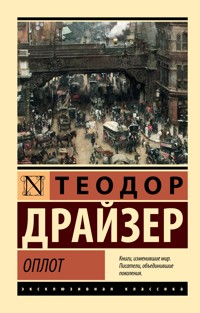
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Эксклюзивная классика
- Sprache: Russisch
Идея «Оплота» возникла у Теодора Драйзера еще в 1912 году. Считая книгу необычайно значимой и личной, автор никак не мог добиться желаемого совершенства. Раз за разом переписывая текст, он работал над рукописью почти до самой смерти. В итоге роман был опубликован лишь в 1946 году, спустя несколько месяцев после кончины писателя. Банковский казначей Солон Барнс воспитывался в семье квакеров — представителей радикального протестантского течения. Переняв суровые религиозные взгляды отца, Солон пытается воспитывать в схожей строгости и собственных детей. Вот только новое поколение уже не желает жить по заветам предков, предпочитая искать собственный путь в жизни.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Теодор Драйзер Оплот
Школа перевода В. Баканова, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Пролог
Пришло время пения птиц, и голос горлицы слышен в нашей земле[1].
– Я, Солон Барнс, перед Богом и людьми беру в жены Бенишию Уоллин и клянусь с Божьей помощью быть ей любящим и верным мужем, пока смерть не разлучит нас.
– Я, Бенишия Уоллин, перед Богом и людьми беру в мужья Солона Барнса и клянусь с Божьей помощью быть ему любящей и верной женой, пока смерть не разлучит нас.
Торжественные эти слова прозвучали в подчеркнуто лаконичном интерьере молельного дома Общества друзей, сиречь квакеров, что находился в городке под названием Дакла, штат Пенсильвания. Присутствовало около сотни свидетелей – родных и близких жениха и невесты. Была середина недели, солнечное июньское утро; кончался девятнадцатый век.
Всякий, кто знаком с историей и традициями квакерства, сразу заметил бы: времена – другие, исчезла былая прочность связей между членами этой высокодуховной организации, обычаи утратили власть, убеждения ослабли, и нет уж больше в поведении осиянных Внутренним Светом характерного для них скромного достоинства. Внутренний Свет не что иное, как Животворящий Дух, точнее, постоянное ощущение квакером присутствия в себе такового, что и означает истинный союз Господа Бога с человеческими существами, чадами его.
Даром что некоторое количество мужчин и женщин явились на торжество в традиционном квакерском платье и вели себя чинно, множество остальных гостей были в одежде куда более современной, хотя и все еще далекой от того, чтобы называться модной.
Мужчины старшего поколения по-прежнему чисто брили подбородки и в большинстве своем придерживались в костюмах простоты, усвоенной от отцов: сюртук с воротником-стойкой и без карманов, широкополая черная шляпа. Женщины – их ровесницы – были в квакерских чепцах без какой-либо отделки и в строгих черных тальмах либо шалях. Платье их представляло собой широкую серую юбку длиной до щиколотки и серый же лиф, оживляемый только беленькой косынкой. Башмаки были тупоносые, на плоской подошве; серые ленточки чепцов из-за своей узости походили скорее на бечевки. Словом, шик в одежде, как понимаем его мы, отсутствовал, зато не наблюдалось и грубого, неумелого подражательства ему.
Однако представители молодого поколения, причем обоих полов, уже весьма далеко зашли в уступках великому духу перемен и моды. Дух этот пронизал квакерскую среду и вынудил многих почти совсем позабыть о внешних проявлениях красоты, вдохновляемой изнутри.
Впрочем, и эти современные квакеры, не обращая внимания на скептицизм нашего в высшей степени материального мира, продолжали, алкая помощи и наставлений, взывать к Богу, который жил в них в виде Внутреннего Света: «Пусть Он покарал меня – верую!» Тем не менее в отдельных умах росло и стремление к житейским благам, к высокому положению в обществе – удивительным образом оно не вступало в противоречие с духовным идеалом, что был если не их конечной целью, так целью их отцов. Помимо прочего, это стремление уже привело многих к выводам о традиционной одежде: она, мол, только создает помехи, а к квакерскому учению отношения не имеет. Не зря ведь и в трудах Джорджа Фокса, основателя квакерской веры, ни слова не найдешь о некоей униформе, обязательной для членов Общества друзей. Напротив, Джордж Фокс упирал на максимальную простоту платья. Однако вышло так, что этот сугубо практический вопрос немало способствовал ослаблению Общества, и вот уже целые правительства и народы, некогда взявшие квакерство себе за ориентир в нашем далеком от совершенства мире, разочаровались в идеях этого учения. Ибо что есть жизнь, как не зыбкое равновесие, и к чему столь истово стремились на первых порах квакеры, как не к тому, чтобы придать ему устойчивости? Вот что писал Джордж Фокс:
«Ныне Господь в Своей неизреченной мощи явил мне, что каждый человек осиян Животворящим Светом Христа, и вот я вижу сей Свет во всех людях. И все, которые уверовали и пришли к Свету жизни, спасутся и сделаются чадами Света; те же, которые отвергли Свет и возненавидели Его, те обречены, хотя и мнят себя христианами».
Впрочем, идеал, прочувствованный Джорджем Фоксом, столкнулся с рутиной материального мира, где правят страсти и лишения, заботы и неравенство. С самого начала узколобые и малодушные вотще силились постичь идеал, мечтателям же и поэтам от квакерства он сам дался в руки. Эпоха Джорджа Фокса напоминает эпоху странствий святого Франциска. Многие тогда желали приобщиться к великому идеалу – но явился искуситель. Под полуденным зноем и бременем насущных забот многие свернули на тропинки не столь тернистые. Для таких людей метод и внешние атрибуты вышли на первый план, а дух несоразмерно умалился.
Потому и в непритязательном молельном доме – коричневый снаружи, беленый изнутри, он стоял на лужайке, где июньскую травку пронизывали солнечные лучи, – ощущалась девальвация великого идеала. Какой-нибудь достойный муж, посидев с подобающей чинностью на скамье, вставал, прочувствованно говорил о «свете, что направляет к совершенству», после чего возвращался к своей обычной жизни: ехал на собственную корабельную верфь, или в лавку, где был хозяином, или в банк, в правлении которого числился, или в аналогичное учреждение. Словом, на каком бы поприще ни подвизался тот или иной квакер, от упований Фокса в его образе жизни сохранялись только внешние проявления, да и те – по минимуму.
Такой квакер почти не отличался от обычных людей. Только в кругу семьи да в стенах молельного дома, то есть среди своих, использовал он традиционное обращение на «ты» ко всем и каждому. Что касается обычая не снимать шляпы ни перед кем, включая представителей земной власти (каким нападкам подвергались за это квакеры!), о нем давно уже не было и помину.
Зато танцы, пение, музыка, театр, наряды, книги и картины развлекательного или фривольного содержания, а также всякое накопительство, деньги и активы сверх необходимого, в глаза осуждались всеми Друзьями, однако исключения уже появились и в этой сфере. Многие квакеры, преуспевшие в коммерции, держали дома и книги, и гравюры, и произведения искусства; у них даже звучала музыка. Впрочем, и они, по крайней мере мысленно, оставались просты в обращении и чужды роскошествам.
Итак, собрание в молельном доме в то июньское утро отличалось неоднородностью. Меж двух полюсов, один из которых представляли собой состоятельные и состоявшиеся родственники невесты, а другой – не столь преуспевшие члены семьи и друзья жениха, наблюдались многочисленные вариации восприятия и воплощения в жизнь квакерских идей; в такой-то среде и провел юность Солон Барнс.
Часть I
Глава 1
Родителей Солона Барнса, Руфуса и Ханну Барнс, отнюдь нельзя было назвать богачами. За несколько лет до того, как родился Солон, и в пору раннего детства Руфус Барнс представлял собой нечто среднее между мелким фермером и торговцем. Семья жила в штате Мэн. Барнсовская ферма лежала на самой окраине городка под названием Сегукит; она давала недурные урожаи как сена, так и овса, не говоря об овощах и фруктах, и довольно скоро Руфус Барнс приобрел лавку со складом – пусть ветхую, зато почти в самом центре Сегукита. Члены местной квакерской общины ценили в Руфусе не только религиозность, но и личные качества; возможно, еще и поэтому торговля у него пошла на лад, и доходов хватило, чтобы отправить Солона, первенца и единственного сына, и Синтию, единственную дочь, в маленькую школу при общине – дети посещали ее, пока мальчику не исполнилось десять лет, а девочке – восемь. Тут-то и встал вопрос об их дальнейшем образовании.
Приблизительно в это время умер дядя Солона, Энтони Кимбер. Он был женат на Ханниной сестре, но вместе с женой и двумя дочерьми перебрался из окрестностей Сегукита в Трентон, штат Нью-Джерси, где у него был свой бизнес – производство фаянсовой посуды. Теперь Феба Кимбер обратилась к зятю: пусть приедет, поможет распорядиться долей, что причитается ей от трентонской гончарной мастерской. Вдове достались также дом и закладные на несколько ферм, что лежали между Трентоном и Филадельфией; к слову, регион этот развивался весьма быстрыми темпами.
Руфус всегда симпатизировал свояченице и ее мужу. Вдобавок на его решение повлияла горячая привязанность двух сестер – миссис Кимбер и миссис Барнс: кажется, никогда между ними не бывало ни обид, ни разногласий. И Руфус взвалил на себя этот труд, даром что поездка в Трентон предполагала для него лично как проблемы, так и расходы. Пришлось, к примеру, нанять себе в заместители одного из сегукитских Друзей. Впрочем, собственно хлопот оказалось меньше ожидаемого, а пользы – куда больше. Доля покойного свояка, благодаря его деловой сметке, достигала трети всех доходов, что равнялось сорока пяти тысячам долларов. Кроме того, прибыль позволила Кимберу вложиться в другое предприятие – выдачу ссуд фермерам, чьи участки находились между Трентоном и Филадельфией; с учетом быстрого роста населения дело сулило изрядную выгоду. Платежи по одной из таких закладных как раз были просрочены, и Кимбер уже начал переоформление участка, притом весьма обширного, на свое имя – да вот умер. И теперь Руфус, искренне заботясь об интересах свояченицы и племянниц и зная, насколько Феба Кимбер беспомощна во всем, что касается бизнеса, взялся завершить процесс. Если сдать землю в аренду или продать ее, прикидывал Руфус, да еще присовокупить к вырученным деньгам доходы от остальных предприятий покойного Кимбера, Феба и ее девочки смогут остаться в своем трентонском особняке, и жизнь их будет, как и раньше, безбедной.
Оказалось, что судьба назначила этой услуге повлиять на жизнь и интересы самого Руфуса и его детей в неменьшей, если не в большей, степени, чем она повлияла на жизнь его свояченицы и племянниц. Феба Кимбер, понимая, что в плане деловой хватки Руфусу не сравнится с ее покойным мужем, ни в коем случае не хотела ослаблять семейные связи, а, наоборот, стремилась к их укреплению. Ее любовь к сестре диктовалась не одним кровным родством и религиозными убеждениями, и то же самое можно было сказать об отношении Фебы к зятю: не только религия внушала ей сестринское почтение к Руфусу, но и личные его качества.
Ибо все знавшие Руфуса Барнса считали его честным и доброжелательным человеком. Свой скромный достаток он нажил благодаря упорным трудам и чистоплотности в деловых операциях. Хотя ему хватало забот с собственной лавкой и фермой, Феба давно уже – во время визитов, которые Барнсы и Кимберы регулярно наносили друг другу, и по столь же регулярным письмам – сделала вывод, что Руфус находит время на исполнение религиозных обязанностей, отвечает услугой на услугу как соседям, так и Друзьям, и в целом миролюбив и покладист, за что и уважаем всеми без исключения. Недаром в свои сорок лет он уже старейшина сегукитской общины, и в День первый (так Друзья называют воскресенье) усаживается либо в первом, либо во втором ряду, на возвышении, лицом к остальным; эти места в молельном доме предназначены для духовных наставников и старейшин обоего пола. А в доме Руфуса Барнса, как и во многих других домах по всей округе, не гаснет пламень веры.
Так, дети Барнсов, Солон и Синтия, не притронутся к еде без молитвы. И это не все – ни разу еще в этом доме день не начался без того, чтобы миссис Барнс не прочла вслух для мужа и детей главу из Библии, причем по окончании чтения семья еще некоторое время пребывает в молчании. Минуты эти исподволь определяли будущие убеждения и взгляды детей, хотя в силу возраста оба только и могли, что ждать чуда. В любом случае Солон и Синтия до капли впитали тогдашнюю атмосферу – как социальную, так и религиозную. До конца своих дней ни тот ни другая не сомневались в истинности Божественного Животворящего Духа, что присутствует в каждом человеке – того Духа, силой которого всё живет и изменяется; того, который зовется Путеводным Внутренним Светом или Божественным Присутствием, к которому человеки обращаются при сомнениях и потрясениях, в смятении чувств – и неизменно обретают помощь и утешение.
Итак, Феба Кимбер нашла в Руфусе Барнсе преданность и бескорыстие; зять дал ей ряд ценных советов по управлению имуществом и заверил: не беда, если Феба сразу всего не запомнила, он готов по мере надобности консультировать ее и даже приезжать к ней из штата Мэн, даром что для него это проблематично – придется бросать собственные дела.
На этом слове Феба сказала ему:
– А если, Руфус, тебе продать лавку и ферму в Сегуките и перебраться сюда насовсем? Сам видишь, каково мне одной, с двумя дочерьми на руках. Энтони был истинной опорой – наставлял и девочек, и меня; да ведь тебе это известно. Вот я и подумала: если бы вы с Ханной жили здесь, в Трентоне, а не в Сегуките, я бы нашла опору и помощь в вас обоих – и, глядишь, сама пригодилась бы вам. Ты уже убедился, средств у меня хватит на всех нас, особенно если ты станешь ими управлять. Понимаю: у тебя в Сегуките ферма и свое дело. Но ты только представь: здесь, помимо этого дома, есть еще и усадьба недалеко от Даклы – та, которую Энтони хотел оформить на себя. Решайся, Руфус: будете с Ханной хозяйничать в усадьбе, а то живите здесь, со мной и девочками. Я просто подумала, усадьба – это ведь капитал, он ни вам с Ханной, ни детям лишним не будет, особенно Солону; растут дети-то, что ваши, что мои. Сам оцени, какова обстановка в Трентоне: хоть школы здешние возьми, да и филадельфийские тоже. Я уж не говорю о молельных домах – Ханна бы здесь развернулась, это ей не Сегукит. И вот еще что: после Энтони я вряд ли вновь пойду замуж; стало быть, заботы обо мне и девочках не слишком тебя обременят, да еще и окупятся. Только скажи, что мне предпринять, как устроить дела наилучшим образом для тебя, Ханны и ваших детей; ты ведь знаешь, сколь вы все мне дороги.
Феба почти осеклась под сосредоточенным, изучающим взглядом зятя. Руфус молчал, взвешивая за и против. Миссис Кимбер, думалось ему, еще молода и миловидна, даже привлекательна; что сулит ему предложение свояченицы? Определенно не одни только выгоды. Конечно, Феба и Ханна очень любят друг дружку, но еще вопрос, как две семьи уживутся под одной крышей. И как к подобной перспективе отнесется Ханна? И не пожалеет ли со временем сама Феба о своей горячности? В доме окажется две пары детей – их придется контролировать изо дня в день, а детских ссор никто не отменял. Которая из матерей будет разбирать их? И в чью пользу? Нет. Это не вариант. И Руфус, как мог мягко, объяснил Фебе, что должен по крайней мере съездить в Сегукит и поговорить с Ханной.
Не казался ему идеальным и другой вариант – с поселением на ферме о шестидесяти акрах земли. Руфус успел побывать в усадьбе близ Даклы, и дом – обширный, двухэтажный, квадратной формы, с нарядной черепичной, во флорентийском стиле, крышей, в окружении рослых тенистых кедров – представлялся ему очередной проблемой. Особняк этот некогда, еще до Гражданской войны, занимала знатная семья по фамилии Торнбро. Деньги у них водились, об этом можно судить хотя бы по кованой ажурной ограде – вон какая высокая! Или взять полукруг аллеи – если станешь лицом к дому, широкие ворота будут слева; в них, видимо, въезжали экипажи, катили к внушительному парадному крыльцу, с которого в дом ведет широкая дубовая дверь со вставкой из стекла; четыре ее панели украшены искусной резьбой – цветочными букетами. Вообще интерьер изобиловал резьбой по дереву, и в основном она прекрасно сохранилась – это Руфус отметил, еще когда приезжал в Даклу как поверенный миссис Кимбер. Но от него не укрылось и другое обстоятельство: местами резьба все же была повреждена или запачкана, и восстановление этих фрагментов, прикинул он, обойдется недешево. И это не все. Гостиная и другие парадные комнаты щеголяют хрустальными люстрами, предназначенными для свечек, – их надо переделывать под электрические лампочки. Печное отопление следует заменить газовым, что предполагает демонтаж дровяных печей. Нынешний хозяин Даклы – неотесанный, хотя вроде не ленивый, фермер с женой и пятью детьми – по слухам, получил ферму от отца. Семья жаждала уехать и поискать работы в городе, ибо почти весь доход от фермы – весьма скромный, несмотря на усердие, – высасывали налоги и проценты по той самой закладной, что попала в руки Энтони Кимбера.
Глава 2
Куда больший интерес, нежели интерьеры (которые Руфус оценил лишь навскидку), вызвал у него участок, прилегающий непосредственно к особняку, причем как своей площадью, так и степенью ухоженности. Но главное – сами шестьдесят акров пахотной земли. Руфус мигом понял: земля, при грамотном севообороте, будет давать отличные урожаи любых культур, востребованных на рынке, из коего обстоятельства он извлечет выгоду, если, конечно, решит здесь поселиться и сумеет подыскать путных помощников на замену нынешним обитателям усадьбы.
А пока Руфус решил детально обрисовать Фебе ситуацию с домом, парком и прочим. Да, он перечислит все трудности и узнает, нельзя ли пустить на преображение усадьбы часть денег, оставленных Кимбером и не задействованных ни в каких предприятиях. Не могут ведь они с Ханной переехать в дом, почти не пригодный для жилья. Или же, если продавать эту недвижимость к выгоде Фебы и ее девочек – о чем Руфус подумал еще в первый свой приезд, – то тем более надо привести Торнбро в надлежащий, привлекательный вид, который удовлетворил бы покупателя, готового приобрести столь обширное поместье. Опять же требуются деньги. В итоге Руфус вновь съездил в Торнбро и на сей раз обследовал старый дом со всем вниманием, до последнего закоулка. Фебе он сообщил, что усадьба перспективная, – это подтверждают оба риелтора, с которыми он, Руфус, успел проконсультироваться, и сам он это уяснил после осмотра нескольких старых домов, отреставрированных состоятельными филадельфийскими семействами либо для продажи, либо для личного пользования. Ремонт станет в кругленькую сумму, но, по всей вероятности, окажется выгодным для Фебы.
Впрочем, если Феба всерьез говорила о переселении Барнсов в сей новый мир, наименее затратным и одновременно нежелательным будет следующий план: они обосновываются на ферме, Руфус подыскивает работника, который трудится под его руководством. Придется обустроить несколько комнат – небольшую часть дома, только на них четверых (опять же, понадобятся толковые рабочие), а когда ферма сделается доходной, заняться реставрацией всего особняка. На этих словах Феба повторила уже сказанное: Руфус волен действовать в Торнбро на свое усмотрение, ведь она, Феба, все равно завещает ферму им с Ханной. Она с радостью предоставит в распоряжение зятя деньги на ремонт, ведь единственное ее желание – чтобы Барнсы осели поближе к ней.
На решение Руфуса в пользу фермы повлияла и еще одна, не упомянутая им вслух причина. Впервые в жизни Руфус был очарован; он проникся духом Торнбро, ведь столь многое здесь импонировало ему.
Прежде всего впечатлил Руфуса старый, обветшалый каретный сарай позади особняка – он и теперь вместил бы три внушительных экипажа, да еще в нем имелись стойла для шести лошадей, да сеновал под крышей, где хранился также овес, да резные ясли. На дальней стене висели короба со стеклянными дверцами для хранения нарядной сбруи. Уцелел в усадьбе и коровник: новые хозяева коров не держали, но в былые времена небольшое стадо паслось на лугу, а вечером возвращалось под односкатную кровлю. При первом посещении каретный сарай показался Руфусу складом ржавого старья – изношенных плугов, борон, лопат, грабель и топоров. Руфус отметил, что в стойлах содержатся лишь две жалкие клячи, на которых весной и осенью пашут, а зимой ездят в город. Руфус привык считать себя человеком практичным и был приятно удивлен тем, что вид запустения вовсе не удручил его, но вызвал противоположные чувства. Впервые Руфус соприкоснулся с принципиально иным укладом, уловил эхо из другого мира, в котором живется легко и беззаботно – так, как никогда не жилось ни ему самому, ни его жене, ни отцу с матерью, ни родным и близким.
Тем сильнее покоробил Руфуса, только-только проникшегося очарованием, еще хранимым усадьбой, вид загаженного свинарника, где валялась свинья со своим выводком. Чувство брезгливости усугубилось, когда Руфус заметил, что свинарник устроен возле колодца, откуда в старину брали питьевую воду.
С южной стороны особняка лежал пустырь, в прежние времена бывший ухоженным газоном; там, ровно посредине, Руфус увидел двойное кольцо подгнивших столбов. Их расположение говорило о том, что некогда здесь помещалась огромная беседка или же навес – такие еще сохранились в других обширных усадьбах близ Трентона. Тень создавали вьющиеся растения, возможно плющ. Глядя на останки этой беседки, Руфус живо представил праздное сборище людей состоятельных, не обремененных, в отличие от него, ни трудами, ни заботами. Недопустимые излишества во всем – яствах, напитках, нарядах, убранстве; какая досада, что они имели место здесь, в этом доме! И не позор ли (рассуждал Руфус), что красота и очарование Торнбро неотделимы от бессмысленной расточительности и тщеславия, не говоря уже о ненасытных аппетитах, пьянстве, распутстве и прочих грехах бренной плоти, которые отважный Джордж Фокс хотел искоренить навек, – в том-то и суть его учения.
Однако более всего – причем еще в первый приезд – Руфуса потрясла речка под названием Левер-Крик. Исток ее был к северо-западу от Трентона, далее она сворачивала к юго-востоку, чтобы слиться с рекой Делавэр, – в какой конкретно точке, Руфус не потрудился узнать. Кое-где Левер-Крик была узехонькая – от силы восемь-десять футов; кое-где, например в месте пересечения ею границ усадьбы, а именно с северо-западной стороны, в трехстах футах от каретного сарая, достигала ширины в тридцать, если не во все пятьдесят футов. Извиваясь, однако удерживая юго-восточное направление, Левер-Крик пересекала усадьбу по диагонали. Она текла к проселку, что, убегая с востока на запад, цеплял Торнбро по касательной. Здесь Левер-Крик образовывала три мелководные заводи. Самая обширная из них была не глубже четырех футов, и именно к ней спускалась лужайка. Некогда обитатели Торнбро приближались к воде живописной тропой, по обеим сторонам которой росли декоративные травы и цветы.
Март только начался, погода была еще зимняя. Снег с земли сошел, а лед на речке держался, и заводь, подобно зеркалу, отливала черно-синим. Впрочем, Руфус легко представил, как все здесь выглядело в прежние времена. Еще мальчиком он мечтал: вот бы возле дома была речка! – но пройтись по окрестностям, поискать таковую времени не выкроил. А теперь эта речка перед ним! Его обожаемые дети, Солон и Синтия, будут просто счастливы! И девочки Фебы, конечно, тоже.
С западного берега Руфусу были видны характерные ямки на берегу противоположном – некогда там стояло три-четыре скамьи. Хозяева и гости усадьбы, перебравшись через речку по пасторальному мостику, отдыхали на этих скамьях, в тенечке. Сам мостик давно обвалился, о нем напоминала только пара столбиков – бывшие сваи; обломки гнилой древесины унесло весенними и осенними паводками. А в прежние времена, прикидывал Руфус, не одно поколение детей плескалось в этой заводи. И Руфусу представлялось, как дети здесь плавают и удят рыбу – сомиков да синежаберных солнечников; в погожие дни эта мелюзга, уж наверное, хорошо просматривается на мелководье с намывами коричневатого песка.
Вот как случилось, что Руфус, последовательно обходя свинарник, колодец и останки беседки с целью определить степень их разрушения и сыскать другие признаки упадка, неожиданно для себя размечтался о временах давно минувших. Религиозность сдерживала его, но мысль уже зародилась: а вдруг он, Руфус, призван восстановить, пусть на одном-единственном участке земли, лучшие элементы прежнего уклада – отбросив грех и суетность, оставив радость и свет?
Глава 3
Итак, Руфус Барнс вместе с семьей в итоге перебрался в усадьбу Торнбро, что рядом с городком Дакла и в двадцати пяти милях от Филадельфии. Фебу Кимбер больше всего радовало малое расстояние между трентонским ее домом и Торнбро – всего шесть миль, пустяк для конного экипажа. Разумеется, близость двух домов способствовала тому, что связь между семейством Кимбер и семейством Барнс установилась как нельзя более тесная. Руфус, не умея, подобно покойному Кимберу, ни ловчить, ни чуять выгоду, был трудолюбив и честен. С прибылью продав долю Кимбера в гончарной мастерской, Руфус вложился в закладные на землю и тем обеспечил Фебе приличный постоянный доход, процент которого доставался ему как душеприказчику и управляющему. Очень скоро на молитвенных собраниях в Дакле местные Друзья стали оказывать Руфусу такое же почтение, каким пользовался в трентонской общине его покойный свояк. Словом, за десять лет, что прошли между водворением Барнсов в усадьбе Торнбро и женитьбой Солона на Бенишии Уоллин, положение семьи изменилось, и весьма существенно, как в материальном, так и в социальном аспекте.
Хлопоты, связанные с возрождением Торнбро если не в первозданном, то хотя бы в сравнимом с ним виде, странно влияли на Руфуса Барнса. Он ощущал послевкусие былого очарования усадьбы. Ни роскошь, ни праздность, ни высокий статус в обществе не впечатляли его; о нет, в Торнбро для Руфуса воплотились отнюдь не эти понятия. От усадьбы слабо веяло стариной, и с чего Руфусу морщить нос, если этот аромат подразумевает красоту? Красота – Руфус это усвоил еще в детстве, из проповедей и Библии, из духовных озарений многих Друзей – самим Господом заложена в каждом его творении, и потому неизменна.
Постепенно, вдумчиво Руфус Барнс возрождал усадьбу, и приметы ее красоты, как обусловленные ландшафтом, так и рукотворные, проступали яснее и яснее. Например, был отремонтирован ветхий каретный сарай – его вычистили и покрасили, а инструменты, еще годные в дело, починили и сложили в пустующем коровнике. Опоры старой беседки убрали, освободив место для беседки новой, столь же изящной и тенистой. Русло прелестной Левер-Крик расчистили и перегородили повыше заводи, чтобы течением не нанесло веток, которые могли бы захламить песчаное дно. Лужайку заново засеяли травой и разбили на ней клумбы прежних форм, с высокой кованой изгороди удалили ржавчину, старый металл покрыли краской. В свой срок усадьба, по крайней мере снаружи, стала прежней – такой ее не видели уже тридцать лет, со времен последнего члена семьи Торнбро.
Другое дело – ремонт в комнатах и холлах: старый особняк словно бросил вызов Руфусовой вере, ибо здесь впервые в жизни Руфус воочию увидел если не саму роскошь, то ее остатки. Он считал себя обязанным придать Торнбро вид загородного дома, привлекательного для покупателя, с тем чтобы его можно было продать в пользу Фебы, но эта самая привлекательность подразумевала роскошь – то есть стиль жизни, неприемлемый для человека с такими, как у Руфуса, религиозными убеждениями.
Взять хотя бы внушительную парадную дверь – она вела в пышный зал с широкой нарядной лестницей. Балюстрада была сработана из полированной древесины грецкого ореха. Никаких признаков разрушения балюстрада не являла, ее следовало только почистить да заново покрыть лаком. Слева от главного входа помещались внушительные колонны числом двенадцать, также из древесины грецкого ореха. Колонны отделяли вход на антресоль и на лестницу от просторной гостиной с высокими окнами, что глядели на юг и на запад; вид был прелестный – сплошь луга да рощицы. Между двумя западными окнами имелся большой камин – в него влезло бы даже четырехфутовое бревно, – с боков и сверху отделанный мрамором. Увы, отделку, а также каминную полку из белого мрамора испещряли трещины. О реставрации не шло и речи – только полная замена.
В главном зале стены и потолок украшали фризы и медальоны с цветочными мотивами. Гипс потемнел и частично осыпался – лепнину надо было восстанавливать. Однако плачевное состояние главного зала странным образом импонировало Руфусу; по крайней мере, он не улавливал тут вызова своей приверженности простоте во всем. Зато остальные двенадцать комнат этого почти столетнего особняка, парадная лестница в виде ленивой спирали и лестница черная, для прислуги, вместительные чуланы и кладовки, хозяйские спальни с очаровательными миниатюрными каминами и плетеными диванчиками в оконных нишах, а также винные погреба немало коробили Руфуса, поскольку говорили о богатстве и комфорте, которые он считал излишними для себя и своей семьи. Руфус оказался между двух огней: с одной стороны, необходимость отремонтировать дом как положено, с другой – внутреннее сопротивление: простота, сообразная с его убеждениями, против роскоши известного сорта, ожидаемой потенциальным покупателем. Решение этой дилеммы Руфус видел в том, чтобы привести в порядок минимум жизненного пространства – ровно столько, сколько требуется неизбалованному семейству.
Колебания начались, уже когда ферма стала доходной. Феба Кимбер утверждала, что не отпишет Торнбро никому, кроме Руфуса с Ханной или их детей. Вот теперь Руфус задумался, взвесил свою любовь к жене и детям, учел долгие годы трудов и лишений, через которые они прошли вместе; разве не жестоко будет и дальше во всем ограничивать Ханну и детей, даже если сама Ханна не возропщет?
Что до Фебы, она, обожая сестру, не скупилась. По ее настоянию и за ее счет четыре верхние спальни были заново отделаны и обставлены. Одна из них, самая просторная и с самым лучшим видом из окон, предназначалась для Руфуса и Ханны. Ближайшая к ней комната считалась гостевой, но, поскольку самой частой гостьей предстояло стать самой Фебе, и комнату она убрала по своему вкусу.
Рода и Лора, дочери Фебы, должны были делить спальню с Синтией, случись им остаться в Торнбро на ночь. Наконец, четвертая комната досталась Солону, и Феба, отделывая и меблируя ее в лаконичном стиле, получила особое удовольствие. Она очень любила племянника за его сдержанность и всепоглощающую привязанность к матери, а также за полное отсутствие тщеславия.
Глава 4
В материальном аспекте усадьба Торнбро была полной противоположностью сегукитскому коттеджику Барнсов с его безыскусной обстановкой. Солон, в котором чрезмерная ранимость удивительным образом никак не проявлялась внешне, был потрясен переменами, однако степень их влияния на мальчика станет ясна, только если проследить его развитие в течение первых десяти лет жизни в Сегуките – аккурат до того часа, когда семья переехала в Даклу.
Что знал и видел Солон-ребенок? Родительский дом и собственно городок Сегукит – только и всего; царила же в этом мирке мать. Главным образом так было потому, что Ханна Барнс – женщина рассудительная, религиозная, деятельная – не жалела на единственного сына душевных сил. С самого начала, когда младенческий лепет еще не перерос во внятную речь, Ханна заметила: ее мальчик несколько заторможен; во всяком случае, другие малыши играют охотнее и активнее. На третьем году жизни у Солона появилась сестренка; казалось бы, вот и подружка для игр, но нет – мальчик теперь, бывало, вовсе замирал, как бы не умея выбрать следующее занятие. Ему купили игрушки: красный мяч, тряпичную зеленую мартышку (Руфус приглядел ее в соседнем городке под названием Огаста) да еще красный деревянный фургончик – его можно было катать взад-вперед. Однако периодически Солон, сунув пальчик в рот и устремив взгляд в никуда, застывал, вовсе безучастный к игрушкам. Мать, встревоженная неподвижностью и молчанием, то подхватывала сына на руки и принималась ласкать, то щекотала, чтобы он рассмеялся. Позднее она догадалась – свела его с ровесницей, соседской девочкой, задорной и непоседливой. Этой малышке удавалось растормошить Солона, и в течение часа или двух, что дети проводили вместе, он вроде бы даже получал удовольствие от игры или по крайней мере выказывал к ней интерес.
Не знавший хворей и не по возрасту сильный, Солон рано стал для матери настоящим помощником. Он с готовностью мчался выполнять ее поручения из категории «принеси – подай» и даже сам выдумывал себе новые простенькие задания. Читая по утрам и вечерам вслух из Библии, миссис Барнс каждую секунду ощущала напряженное внимание Солона; мистер Барнс был на этот счет не столь чуток. Мать не сомневалась: всем, что бы ни сказали она или ее муж, Солон проникнется много сильнее, чем Синтия, недаром же у мальчика такой вдумчивый взгляд! Однажды, на шестом году, оставшись наедине с матерью, Солон спросил:
– А Господь – он с виду как мы, да, мама?
– Нет, Солон, – ответила миссис Барнс. – Господь бестелесен, он есть дух, он подобен свету, который повсюду, или воздуху, что ты вдыхаешь, или звукам, что слышат твои ушки.
– Стало быть, Господь не живет у нас в головах?
– Ничего подобного, – выдала миссис Барнс после паузы (вопрос мальчика изрядно ее озадачил). – Господь – он вроде мысли; он приходит к тебе этаким, как бы это объяснить, чувством. Ну да – ощущением тепла. К примеру, если ты содеял дурное, ты не сам это поймешь – тебе подскажет Господь, а уж ты тогда раскаешься и устыдишься.
– И так со всеми, мама? Господь каждому внушает стыд?
– Старается каждому внушить, солнышко. Но ты-то ведь дурного не делаешь, я же знаю. Ты у меня хороший мальчик – божье дитя. – И миссис Барнс нежно погладила сына по голове.
У нее подоспело тесто; им она и занялась, а Солону сказала:
– Пойди-ка поиграй.
Мальчик, однако, не шевельнулся, потом вдруг, стиснув кулачки, начал всхлипывать, а там и зарыдал в голос. Потрясенная, миссис Барнс своими сильными руками обняла сына, отняла от его мордашки маленькие кулачки, принялась целовать, спрашивая:
– Что такое, Солон, родной? Почему ты плачешь? Не таись перед мамой. Наверняка это какой-нибудь пустяк; расскажи маме, ведь мама любит тебя сильно-пресильно.
Снова и снова миссис Барнс целовала своего мальчика, прижимала к груди и повторяла:
– Не плачь, откройся мне.
Наконец, прерывая речь всхлипами, Солон проговорил:
– Это… это из-за птички. Я нечаянно, нечаянно ее убил. Просто Томми… он дал мне свою новую рогатку, только попробовать, а я… я…
Рыдания возобновились, а миссис Барнс, полагая, что речь идет о невинной детской шалости, но желая тем не менее утешить сына и одновременно внушить ему, что и она, и Господь все поймут, продолжала его баюкать, и ласкать, и целовать в круглую головку, и убеждать рассказать по порядку.
Так она вытянула из сына всю историю – и впрямь невинную, но оттого не менее печальную, даже трагическую. Задействован в ней был Томми Бриггем, мальчик двумя годами старше Солона и не из квакерской семьи. Отец Томми, укладчик железнодорожных путей, трудился в поте лица, а сын ходил в бесплатную городскую школу. Недавно Томми обзавелся рогаткой, из которой стрелял по всем объектам, которые представлялись ему достойными мишенями. Надобно сказать, что у Барнсов во дворе росли сосны, и вот Томми, заметив на ветке шишку, вздумал сбить ее, но только впустую израсходовал три или четыре камешка, что носил в кармане. Солон, гулявший тут же, заинтересовался и попросил:
– Томми, дай, пожалуйста, и мне попробовать.
– Валяй, – ответил Томми. – Поглядим, что ты за стрелок.
Тем временем на верхней ветке устроилась самочка кошачьего дрозда – ее гнездо было тут же, в барнсовском дворе. Солон заметил птицу и, уверенный, что сбить ее все равно не сможет, прицелился и выстрелил. К изумлению обоих мальчиков, птица упала замертво – у нее была перебита шейка. Лишь теперь Солон осознал содеянное. Никогда прежде он не причинял вреда живому существу – не говоря об убийстве, и теперь был готов броситься бежать, скрыться ото всех. Юный Бриггем, видя, как Солон бледен, прервал его возгласы «я же не хотел!» и «я не нарочно!» уверенным комментарием:
– Ну еще бы. Вдругорядь тебе нипочем не попасть, хоть мильен попыток сделай. Давай-ка лучше на твою добычу поглядим.
Оставив ошеломленного Солона, Бриггем поднял птицу с земли и, повертев ее тельце в перышках свинцового оттенка, заметил:
– Будет нашей кошке чем поживиться.
Тут ему пришла новая мысль:
– Спорим, у нее где-то рядом гнездо!
И, раздвинув кусты, почти нырнув в их гущу, Бриггем выкрикнул:
– Топай сюда, покажу кой-чего. А чисто ты на сей раз сработал, салага.
Бриггем подхватил Солона под мышки, чуть ли не носом ткнул его, онемевшего от ужаса, в круглое, свитое из травы гнездышко, в котором тянули шейки, разевали большие желтые клювы четыре жалких птенца.
– Видал? Вон кто у ней остался, у дроздихи-то. Снесу их кошке – так и так не жильцы.
– Это была их мама? – срывающимся голосом уточнил Солон.
– Кто ж еще-то? Чего она, по-твоему, тут мельтешилась?
Солон обмяк в Бриггемовых руках. Бедные птенчики! Бриггем теперь отдаст их кошке на съедение вместе с птичкой-мамой. И это его, Солона, вина!
– Пожалуйста, Томми, не забирай птенцов! – взмолился Солон, когда Бриггем поставил его на землю и потянулся за гнездом. – Может, мы с мамой их как-нибудь сами выкормим. Беда-то какая! Я не хотел убивать птичку.
И Солон разрыдался возле злополучного куста:
– Бедные, бедные дроздики! Зачем только я стрелял в их маму?
Эти слезы растрогали даже Бриггема.
– Так ты ж не хотел, случайно вышло. В другой раз не получится, – неловко утешал он Солона. – А птенцов тебе все равно не выкормить. Что они едят, одним птицам известно. Кончай реветь. Ты не виноват. Просто не стреляй больше в птиц.
И Бриггем, схватив гнездо с четырьмя птенцами, поспешил домой, Солон же еще долго не мог двинуться с места.
Вечером кусок не лез ему в горло. Когда ужин был окончен, Солон, обессиленный, лег на кушетку в гостиной. Мать сочла, что он переутомился, и отправила его в мансарду, разгороженную надвое, чтобы свой уголок был у каждого из детей. Спалось Солону дурно, и наутро его жалкий вид не на шутку встревожил миссис Барнс: она даже подумала, не дать ли сыну слабительное и не означает ли его недомогание серьезную болезнь.
Однако именно в то утро Солон решился все рассказать матери и выполнил задуманное уже днем, предварив признание вопросом о возможной телесности Господа. Выслушав рассказ о мнимом прегрешении, миссис Барнс смутилась. Где он, истинный источник зла – ведь, как ни крути, зло имело место? Разумеется, детское желание стрельнуть из рогатки естественно и невинно постольку, поскольку дитя не замышляет причинить вред никому из живых существ. И уж тем более ничего подобного не держал в уме Солон: определенно, мальчик не понимал разницы между двумя целями – птицей, у которой сейчас целый выводок птенцов, и сосновой шишкой. Да ее мальчик вообще не рассчитывал попасть ни в первую, ни во вторую, ни во что-нибудь третье – в этом миссис Барнс убедили ответы сына и его искреннее горе. Нет, с его стороны это было простое любопытство, ведь Солон даже не знал, что дрозды гнездятся в густых кустарниках и что как раз сейчас выкармливают птенцов.
Сразу простив своего обожаемого сына, который не ведал, что творит, и переживал так искренне, миссис Барнс, однако, немало встревожилась. Как разум ее, так и веру смутил тот факт, что большое зло порой является по воле случая, независимо от дурных намерений и жестокости – их вообще может не быть.
С жаром убеждая сына, что причин корить себя у него нет, миссис Барнс одновременно внушала ему, насколько важно заранее взвешивать свои поступки и всегда и везде обращаться за советом и наставлением к Внутреннему Свету. Тем не менее прошло несколько лет, прежде чем миссис Барнс перестала содрогаться при мысли о случае с дроздиным семейством, хотя память о нем не изгладилась в этой женщине до конца ее дней.
Глава 5
Когда Солону шел восьмой год, его постигло несчастье не менее значимое, хотя и совсем другого рода. Речь о болезни, которая не сразила бы мальчика, не будь он изначально таким крепышом. Именно по причине физической силы и выносливости отец очень рано стал брать сына в лес по дрова. Поначалу Солон ездил ради забавы – ему нравилось в лесу. Чуть позднее, когда он дорос до того, чтобы удерживать топорик, подаренный отцом, Барнс-старший доверил сыну обрубать ветки с поваленных деревьев. Дальше – больше: видя, как играют в первенце юные силы, Руфус позволил ему участвовать в процессе рубки. Эта работа пришлась Солону по душе; он испытывал восторг, обрушивая наравне с отцом великолепные хвойные деревья прямо в снег.
Именно во время одной из таких вылазок за дровами свежезаточенное лезвие топорика соскользнуло с толстенного ствола и вонзилось Солону в левую ногу повыше лодыжки. Рану следовало немедленно промыть и перебинтовать, но прошло несколько часов, прежде чем это, как умела, сделала миссис Барнс. Сначала вызвали доктора – единственного на всю общину; он же, мало того что не слишком спешил, так еще и оказался профаном в своем деле. Бегло взглянув на рану, которую отец Солона перевязал носовым платком и тряпицами, доктор проследовал в сарай, где принялся готовить к операции свой скальпель – точить на шлифовальном бруске!
Результатом стало заражение. Хотя миссис Барнс после доктора сама еще раз промыла и перевязала рану и невзирая на физическую крепость мальчика, состояние его ухудшилось настолько, что он сам ощутил небывалое прежде – близость последней великой перемены. Болезнь сына потрясла Ханну; страх потери отчетливо читался на ее белом как полотно, напряженном лице. И Солон угадал по этому лицу страшное. Вот как это вышло. Мальчик был уже совсем плох, и к нему вызвали другого доктора. Ногу разбинтовали, и выяснилось, что рана открылась. Повязку снимала миссис Барнс, а Солон глядел во все глаза. Когда ему предстала разверстая плоть, он, вообще-то не плаксивый, разрыдался: лицо матери, серьезное, ангельски покорное, выдало мальчику ее истинный настрой.
Итак, Солон всхлипывал, а Ханна продолжала бинтовать ему лодыжку. Внезапно ее руки застыли, а в лице произошла перемена – оно исполнилось благоговения, знакомого Солону по утренним и вечерним молитвам. Теперь мать молчала, но выражение ее лица говорило о силе духа и вере. Солон понял, что мать молится. Вот она подняла взор, застыла. Прошло несколько минут, и миссис Барнс повернула голову, заглянула в заплаканные глаза мальчика и заговорила таким тоном, словно впала в транс:
– Не плачь, сын мой Солон, ибо с этого мгновения твои жизнь и здравие вверены мне. Ты не умрешь – напротив, для тебя все только начинается. Господь пожелал сделать грядущие твои дни лучшими, нежели минувшие. Ты выживешь, чтобы служить ему истово и с любовью.
Сказав так, миссис Барнс возложила на лоб Солону правую ладонь и вновь подняла очи горе. И в наступившей тишине малолетний ее сын внезапно почувствовал облегчение. Страх оставил мальчика: уверовав, что поправится, он вновь был готов жить – и поправился.
С тех пор постоянным спутником Солона стало ощущение, что он в долгу перед матерью – такой искренней, такой добродетельной, столь пекущейся о его благе. Ни при матери, ни в ее отсутствие Солон даже не помышлял о том, чего она могла бы не одобрить. Мать была мерилом всех его поступков. За годы, что судьба дала им провести вместе, свои привязанность и почтение Солон явил считанное количество раз, однако миссис Барнс не сомневалась: большей любви, чем испытывает к ней Солон, не пожелает ни одна мать, и тоже души не чаяла в сыне.
Крепыш и силач, Солон никогда первый не лез в драку – не было мальчика миролюбивее, чем он. С другой стороны, Солон никому не спускал ни насмешек над собой, ни пренебрежительного отношения, что и довел до всеобщего сведения довольно рано. В городе пытался заправлять некий Уолтер Хокатт, сын плотника, верзила чуть старше Солона. Не имея успеха у девчонок, этот Хокатт, терзаемый банальным тщеславием, при каждом случае рвался доказать свое превосходство в катании на коньках, плавании, нырянии, а также в борьбе по правилам и без оных. Квакерсксую школу он не посещал – он вообще не имел склонности к учению, зато считался первым в Сегуките борцом среди ребят его возраста, веса и комплекции.
В паре миль от центра города было озеро с удобным пляжем, там-то и околачивался Уолтер Хокатт – вызывал на бой всякого, кто приходил искупаться. Однажды вызов получил Солон – Хокатту не давали покоя его физические данные в сочетании с добродушием, и вдобавок бесила квакерская привычка «тыкать» всем без разбору. Теперь он жаждал доказать, что запросто уложит Солона на обе лопатки. Солон, уверенный в своей силе, ничуть не оробел.
– Будь по-твоему, – ответил он, и тотчас борцы начали «прощупывать» друг друга. Вокруг них собралось человек семь зрителей – мальчишек разных возрастов.
Вскоре стало ясно: Хокатт, этот здоровяк, поднаторевший в драках и уверенный, что живо одолеет и тем посрамит Солона, в соперники ему не годился. Его излюбленные приемчики – атаки и отскоки, а также подножки – в случае с крепышом Солоном не срабатывали. Хокатт лишь вымотался сам – и, разгоряченный, всем весом обрушился на противника, думая: ну, теперь-то он не устоит! Солон же попросту схватил Хокатта, приподнял – и поверг ниц. Хокаттовы лопатки втиснулись в землю. Мало того, удерживая Хокатта в таком положении, Солон на диво беззлобно вопросил:
– Сдаешься ли ты теперь?
Прежние Хокаттовы жертвы при этом завопили:
– Хокатт повержен! Хокатт на лопатках! Победа за Барнсом, ура!
Хокатт рассвирепел. Отпущенный наконец-то Солоном, он вскочил и выкрикнул:
– Квакер треклятый! Давай-ка без правил схватимся – увидишь, как я тебя под орех разделаю!
Тут в хор вступили младшие мальчики, болевшие отнюдь не за Хокатта.
– Чего придумал! Барнс его уложил, а ему неймется!
Далее последовали комментарии, усугубившие Хокаттову ярость; Солон же спокойно ответил:
– Я с тобой драться не хочу. Сам знаешь – мы не ссорились.
Хокатт не внял. Глухой к добродушию Солона, не разделявший его желания закрыть вопрос, Хокатт замахнулся, но его удар Солон парировал левой рукой. К счастью, появился мальчик повыше и покрепче каждого из соперников. Зная, что за тип Уолтер Хокатт, и живо оценив расклад – миролюбие против опустошающей злобы, он выступил вперед и отчеканил:
– Хокатт, ты что себе позволяешь? Тебя победили в честной борьбе, так чего ты прицепился к Барнсу? Тебе же сказано: не хочет он драться, и точка. – Затем миротворец обернулся к Солону. – Ступай, Барнс. Я прослежу, чтоб он к тебе не лез.
Солон пошел купаться, а Хокатт, под надзором более сильного мальчика, молча удалился. Его потряхивало, уязвленная гордость причиняла боль, ибо разве не потерпел он поражение от презренного квакера?
Глава 6
Первые впечатления от нового места жительства были связаны для Солона с самой усадьбой – ее размерами, стилем и темпами преображения, а также с тем фактом, что тетушке Фебе удавалось влиять не только на его отца – в конце концов, он же душеприказчик, – но и на обожаемую мать. Не раз и не два Солон сам видел, как внимательно мама прислушивается к теткиным идеям – что надобно Барнсам в их новом положении, а чего не надобно. Солон быстро усвоил: настоящая хозяйка Торнбро – именно тетя Феба, и обязанность его отца, а пожалуй, и матери – всеми силами способствовать восстановлению усадьбы. В результате оба родителя, да и сам Солон вместе с Синтией, смирились и взяли курс на стремление к материальным благам – например, в школу при местной квакерской общине юным Барнсам следовало теперь одеваться куда лучше, чем раньше, в Сегуките.
Того требовало общественное положение, ведь школа в Дакле, где учились дети квакеров числом около шести десятков, имела весьма высокие стандарты – не в пример сегукитским школам, хоть квакерской, хоть государственной. Смущало же Солона другое: он никак не мог понять, в чем, собственно, разница. И его новенький костюм, купленный тетей Фебой, и платье Синтии были строго скроены и пошиты из тканей приглушенных оттенков, без рисунка, но странным образом выглядели дороже, чем школьная одежда ребят из Сегукита. Мало того, здешние мальчики и девочки держались высокомерно, словно в них въелась уверенность в собственном превосходстве. Солон недоумевал и сердился. Да чем же отличаются от них с сестрой эти, даклинские? Разве только статусом родителей. Других версий у него не было, ведь в Сегуките, в школе при общине, никто нос не задирал.
Толика света на эту несуразность пролилась, когда Солон с Синтией побывали в гостях у тети Фебы, в трентонском ее доме на Роузвуд-стрит – детей пригласили на выходные, с тем чтобы они также посетили молитвенное собрание в Трентоне. Солон собственными глазами увидел, как отделан и обставлен тетушкин дом – уж конечно, в Сегуките ничего подобного не водилось. А тут еще кузины, Рода и Лора – одна ровесница ему самому, другая – Синтии; в обеих сквозит это осознанное превосходство, и даже внешне обе походят на даклинских учениц. Солону – если на его тогдашнее мнение вообще можно было положиться – показалось, что кузины зациклены на мальчиках еще больше, чем девочки из даклинской школы. Рода и Лора встретили его достаточно дружелюбно, однако с тех пор Солон начал замечать, что интересует девочек куда меньше, чем другие мальчики. Так было в Сегуките, ничего не изменилось и здесь. Практически всегда девочки шагали на занятия или домой либо в компании подружек, либо вместе с каким-нибудь мальчиком, а вот к нему, Солону, считай, ни одна не приблизилась, не заговорила, не пожелала пройтись рядом. В лучшем случае Солон удостаивался дружеского «привет», а между тем миловидную Синтию нередко останавливали, расспрашивали о новом доме и занятиях, и только появление отцовской двуколки с Джозефом Кумбсом вместо кучера – его Руфус недавно нанял в помощники – прерывало эту болтовню. Юных Барнсов везли домой, в усадьбу Торнбро, вид которой все больше соответствовал местным стандартам материального достатка.
Впрочем, и здесь, как и в Сегуките, отец и мать Солона выделяли утром и вечером время на ожидание, когда на них снизойдет Внутренний Свет – сиречь Бог – и направит их помыслы к простоте во всем, избавит от тяги к спутникам суетности, будь то детали одежды или интерьера, предметы мебели или элементы внешней отделки дома. Речь шла о любых вещах из дорогостоящих либо просто ярких, броских материалов, если такие вещи создавались не для пользы. Не всегда именно бесполезные вещи бывали темой утренних и вечерних молитв, однако опасность пристраститься к роскоши упоминалась старшими Барнсами достаточно часто, чтобы ни Солон, ни даже Синтия не теряли бдительности.
Тем не менее новые обязанности продолжали сказываться на Руфусе Барнсе. Отец Солона менялся на глазах сына, превращаясь в человека, по которому сразу было видно: его нынешние дела не чета сегукитским делишкам – возне на ферме да торговле сеном и зерном. Там, в Сегуките, Руфус почти не отличался внешне от простого фермера, и так же одевался Солон, после школы помогая отцу в лавке. Теперь его отец следил за работой в восьми фермерских хозяйствах – все они принадлежали Фебе, и от Руфуса требовалось не только добиться прибылей, но и сделать фермы годными к продаже. Со временем Руфус настолько преуспел в первом пункте, что почувствовал себя вправе забирать пятнадцать процентов общего дохода. Медленно, но неуклонно Руфус проникался мыслью о необходимости завести более солидный костюм, более резвую лошадь, более современный экипаж – в подражание дельцам, с которыми вступал в контакты по поводу имений свояченицы. Сказывался и самый дух региона – здесь все свидетельствовало о процветании, и Руфусу определенно не следовало диссонировать, по крайней мере внешне.
К этим переменам Солон привыкал, что называется, со скрипом. Его коробило, когда он наблюдал за отбытием отцовского экипажа по утрам или встречал отца вечером – а времечко стояло горячее, весеннее, и приближалась еще более хлопотная летняя пора; куда только делись сегукитские простота и смирение, думал мальчик. На четырнадцатом году жизни он стал замечать у отца небывалую важность в повадках и цепкость во взгляде. Мало того, отец взял в привычку бездельничать на лужайке – та, как и вся усадьба, обретала прежнюю прелесть. Посидев с минуту на одной деревянной скамье, Руфус перемещался на следующую. Скамьи он установил над заводью полукругом, и с каждой можно было любоваться очаровательной речкой Левер-Крик – расчищенная, она теперь еще вольнее текла среди деревьев и цветов усадьбы Торнбро.
Руфус же впервые в жизни предавался поэтической неге, позволял себе эту невинную радость – сердцем откликнуться на красоту природы, пусть и в одном отдельно взятом имении. О, эта милая речка! Эти рослые кедры, что стерегут северо-западный край Торнбро! Эти пасторальные скамьи! Эти рыбки, столь хорошо заметные на мелководье! Эти цветы – мальвы и рудбекии на клумбах, кампсис и ипомея, что оплели беседку, ну и, конечно, россыпи маргариток на лужайке! Не верилось, что Господь, создавший сей приют тихих восторгов, вдруг возьмет да и вручит его кому бы то ни было – берите, владейте! А вот же – Торнбро поручено заботам Руфуса, и распорядилась так щедрая Феба, сестра его жены!
В один прекрасный вечер Руфус поймал себя на цитировании стиха из Книги пророка Исайи. Это был его любимый стих, номер 55:1, Руфус регулярно читал его детям: «Жаждущие! Идите все к водам! Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Увлекшись, Руфус добрался в мыслях до псалма номер 23, а завершил молитву следующими словами: «Воистину благость и милость сопутствуют мне во все дни жития моего, и да пребуду в доме Господнем вовеки».
Не успел он выдохнуть после молитвы, как подали голос разом два дрозда – кошачий и бурый; трель последнего дивно разлилась в вечернем воздухе. Руфус, внимая птичьему пению, забыл о словах. И ему пришла замечательная мысль: в каждой из спален, и в гостиной тоже, и в столовой он поместит на стену священный текст – свидетельство благодарности Создателю и Спасителю за те блага, которые он до сих пор ниспосылал семейству Барнс. Для супружеской спальни Руфус тотчас выбрал следующий стих: «Он ведет меня к мирным ручьям; Он восстанавливает душу мою»; благочестивые слова либо отпечатают в типографии, либо начертают кистью и цветными красками. В большой гостиной над камином будет написано: «Ибо милость Твоя пред очами моими». В столовой: «Ты приготовил трапезу передо мной». В комнате Солона: «И все, кто живет в мире и во всей его полноте, принадлежат Господу». В комнате Синтии: «Покажи мне пути Твои, Господи, научи меня стезям Твоим», а в комнате миссис Кимбер: «На Господа уповаю», – ибо сейчас с особенной ясностью (впрочем, как и весьма часто до этого мига) Руфус ощутил необходимость вверить Господу и самый дом, и каждую из его комнат, и все блага земные, им, Руфусом, нажитые.
Глава 7
Возвышенная, исполненная благодарности религиозность сочеталась в Руфусе с практичностью. Пусть не сразу, он все-таки заметил: многие из здешних членов Общества друзей отнюдь не чураются комфорта и с охотой принимают социальные привилегии, обусловленные наличием капиталов. И Руфус если не совсем машинально, то уж, во всяком случае, без полного охвата проблемы разумом, стал искать дружбы с такими вот квакерами – потенциальными деловыми партнерами, заинтересованными в покупке сена, зерна, фруктов, овощей и ягод, как тех, что выращивал сам Руфус, так и тех, что выращивали залогодержатели миссис Кимбер. Постепенно составился круг торговцев и оптовиков (все они были из Даклы либо окрестностей), которые казались Руфусу не слишком зацикленными на личной выгоде, не в пример тем, с которыми он сталкивался в Трентоне. Кто-то из них принадлежал к Друзьям, кто-то – нет, однако все считали Руфуса Барнса человеком симпатичным, надежным и честным: такие пекутся о доходе, и весьма, но жажда наживы их не одолевает.
Опять же Руфус, Ханна и их дети пришлись ко двору в даклинском Обществе друзей. Феба даже решила сама изредка присутствовать на молитвенных собраниях в Дакле, раз Ханна и Руфус теперь там свои. Точнее, по несколько иной причине: в тени мужа Фебе Кимбер было вполне комфортно, и вот теперь, когда Энтони умер, она привычно заняла то же самое место при сестре и зяте.
И снова Солон по-своему понял значение перемен. До сих пор он чувствовал, что отец заботится о нем не только из родительской любви, нет: наставляя его, отец смотрит в будущее, возможно – уже недалекое, ибо даже в сегукитские времена, когда семья балансировала на грани бедности и Солон после занятий помогал отцу в лавке, а летом – еще и в поле, начались отцовские намеки, а то и прямые напутствия: учись, мол, управлять экипажем, пахать, сеять, убирать сено, а еще примечай, как я веду расходные книги, как храню товары, как выписываю накладные и слежу, чтобы счета отправлялись строго первого числа каждого месяца. «Вот умру, – говаривал отец, – тебе эти умения пригодятся, ведь на руках у тебя окажутся мать и сестра».
Солон внимал с трепетом – речь шла о матери. Уж он-то, Солон, ради нее в лепешку расшибется, если и впрямь отцу суждена ранняя смерть!
Вот он и усердствовал, вот и учился всему, что должен уметь фермер и лавочник. Какая бы участь ни постигла отца, обожаемая мать не узнает нужды.
Переезд сместил акценты. Здесь, в Дакле, у отца не было лавки. Мало-помалу отец превращался (по крайней мере, так казалось внимательному к деталям Солону) в какого-то агента или даже сотрудника крупной фирмы. Рано поутру, сразу после завтрака, Руфус Барнс уезжал из дому в новом кабриолете (тянула кабриолет изящная, холеная гнедая кобыла – недавнее приобретение Барнсов, объект Солонова восторга) и возвращался только к ужину, редко когда раньше. Определенно у отца были дела в разных местах, и вскоре Солон в эти дела вник, ведь отец, по-прежнему озабоченный тем, чтобы дать сыну практические навыки, стал брать его с собой по субботам – в день, когда подшлифовывал незаконченное за неделю. Бывало, что и по будням, заранее зная, что хлопоты не уведут его далеко от Даклы, Руфус дожидался, пока Солон вернется из школы, и ехал с ним к своим новым клиентам: бакалейщикам, скупщикам фруктов и овощей, а то и к страховым агентам или на встречу с управляющим местным банком.
Кроме того, Руфус взялся объяснять сыну, что это за бумаги такие – закладные, и каким именно образом тетя Феба по смерти мужа получила залоговые права на землю и другое имущество фермеров, и почему необходимо добиться, чтобы эти фермеры поправили свое материальное положение. Его, Руфуса, задача – ближе сойтись с этими людьми и выяснить по возможности, чего им недостает для повышения доходов, в чем они ошиблись и которые из их начинаний перспективны, а затем деликатно помочь им исправить промахи, что не получится без элементарных познаний в ведении хозяйства и земледелии, каковые познания он, Руфус, как раз и даст.
Солону импонировала эта черта отца – желание помочь ближнему. Работа с отцом в лавке не тяготила мальчика, пожалуй, еще и потому, что стиль отношений с покупателями, избранный Руфусом, его умилял. Обыкновенно лавочник сразу отпускает товар, не вдаваясь в детали; не так было в барнсовской лавке. Если туда заглядывал бедняк, Руфус старался проникнуться его нуждами, даже мог спросить напрямую: «А на что тебе эта штука, Джон?» – и убедившись, что в данном случае сойдет товар низшего качества или в меньшем количестве, сам предлагал более дешевые грабли, мотыгу либо топор, сам убеждал взять овес в другой расфасовке и тем сберегал покупателю монету-другую, уверенный, что для того это существенная экономия. И вот эти-то аспекты торговой деятельности отца Солон мысленно дотянул до величия постулатов ни больше ни меньше квакерской веры; теперь уже любой не столь чуткий торговец казался мальчику обделенным в духовном плане, почти недостойным принадлежать к Друзьям.
Вот и здесь, в Дакле, Солон бессознательно симпатизировал всякому труженику, будь то пахарь, или жнец, или кузнец, который в одиночку починяет колесо или подковывает лошадь, или часовщик, поглощенный затейливым механизмом, или гончар в компании со своим кругом, комом глины да образом кувшина, кружки либо миски, что должны из этой глины выйти. Как это хорошо и правильно, думал Солон, отдаться ремеслу целиком, сосредоточиться на конкретной задаче, не отягощать душу расчетом на нечто большее, чем обеспечение скромных нужд своего семейства. В детские годы, еще в Сегуките, Солон обыкновенно замирал перед таким тружеником; теперь, на четырнадцатом году, стремился познакомиться с ним и порасспросить его. Постигая основы ремесел, Солон едва ли не большее удовольствие находил в таких беседах, ибо чуял: простой человек куда ближе как к Господу Богу, так и к природе.
Однако нрав Солона не был безупречен – в мальчике напрочь отсутствовала тяга завершить образование хоть в какой-нибудь форме. Правда, к четырнадцати годам он одолел школьный курс математики, но на алгебру не замахнулся. Он знал о существовании литературы: рассказов, стихов, пьес, эссе, повестей, они имелись в школьных хрестоматиях, их читали вслух или декламировали по памяти, но в томике под названием «Квакерская вера и практика» романы с повестями характеризовались как вредные; печатать их, продавать или одалживать (внушал сей исполненный благочестия труд) пагубно для души, ибо они – зло.
Имелись у Солона и некоторые познания в географии, грамматике, правописании; не был он полным невеждой в естественной истории и ботанике. Солон даже прочел главу из учебника об открытии газа, но истинное значение химии и физики так и не открылось ни ему, ни даже его отцу, даром что достижения этих наук день ото дня шире применялись в сельском хозяйстве.