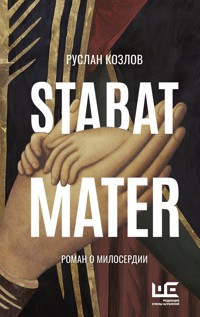Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Время
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
Странный мир этой книги с каждой страницей становится все более странным. Что это — прошлое или будущее? Фантазия или реальность? Мрачный лабиринт или счастливое зазеркалье?.. Герой книги — в общем-то, вполне обычный парень. Но на свою беду и на свое счастье он влюбляется в совершенно необычную девушку. С этой девушкой ничего не происходит «просто так» и «как у всех». Когда герои вместе, они помимо своей воли переносятся в иной мир — на фантастический остров, созданный их желаниями, страхами, мечтами. Их чувственностью. Но не так-то просто понять, что им послала судьба — чудесный дар или проклятье. Потому что к чуду настоящей любви, как и к любой великой ценности, всегда тянет свои лапы зло, чтобы схватить, завладеть, уничтожить. Хватит ли героям душевных и физических сил, чтобы противостоять злу и самим стать достойными чуда?..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
АВТОР ВЫРАЖАЕТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЕЛЕНЕ СЕРГЕЕВНЕ ХОЛМОГОРОВОЙ
Руслан Козлов
ОСТРОВ БУЯН
Роман-сказка
МОСКВА 2025
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
18+
Оформление, макет
Валерий Калныньш
Иллюстрация на обложке
Александра Николаенко
Козлов, Р.
Остров Буян : Роман-сказка / Руслан Козлов. — М. : Время, 2025. — (Самое время!).
ISBN 978-5-9691-2598-8
Странный мир этой книги с каждой страницей становится все более странным. Что это — прошлое или будущее? Фантазия или реальность? Мрачный лабиринт или счастливое зазеркалье?.. Герой книги — в общем-то, вполне обычный парень. Но на свою беду и на свое счастье он влюбляется в совершенно необычную девушку. С этой девушкой ничего не происходит «просто так» и «как у всех». Когда герои вместе, они помимо своей воли переносятся в иной мир — на фантастический остров, созданный их желаниями, страхами, мечтами. Их чувственностью. Но не так-то просто понять, что им послала судьба — чудесный дар или проклятье. Потому что к чуду настоящей любви, как и к любой великой ценности, всегда тянет свои лапы зло, чтобы схватить, завладеть, уничтожить. Хватит ли героям душевных и физических сил, чтобы противостоять злу и самим стать достойными чуда?..
© Р. Козлов, 2025
© «Время», 2025
Там лес и дол видений полны.
Александр Пушкин
Особый департамент Буяновской Жандармерии
ДЕЛО №...
Документ 1
Рапорт береговой стражи
Мой дозор обходил береговую зону. У кромки волн был замечен нагой человек, лежавший на снегу лицом вниз. На оклики человек не отзывался, но, когда мы приблизились, поднял голову, оглядел дозор и стал смеяться.
Задержание произвели бойцы Капитолина и Степанида.
Задержанный оказался лицом мужского пола. Рост высокий, глаза серые, волосы русые.
Сопротивления не оказал.
Подле задержанного на снегу была найдена тетрадь, толстая, точно книга.
По моему приказу боец Степанида отдала задержанному свой тулуп.
Во время следования к заставе задержанный лазутчик сопротивления не оказывал, попыток к бегству не совершал. Два или три раза начинал без причины смеяться.
По прибытии на заставу я отправила бойца Капитолину с донесением в штаб пограничного полка.
Вскорости лазутчик был передан наряду Главной Жандармерии.
Старшина дозора Анфиса
Документ 2
Опись имущества, изъятого у лазутчика
1) Тетрадь в синем переплете, заполненная разновеликими пронумерованными записями (прилагается).
ГОД ПЕРВЫЙ
2 СЕНТЯБРЯ
Я счастлив! Счастлив! Счастлив! Я смеюсь от счастья! Причин для счастья так много, что их не выразить словами, не охватить, не обнять, даже если раскинуть руки и кружиться по-сумасшедшему, как я кружусь здесь, на крыше, один посреди огромного, чудесного, грохочущего города.
Просто поверить не могу, что сентябрь, и раннее утро, а солнце уже припекает, я чувствую его голой спиной — можно загорать!
Никогда в жизни не писал ни дневников, ни стихов, даже писем никому не писал, а сейчас так хочется удержать, сохранить это ощущение счастья, это ликование, они ведь не могут продолжаться вечно. Хотя я просто не понимаю: как можно жить в Москве и не быть счастливым. И вот я схватил эту тетрадь, приготовленную для конспектов, притащил ее сюда, на крышу, и... завел дневник? Похоже на то. Только пусть это будет не обычный дневник, не что-то монотонное — день за днем, а Дневник Счастливых Событий — лучшее из лучшего, что происходит и еще произойдет в моей жизни. Ведь только сейчас она начинается — настоящая, солнечная. Первый год моей новой эры!
К тому же мне так надоели все эти дурацкие диктанты, сочинения, контрольные работы, что ужасно хочется изобразить что-нибудь на вольную тему, для себя — просто отражение счастливого хаоса в моей голове.
Итак, причины для счастья. Я здесь. Экзамены позади. Я — студент, будущий журналист, черт возьми! Лучшее дело, которое я мог представить для себя. Путешествия, новые люди, новые места, может быть даже другие страны. Значит, не зря бессонные ночи, зубрежка, изматывающие проверки, допросы в спецотделе, волнение до дрожи, до спазмов в желудке. Я прорвался, победил, оседлал удачу!.. Боже, даже страшно — слишком похоже на счастливый сон! Еще никогда не сбывалась ни одна моя мечта, а теперь исполняется сразу всё. Даже такие желания, о которых я и сам не подозревал. Ну разве знал я, что бывает такое солнце, такой теплый сентябрь, такие чудесные улицы, машины, деревья, облака, магазины и главное — столько потрясающих женщин! Одни красавицы! Мне уже девятнадцать, а я, оказывается, никогда прежде не видел женщин, я думал, женщины — это что-то другое. Там, откуда я приехал, всегда было холодно. Женщины ходили хмурые и укутанные с головы до пят. Даже наших сверстниц мы видели без платков лишь изредка. А увидеть очень хотелось... Помню, как-то раз мы с одноклассниками проскребли маленькую, незаметную дырочку в закрашенном окне бани, а на другой вечер, когда мылись женщины, отправились подглядывать. Но стекло запотело изнутри, и мы не могли различить ничего, кроме вяло шевелящихся белесых пятен — совсем как в фильме про амеб на уроке биологии.
Мы так сопели и толкались у окна, стараясь хоть что-нибудь разглядеть, что утратили бдительность и были пойманы за этим грязным делом. Убежать было некуда — тупик, высокие сараи. На нас гурьбой накинулись только что помывшиеся тетки, хватали, трясли за шивороты, тащили к участковому, сообщили в школу и родителям. Мать тогда единственный раз в жизни дала мне пощечину. Она кричала какую-то чушь вроде «Ты и за мной бы подглядывал?!».
Но хуже всего пришлось нам на том школьном вечере, когда в первый раз должны были быть настоящие танцы, и разрешили прийти девчонкам из женских классов, а старший надзиратель вытащил нас, троих преступников, на середину зала и рассказал, чем мы занимались возле бани, и выгнал нас с вечера, а танцы запретил, потому что наш поступок — позор для школы и все такое... Я, помню, стоял посреди зала и думал, что вот сейчас сдохну, а если не сдохну, то больше никогда не смогу даже взглянуть ни на одну девчонку, потому что все будут считать меня гнусным извращенцем, уродом.
Пацаны хотели нас тогда отметелить за то, что по нашей милости накрылись танцы, но выручил сосед — портовый охранник, здоровенный мужик, который дотащил меня до дома. А я вырывался и кричал: «Пусть меня лучше убьют!» А потом сидел на крыльце нашего барака, пока не замерз в сосульку и, слава богу, заболел — схватил воспаление легких, провалялся дома целый месяц.
Да... Вот так Дневник Счастливых Событий! Куда это меня увело? Впрочем, это тоже ответ на вопрос — почему я теперь так счастлив и могу упиваться буквально всем. Даже хорошо, что в нашем убогом заполярном поселке не было ничего — ни приветливых лиц, ни красивых вещей, ни зеленых деревьев, ни библиотек, ни солнечного света. Там вообще не было нормальных человеческих дня и ночи. Зимой — бесконечная черная мгла, летом — серая. Да какое лето! В июле могла сорваться метель. Вся погода ограничивалась снегом в разных видах — от сухого и колючего до мокрого и липкого.
Бесполезное море почти всегда было замерзшим. Даже в летние месяцы залив, возле которого жался поселок, топорщился корявыми льдинами, загнанными в него ветром. Сколько я помню, ветер дул всегда, и люди ходили по улицам, либо отчаянно бодаясь с ним, либо упираясь в него спиной — укутанные, серые бесполые фигуры. Мужчины и женщины носили одинаковые ватники, армейские тулупы и завязанные под подбородком ушанки. Они курили одинаково вонючие папиросы, работали на одинаково тяжелой работе и одинаково тупо матерились через два слова на третье. Там вообще говорили странно — какие-то слова растягивали, а какие-то, наоборот — сбивали, выкидывая из них почти все гласные. Так же поступали и с матюками. Например, «блядь» произносили распевно — «ба-а-ля», а «ёб твою мать» ужималось до «ёбть». Без мата не обходился никто. Даже мой любимый однорукий учитель труда беззлобно называл нас пиздюками. А портовое радио, слышное на весь поселок, женским голосом объявляло что-нибудь вроде: «Бригадир стропалей, ёбть, зайди в шестой пакгауз».
Жизнь там наматывалась, как замасленный трос на лебедку — грязно и монотонно. Только во время навигации она оживлялась на пару недель. Тогда над поселком летел растрепанный ветром запах гудрона. Это означало, что пришла весна, и в порту начали смолить баркасы и бочки для нерки, которая, впрочем, вся до последней рыбешки будет отправлена в большие города, и там ее съедят неизвестные счастливые люди.
В короткие недели навигации в наш залив заходили черные, облезлые суда. Они привозили тушенку, макароны, водку и папиросы. Все это жителям поселка предстояло есть, пить и курить целый год. И еще — мазут для котельной и сланец, которыми им предстояло греться. Пока шла разгрузка, по улицам бродили матросы с караванных судов. Они совсем не были похожи на веселых мореманов из дворовых песен — такие же угрюмые фуфаечники, как и большинство местных. А разнообразие, вносимое ими в жизнь поселка, сводилось к более частым пьяным дракам у магазина. Но для меня навигация означала, что в школе появятся две-три коробки с новыми книгами, и мне, может быть, доверят разбирать их и ставить на полки, и какие-то из книг даже разрешат взять домой. А на этих заблеванных матросов я смотрел с восхищением и все искал в них приметы иного, неведомого и недоступного мира, как у нас говорили — Большой Земли.
И все, что я чувствовал там, все живое и сильное, что было во мне, сводилось к одному — яростной вере, что когда-нибудь я выберусь оттуда. Уеду, убегу, уползу, уплыву на Большую Землю.
Сейчас я вспоминаю все это даже не издалека, не со стороны, а словно давний, тяжелый сон, то, чего и быть не может наяву, в нормальном, солнечном мире... Помню, когда я валялся в бреду, меня все донимали какие-то серые бабочки — облепляли, ползали по лицу, по рукам, по телу, и я все давил и давил их горячими, непослушными пальцами. На меня до сих пор порой накатывает это мерзкое ощущение, я боюсь его и ненавижу... Вот и тамошняя жизнь кажется мне такой же странной, отвратительной. И теперь я пишу о ней с каким-то глупым удовольствием, будто ковыряя засохшую болячку. А больше всего мне нравится писать про все это в прошедшем времени. То есть я знаю, что наш кривобокий поселок еще не сдуло в океан, и все там продолжается как прежде. Но для меня это все кончилось! В прошлом!.. Эх! Будь в русском языке не просто прошедшее, а какое-нибудь окончательно прошедшее, какое-нибудь безвозвратное время — с какой радостью я использовал бы именно его!
3 СЕНТЯБРЯ
Опять я на крыше. Как же здесь здорово! Несколько дней назад я случайно узнал, как вылезти сюда с черной лестницы нашего общежития. Притащил старый матрас и загораю. Один край матраса положил на ржавую бочку из-под смолы и получилось чудесное кресло... Странные люди! Придумали такую замечательную вещь, как плоские крыши, и совершенно их не используют — все эти дни я здесь один. Как-то раз даже рискнул раздеться догола. А сегодня принес бутылку с водой, и время от времени обливаюсь из нее, чтобы лучше чувствовать не только солнце, но и ветер.
Уже почти полдень. Пахнет разогретой смолой, и мой плоский остров, мой черный ковер-самолет превращается в сковородку, на которой я жарюсь с огромным удовольствием. Сверху я, должно быть, и впрямь похож на яичницу — бледный желток на бесформенном матрасе. Как жаль, что моя кожа, прежде не знавшая солнца, совсем не поддается загару!
Мне видны уходящие вдаль крыши, антенны, купола, кресты и подальше — шпили высотных домов. Все это переливается и дрожит в потоках воздуха, который струится вверх от крыши, словно смотришь через тонкий, теплый лед. Раньше я ничего подобного не видел. А надо мной, в обрамлении дрожащего воздуха и крыш — чистое, без единого облачка, горячее небо. Я купаюсь в нем, я лечу над моим чудесным городом. И я, наверное, взмыл бы до самой стратосферы, если бы меня не удерживал славный, уютный шум: я слышу, как за моей спиной на карнизе возятся, стучат коготками по жести и стонут от счастья хозяева этих крыш и этого простора — голуби...
Итак, со мной бутылка, мой дневник, и еще кое-что. А именно: половинка от морского бинокля — старая и облезлая, с торчащими креплениями для другого окуляра. Я купил ее вчера на барахолке, выложив треть своих денежных запасов. Хоть с виду она и неказистая, зато свою задачу — увеличивать — выполняет прекрасно. И, чуть приподнявшись со своего патрицианского ложа, я могу видеть верхние этажи соседнего — женского — общежития так, как будто оно в нескольких шагах!
Все окна в нем открыты. И почти во всех происходит не предназначенная для чужих глаз волнующая жизнь. Вот в одну из комнат входит толстушка с кастрюлей, ногой закрывает за собой дверь, смешно подпрыгивает, похоже, тапку потеряла... Этажом выше за столом возле окна сидят две девчонки. Мне их почти не видно из-за полузадернутых занавесок, только иногда мелькнет рука или попадет под солнечный луч кудрявая челка. Постой-ка, что они там едят? Пирожные! Вот сластены! Может быть, первокурсницы, как и я, раньше никогда не ели пирожных и теперь блаженствуют... А вот и их соседка в другом окне. О, у нее дела поинтереснее! Моет волосы, склонившись над тазом. Выпрямилась. Обмотала голову полотенцем. Что это на ней? Короткая, вроде лифчика, маечка. И чего бы ей было эту маечку не снять, ведь намочит! Ушла вглубь комнаты, скрылась из виду... Окно на верхнем этаже. Никого. Только на подоконнике сверкает стеклянная банка, и в ней — господи! — розы! Их я тоже увидел здесь, в этом городе, впервые.
В один из первых своих дней в Москве, еще пьяный от духоты и толчеи, еще боящийся людских и автомобильных рек, я оказался в оранжерее ботанического сада. Помню, ехал мимо него в трамвае, закрыв глаза и задыхаясь, словно сам тащил переполненный вагон. А все потому, что меня окружало невообразимое количество полураздетых женщин. Куда ни повернешься, всюду шеи, плечи, локти — белые, розовые, коричнево-загорелые. И даже — что уж совершенно невыносимо — пушистые и бритые подмышки! Какой-то нескончаемый бесстыжий карнавал!.. Лица я стал замечать только через пару недель. А поначалу ходил по улицам знойной Москвы, словно одержимый. Мой взгляд приковывали какие-нибудь мелькающие впереди стройные икры, я плелся за ними, как привязанный, и приходил в себя, уже оказавшись бог знает где. А в троллейбусах и трамваях мое сердце начинало болезненно биться и дыхание перехватывало от близости женской наготы.
Однажды, влезая в трамвай, я нечаянно прижался щекой к груди какой-то девушки, которая пробивалась к выходу. Она-то, конечно, не обратила на это внимания, хотя в первую секунду я испугался, что она завизжит: «Нахал!» Но она задорно всех растолкала и выскочила из вагона. А я запомнил своей щекой все: тонкий шелк платья, мягкую упругость под ним, влажную, прохладную кожу над краем выреза и даже что-то маленькое и колючее, должно быть, крестик. Я вывалился из трамвая вслед за той девушкой. О, конечно, не для того, чтобы догнать ее и попытаться завязать разговор! Со мной случилось что-то непонятное: во рту мгновенно пересохло, ноги ослабли, свет вокруг стал ослепительным. Я присел на скамейку под навесом трамвайной остановки и согнулся пополам. Внизу живота и в паху все неудержимо и сухо пульсировало. Я сидел и думал, что это, наверное, странные симптомы для солнечного удара. А девушка в это время уже ругалась с шофером, которому пришлось судорожно тормозить, когда она перебегала дорогу. Вскоре девушка помчалась дальше, шофер тоже укатил, и наш треугольник острых ощущений распался. Лишь через несколько минут, когда какая-то старушка начала интересоваться моим самочувствием, я покинул свое убежище и вновь окунулся в уличный жар, который и сам по себе возбуждал меня до головокружения...
Да, ну так вот. Розы... В тот день я тоже ехал в трамвае, вцепившись обеими руками в кожаную петлю, закрыв глаза и стараясь ни к кому не прикасаться. Но и сократив свой контакт с миром до минимума, я ничего не мог поделать с пряным запахом женских тел, изласканных зноем. Помню, я открыл глаза, и взгляд мой, вероятно, был взглядом мученика, висящего на дыбе. Мы как раз проезжали сад с ажурной решеткой, и в глубине его я увидел цветущие клумбы под сводами оранжереи. Я выскользнул из трамвая и устремился туда в надежде на избавление.
Нижние стекла оранжереи были выставлены, и зной вливался внутрь, сгущая влажную духоту. Под стеклянным куполом щебетали птицы.
Уже в дверях меня остановила мягкая стена аромата. Здесь нужно было двигаться как-то по-другому, и я вплыл в оранжерею, не веря, что простой землянин может существовать в этой густой, благоухающей среде. Вверх уходили бежевые стволы остролистых пальм, а под ними тихо, как пена на горячем варенье, кипели тысячи роз. Поначалу я не мог различить отдельных цветов — все слилось в туманную массу, плавно меняющую оттенки от волны к волне. Сознание мое тоже расплылось в жаркой истоме. Я запомнил пришедшую из каких-то глубин странную, неуместную мысль: «Зачем люди кончают с собой на грязных чердаках и в мрачных подвалах, если можно прийти сюда, глотнуть какого-нибудь сладкого яда, упасть, как во сне, и медленно захлебнуться ароматом?»
Мое зрение постепенно сфокусировалось, я стал различать листья, стебли и головки, и понял, что едва ли найду здесь покой — розы оказались безжалостнее всех моих трамвайных мучительниц. В них было все: дразнящие шипы, и выше — изумрудные остатки лопнувших бутонов, и еще выше, презирая границу меж невинностью и вожделением — лепестки, которые так бесстыдно и так легкомысленно распускались, подставляя себя миру, слишком грубому для их нежной, бесконечной наготы. И я, пришелец из этого варварского мира насильников, опустился на колени перед одной из клумб — той, где росли самые удивительные розы цвета тронутой загаром кожи, взял в ладони одну из них и прикоснулся к ней щекой, потом губами, а потом, дурея от аромата, протолкнул язык внутрь цветка и достал до маленького донца, усеянного созревшей пыльцой... Земля качнулась подо мной, словно кто-то поднял и понес оранжерею, как огромную клетку, и вдруг зазвенела тишина, сменившая назойливый щебет птиц, и я жалел лишь об одном — что не оказалось внутри моей избранницы глотка сладкого яда, который оставил бы меня в этом раю навсегда.
...К действительности меня вернул страшный треск над головой. Прямо на сад диким эскадроном отвесно летела гроза. Розы и прочие растения заметались под шальными сквознячными порывами. Молния вспыхнула и горела целую секунду, обуглив добрый кусок небосвода, и тут же вместе с новым грохотом упал такой ливень, от которого, казалось, обрушатся железные кружева оранжереи.
Не помню, как я оказался на улице, под резвящейся вовсю грозой, внутри плотной стены дождя. И сразу, вновь слившись с этим миром, стал плакать и хохотать — гроза подсказала мне это облегчение. И я все бежал и шел за ней по широченному проспекту, пока не увидел над собой невероятно четкую границу меж черным и голубым.
Гроза шагнула за крыши, подобрав подол слабеющего дождя. И я уже не спеша шествовал по улице. А навстречу мне шли и шли девчонки, девушки, женщины с мокрыми волосами, мокрыми лицами, в мокрых платьях, которые прозрачными лепестками облепляли их от плеч до колен. Мы смотрели друг на друга и улыбались. И я, как заезжий генерал, принимал этот босоногий, солнечный, смеющийся парад.
Как странно я чувствую себя, когда пишу в этом дневнике! Удивительное ощущение свободы и несвободы. Никогда еще не был я так откровенен — ни с самим собой, ни тем более с другими. Оказывается, я жил, до краев переполненный всякой всячиной, и вот, выплеснув все на бумагу, испытываю незнакомое облегчение. Я не боюсь своей откровенности — уж, наверное, я смогу сделать так, чтоб этот дневник никогда не попал в чужие руки. Но какая-то сладкая тревога сжимает мне душу. Такое чувство, что я пишу все это не совсем самостоятельно. Словно время от времени ложится на мою руку чья-то властная рука и водит ею по бумаге, а чей-то голос звучит у меня внутри, диктуя фразу за фразой. Откуда во мне этот голос? Может, он — часть чудесного нового мира, в котором я оказался? А может, этот мир разбудил во мне то, что зовут вдохновением?..
4 СЕНТЯБРЯ
Сегодня последний день вольницы — такой же теплый и солнечный, но уже с легкой осенней усталостью, которая летает в воздухе прохладными паутинками. Завтра, с некоторым опозданием, начнутся занятия. Говорят, задержка была вызвана какой-то особой проверкой, устроенной для преподавателей.
Я принес на крышу немного хлеба и раскрошил его поодаль от своего ложа. Несколько слетевшихся голубей — кажется, влюбленных парочек — немного поклевали, а теперь самозабвенно воркуют и похаживают кругами возле коврика из крошек. Прямо ресторан с танцами!
Розы исчезли с подоконника женского общежития. Но сегодня я мало заглядываю в окна. Зато не спускаю глаз с крыши. Это общежитие — точная копия нашего, и крыша у него такая же плоская. И вот вчера, когда солнце уже клонилось к закату, я оторвался от своего дневника и вдруг увидел там, на соседней крыше, девушку.
Она стояла ко мне спиной, закинув руки за голову, переливалась в дрожащем мареве и, казалось, каждую секунду могла исчезнуть, как мираж. Взгляд мой, усиленный биноклем, рванулся к ней, и я разглядел, что на девушке нет ничего, кроме оранжевых трусиков. Локти ее острыми уголками торчали в стороны, и вся фигурка представляла собой стройный треугольник на фоне пламенеющего неба — наконечник стрелы, вонзившийся в крышу. А в него был вписан еще один треугольник изумительно узких трусиков — я и не представлял, что такие бывают! Девушка была на зависть загорелой, должно быть, она облюбовала место на крыше гораздо раньше меня.
— Повернись, повернись, повернись! — шептал я ей.
Но тут же сообразил, что если она повернется, то увидит меня, смутится и уйдет. Как солдат под обстрелом, я быстро перебрался за бочку и тут же снова впился в окуляр. Девушка стояла, не меняя позы, подставляя себя вечернему солнцу, и только время от времени отбрасывала назад волосы, погружая в них пальцы. И каждый раз ее волосы вспыхивали медным сиянием. И как это она раньше не заметила меня, погруженного в свою писанину? А если заметила? От этой мысли голова пошла кругом. Значит, она сейчас красуется на крыше для меня! Ну тогда повернись, ну что тебе стоит! Но девушка вытянула вверх руки, превратившись из треугольника в тонкое веретенце, дотянулась до низкого уже солнечного диска и вдруг, отломив от него кусочек, бросила его прямо в мой окуляр. Я и не думал, что солнце и бинокль — такое убийственное сочетание! Глазу мгновенно сделалось горячо и больно. Я стал тереть его кулаком, а когда снова поднял глаза, девушка уже наклонялась за одеждой.
А потом еще несколько часов перед моим бедным пострадавшим глазом плавало медно-оранжевое пятно, и, что самое удивительное, я мог разглядеть в нем более темный, но тоже нестерпимо пылавший стройный силуэт. И ночью, когда я засыпал, он еще горел под веками и даже перебрался в мой сон, в котором темная солнечная девушка протягивала ко мне руки, а я все боялся шагнуть к ней по воздуху, но потом мы все-таки встретились и, прижимаясь друг к другу, парили между крышами, и я думал: как здорово — она сейчас передает мне свой загар. А в ее рыжих волосах почему-то запутались хлебные крошки. Вот странно: крошки-то — сегодняшние!
Правый глаз до сих пор слезится, а бинокль ему теперь вообще противопоказан. Смотрю левым. Этого только не хватало перед началом семестра!.. Короче, не везет мне с подглядыванием — то возле бани поймают, то солнцем брызнут прямо в глаз!..
Хотя как странно все получилось — именно та злосчастная дырочка, которую мы с пацанами проскребли монеткой в закрашенном стекле, дырочка, через которую я ничего толком не разглядел, стала для меня лазейкой на Большую Землю и, как я теперь понимаю, в итоге изменила мою судьбу.
Вскоре после того позора и болезни меня вызвали на допрос к старшему надзирателю. Он долго допытывался — чья была идея подглядывать, и все рычал — как это мне в мои двенадцать пришла в голову такая гнусность, и что же со мной, таким, дальше будет. И все время сидел, опустив глаза, будто ему на меня и взглянуть было противно. Говорил он тихо, глухо, но мне казалось, что он едва сдерживается и вот-вот выскочит из-за стола, набросится, начнет меня бить. Но он лишь брезгливо махнул рукой, чтобы я убирался... А потом меня направили на медицинское обследование в областной центр.
Шла навигация, и мы с матерью отправились туда морем. В большом кубрике грузового парохода был выделен угол для пассажиров — несколько коек, расположенных вдоль стены в два яруса (на верхнюю приходилось втискиваться между низким потолком и поручнями, не дававшими свалиться при качке). Внутри наш пароход был таким же закопченным и обшарпанным, как и снаружи. У него даже имени не было, только на борту из-под пятен ржавчины проглядывал номер — 039. Но мне он казался фрегатом, уносившим меня к сказочным берегам. А облупившийся номер я расшифровал как «путешествие за тридевять морей». Первый раз в жизни я покидал наш тоскливый поселок!
Я взял с собой «Морского волка» Джека Лондона. Там в конце книги был словарик морских терминов, и про себя я правильно называл стены нашего кубрика переборками, ограждение на палубе — фальшбортом, а лестницы — трапами. Еще я захватил карандаш и ученическую тетрадку, чтоб вести собственный журнал путешествия (единственный случай, когда я собирался начать дневник), да так к этой тетрадке и не притронулся. Взволнованный, я стоял на палубе, коченея от ветра, и все попытки матери загнать меня в кубрик были безуспешны. Мы плыли по проложенному ледоколами коридору среди ледяных полей и скалистых островов, покрытых лоскутами серого снега. И пароход наш был похож на такой же угрюмый остров, черный айсберг, плавучий вулкан. Дым валил из его трубы и смешивался с низкими тучами. Нам предстояло плыть целый день и еще ночь, и холод, в конце концов, заставил меня уйти вниз.
В полночь меня разбудили громкие голоса матросов, сменившихся с вахты. Они стаскивали с себя хрустящие ледяной коркой штормовки, жадно прикладывались к кружкам и нюхали хлеб. Один из них, пошатываясь, прошел в наш полутемный угол и стал вглядываться в спящих пассажиров, словно искал кого-то. Я следил за ним сквозь полусомкнутые веки. Он приблизился к нашим с матерью койкам (шконкам), посмотрел сначала вниз, на мать, потом — на меня, подышал мне в лицо перегаром и ушел. Может быть, он и не хотел ничего плохого, но в тот момент я чувствовал себя пленником на пиратском бриге.
Матросы вскоре улеглись, и только гул двигателя пронизывал судно. И было слышно, как бухают и скрежещут о борт льдины. В рокоте винтов мне слышался далекий многоголосый хор, который пел торжественно и радостно, повторяя одно лишь слово: «Сво-бо-да, сво-бо-да!»
Мать и другие пассажиры спали. Я оделся и выбрался из душного брюха парохода на скользкую, обледенелую палубу. Вокруг ничего не изменилось, только небо спустилось еще ниже, к самой мачте. Но впереди, за пеленой измороси мигал зеленоватым светом маяк, и этот свет отблесками ложился на темную воду между льдинами. Он тогда показался мне добрым знаком, первой приметой иного, полного жизни мира. Наш пароход держал курс на маяк и вскоре уже входил в устье широкой реки. Скалистые берега виднелись теперь справа и слева. По этой реке нам предстояло подняться вверх, до близкого уже города.
Когда через несколько часов мы подходили к причалу, я снова торчал на палубе — теперь уже вместе с другими пассажирами — и смотрел во все глаза. Внизу, у реки город был похож на наш поселок — те же пакгаузы и черные бараки. Но за ними, на сопках, стояли дома в четыре и пять этажей и даже два или три здания с колоннами и башенками, а по крутой улице карабкался синий автобус. И еще была красивая церковь с пятью маковками, с колокольней — не то что наша бревенчатая, полусгнившая.
Пароход встал под загрузку, а мы с матерью еще целый час торчали у проходной порта, пока шла проверка наших документов. Потом мы добрались до асфальтированной улицы, и я все вертел головой и поминутно отставал, засматриваясь то на одно, то на другое. Помню, меня поразила карусель в каком-то сквере, да еще — маленькие балконы жилого дома, заставленные досками, лыжами и ящиками. Больше всего мне понравилось, что на одном из балконов был почему-то прицеплен спасательный круг, а на нем написано веселое слово «полундра». Я ни секунды не сомневался, что люди в этих домах живут совсем не так, как мы, несчастные, а балкон с «полундрой» уж наверное принадлежит какому-нибудь капитану дальнего плавания.
Меня удивляли вывески магазинов, и бетонные столбы фонарей, и щиты с объявлениями. А от газетного киоска мать смогла меня оттащить, только когда я упросил ее купить пару цветных журналов про путешествия и открытия.
Из трехэтажного здания больницы нас, к моему разочарованию, направили куда-то на задворки, где среди полуразобранных машин скорой помощи ютился невзрачный флигель. Однако внутри флигеля все оказалось белым, даже скамейки вдоль стен коридора, а сверху лился белый свет необыкновенных ламп.
Я заходил в разные кабинеты, где меня выстукивали, выслушивали, мерили давление надувной штуковиной, заставляли дышать и не дышать, приседать и ложиться, и мне приходилось то и дело снимать и надевать свои сто одежек.
Наконец я очутился в самом дальнем кабинете, на дверях которого не было номера, а только какая-то закорючка вроде рыболовного крючка или латинской буквы «J». Кабинет оказался просторным и жарко натопленным. В нем обитала розовощекая врачиха с гладко зачесанными и собранными в пучок волосами. Когда я вошел, она поливала из детской леечки какие-то растения на подоконнике. Мне показалось, что здесь уютнее, чем в других кабинетах: и уголь пыхтит в печке, и икона в углу по-домашнему покрыта вышитым полотенцем, и сама врачиха — в мягких тапках, в накинутой поверх халата светлой шали.
Сев за стол, она начала листать мое медицинское дело, которое следом за мной внесла молоденькая сестра. А я переминался с ноги на ногу и продолжал оглядывать кабинет. Мое внимание привлекла приоткрытая дверь, которая вела в смежную темную комнату. Там светились два желтых огонька, словно кто-то внимательно смотрел из темноты.
Врачиха перестала листать и уставилась на меня, как бы сравнивая то, что видит перед собой, с тем, что вычитала в медицинском деле. У нее было простое, круглое лицо с ямочкой на подбородке — лицо какой-нибудь поварихи или почтальонши.
Она велела мне раздеваться и вешать одежду на гвозди, вбитые в стену.
— И трусы тоже, — сказала она, когда я добрался до этой части моего облачения.
Я вылез из своих балахонистых трусов и остался стоять перед ней только в шерстяных носках, чувствуя себя беспомощным и уродливым. Врачиха встала и подошла ко мне. Велела показать зубы, язык, вытянуть вперед руки и закрыть глаза, потом — смотреть на кончик ее пальца, которым она дирижировала у меня перед носом. Потом она быстро провела по моему животу чем-то острым, отчего мышцы сами собой задергались, взяла белую табуретку, присела на нее передо мной, приказала поднять голову и смотреть прямо, а сама ощупала низ живота, пах и проделала там обычные манипуляции, какие бывают при медосмотрах. При этом я на пару секунд почувствовал себя еще более голым и беззащитным. Потом она вернулась за стол и принялась заполнять в медицинском деле очередную страницу. Я поплелся было к своей одежде, но врачиха сказала, не поднимая головы:
— Нет-нет, ты не одевайся.
И я снова стоял посередине кабинета и прислушивался к голосам и шагам в коридоре, где с моими шапкой и телогрейкой ждала меня мать.
Наконец врачиха отложила ручку, сказала «Пойдем!» и направилась в ту темную комнату с огоньками. Она включила свет, и комната оказалась маленьким помещением без окон, где был стол, а перед ним — стул. И еще — покрытая простыней кушетка. А за ней, в углу громоздились какие-то приборы — белые железные ящики с кнопками и шкалами. На них-то и светились желтые огоньки.
Врачиха велела, чтобы я сел за стол и положила передо мной несколько листков, которые я сначала принял за какие-то анкеты.
— Вот, — сказала она, — здесь все написано, как будто про тебя. Если согласен с каким-то утверждением, подчеркни рядом с ним «да», а если не согласен — «нет». Только имей в виду: вопросов много, а времени у тебя — только час. Старайся не задумываться, а то не успеешь.
Она сунула мне в руку карандаш и ушла в кабинет. А я принялся читать и подчеркивать. Поначалу мне показалось, что это очень легко, потому что там были самые простые вещи: «Я учусь в школе», «Я люблю свою Родину» или «Я часто летаю во сне». С удовольствием я обнаружил там строчку «Мне нравится читать книги». Но некоторые, на первый взгляд самые обычные пункты заставили меня притормозить. Например «Я — мужчина». Что имеется в виду — мой пол? Но ведь на самом деле я еще не мужчина. Подумав, я все же подчеркнул «нет». Потом мне попался пункт «Я — женщина». На него я тоже ответил «нет». Получалось, что я вообще — никто. Дальше было «Я люблю своих родителей». Но отца я совсем не помню, хотя мать, в общем-то, люблю. Значит — «да». Еще через несколько пунктов «Мать я люблю больше, чем отца». Здесь как быть? Подчеркнул «да».
Вопросы были пронумерованы, и, взглянув на последний листок, я увидел, что всего их 260. Я не знал, сколько времени прошло и успеваю ли я ответить на все. Сидеть было неудобно, я ерзал, чувствуя под собой грубую шерстяную обивку стула. Громко задребезжал звонок на стене, заставив меня вздрогнуть. Вошла врачиха, сказала:
— Не обращай внимания, это просто так. Ну что, дела идут? Ну-ну, поторапливайся.
И я снова уткнулся в листки. Вопросы в них иногда как будто повторялись — одно и то же было сказано разными словами, словно кто-то старался меня запутать.
«Я часто ссорюсь с родителями».
Наверное, «нет».
«Я читаю только Священное Писание».
Если б я не читал ничего другого, давно бы умер от тоски. «Нет».
«Я хочу жить в какой-нибудь другой стране».
Тут, помню, моя рука дернулась к «да». Мне бы хотелось пожить во всех странах понемногу, особенно на коралловых карибских островах. Но я вовремя сообразил, что лучше все-таки ответить «нет».
«Мне нравятся девочки».
Не знаю... Должно быть, нравятся. Иногда в церкви или на общем собрании в школе какая-нибудь девчонка вдруг поднимет глаза и так посмотрит, словно чего-то ждет от тебя, а ты, дурак, не понимаешь чего. Но взгляд этот всегда бывает слишком коротким, чтобы его разгадать. И тогда ты все готов отдать, только бы она не отвела глаз. Однако про это лучше помалкивать. «Нет».
«Мне нравятся мальчики».
Трудно сказать. Я почти ни с кем не дружу, потому что не люблю драться. А если ты с кем-то дружишь, значит, ты — за какую-нибудь «кодлу», ты — либо «бугровский», либо «портовый», и драться приходится то и дело. К тому же в вопросе чувствуется какой-то подвох. «Нет». Пусть уж лучше думают, что мне никто не нравится.
Опять трезвонит звонок — совсем как в школе. А я еще ничего не успел! Но снова входит врачиха и говорит, чтоб я не отвлекался. Интересно, почему она не разрешила мне одеться? Хочет, чтоб я смутился и скорее запутался? И вопросы пошли странные.
«Иногда мне кажется, что мной управляет какая-то злая сила».
Конечно, когда сильно разозлишься, хочется разнести что-нибудь вдребезги. Однажды я так расколотил наши ходики. Они были сделаны в виде кошки, которая ворочала железными глазами туда-сюда. Кошка выглядела грустной и глупой. Когда я был маленький, мать часто говорила мне: «Ну-ка посмотри — сколько там кот наплакал?» И я эту кошку жалел. А когда расколотил, разозлившись, что время тянется так медленно и мать долго не идет с работы, то сам удивился: как же я мог ее убить! Я ненавидел себя за эту дурную злость, и все пальцы себе изрезал стальной пружиной, пытаясь впихнуть ее на место, да так и не смог. А матери сказал, что ходики сами сорвались с гвоздя... И сейчас, наверное, лучше соврать. «Нет».
«Я никому не нужен».
Я и сам часто так думаю. Но если ты никому не нужен, значит, ты — плохой. А плохим быть плохо. Значит — «нет».
«Я люблю быть один».
Ну, люблю. Что же здесь особенного?..
Потом начали попадаться совсем уж непонятные вещи.
«Число “два” нравится мне больше, чем “один”».
Да как можно сравнивать обычные числа!
«В теле человека девять отверстий».
Никогда не приходило в голову сосчитать. Значит, так. Раз, два... А нос как считать — за два или за одно?..
«В теле человека могут быть неизвестные науке органы».
Боже! Это что еще?
«После смерти я боюсь попасть в ад».
Вот вопросик! Что получается — если боюсь, значит много грешу. А если не боюсь, значит готов стать грешником. Ведь на уроках морали нам сто раз твердили, что бояться Божьего суда и ада надо каждому, это удерживает от дурных поступков... Ох, так все-таки — «да» или «нет»?
Вошла врачиха и отобрала листки. Там оставалось еще несколько вопросов. Значит, я не справился? Но она ничего не сказала. Села с другой стороны стола и как будто задумалась на минуту, постукивая по столу сложенными листками. Она даже не заглянула в них.
— Я забыла сказать тебе одну важную вещь. Никому не рассказывай про эти вопросы и вообще про это обследование. Если расскажешь, мы обязательно об этом узнаем, и ты очень себе навредишь.
Она странно произнесла слово «мы» — на этом коротком слове ее голос изменился, стал резким и холодным. Я даже вздрогнул. Это «мы» торчало из ее фразы, как острый камень из журчащей воды.
— Ну хорошо, — сказала она уже прежним тоном. — А почему ты все время губы облизываешь? Хочешь пить?
— Нет. Просто так.
— Ну ладно, облизывай, если нравится... Продолжим? Иди-ка ложись туда, на кушетку.
Я встал и тут же чуть не плюхнулся обратно на стул — я как-то совсем забыл, что голый. Подойдя к кушетке, я оглянулся на врачиху и спросил:
— На живот?
— На спину, — сказала она. — Ложись-ложись.
И я лег — неловко, неуклюже. Тело как будто стало хуже слушаться. Под простыней, покрывавшей кушетку, чувствовалась холодная, скользкая клеенка. Врачиха подошла к приборам, вытянула из них несколько проводов. Мягкий край ее шали коснулся моего лица. Один провод кончался присоской, которую она прицепила к моей груди. Еще два провода выходили из резинового манжета, который врачиха надела мне на руку, туго стянув запястье. Потом она щелкнула чем-то на приборах над моей головой, и приборы тихо зашумели. Запрокинув голову, я увидел, что в одном из них ползет бумажная лента, и по ней бегают, оставляя извилистый след, тонкие железные крючки. Врачиха подставила к кушетке стул и села. Ее коленка, обтянутая черным чулком, прижала мои пальцы к краю кушетки, и я боялся высвободить их. С минуту она смотрела на приборы. А я лежал и думал: какого черта она со мной столько возится? Вопросы дурацкие, звонок на стене. А теперь уложила зачем-то.
Нагнувшись, она что-то покрутила внизу, поднимая изголовье кушетки. Теперь я полусидел и в таком положении чувствовал себя как будто увереннее. В руках у врачихи оказался большой альбом для фотографий. В таком же альбоме с железной застежкой хранились наши с матерью фотографии и праздничные открытки. Я их часто разглядывал и переставлял то так, то этак, но все равно больше половины страниц оставались пустыми.
— Сейчас я тебе буду показывать фотографии, а ты на них просто смотри. — Врачиха поставила альбом на свою черную коленку и открыла.
Внутри этот альбом оказался не таким, как наш. Он был сделан для больших фотографий, и каждая страница представляла собой картонную рамку. Я увидел красивый осенний пейзаж. Над желто-багряным лесом плыли круглые облака, и меж березовых стволов уходила вглубь леса тропинка, едва заметная под опавшей листвой.
Врачиха перевернула страницу. Снова лес, но другой: мощные сосновые стволы уходят вверх. Крон не видно. Только тень от хвои пятнами лежит на стволах.
— Что это? — спросила врачиха, выглянув из-за альбома.
— Лес. Сосны.
— Так лес или сосны? Выбери что-нибудь одно.
— Лес, — сказал я.
— А где бы тебе больше хотелось жить — в лесу или у моря?
— У моря.
Она перевернула сразу несколько страниц, и я увидел скалистый берег моря и белый домик над обрывом. Море бушевало, над ним клубились тучи, а на горизонте поднимался черный смерч.
— Это место тебе подойдет? — спросила врачиха.
— Не знаю... Подойдет, наверное. — Я никак не мог понять к чему она клонит.
— А буря тебя разве не пугает?
— Ну... Здесь же не всегда так.
Море, подчиняясь ее пальцам, исчезло. Я вздрогнул и уставился на следующую страницу, не веря своим глазам. Там была женщина. Совсем голая, без одежды. Подняв руки, она потягивалась в нежном розовом свете или, может быть, танцевала, изогнувшись всем телом, полузакрыв глаза. У нее были полные, темные губы и такие же темные соски — не круглые, а вытянутые, как будто повторяющие ее движение. Раздетую женщину я видел впервые в жизни. И сразу подумал, что женские и мужские тела отличаются гораздо сильнее, чем лица. Но тогда я не мог понять — чем именно, и потом все думал над этим, и только недавно смог уложить это различие в слова: в мужской наготе — агрессия и алчность, а в женской — щедрость и доброта.
Я смотрел на фотографию и восхищенно думал: «Неужели все женщины на самом деле — такие? И эта врачиха под халатом — тоже?» Но, взглянув на нее, увидел, что врачиха пристально наблюдает за мной, поджав губы. И сразу улетучилось ощущение безмятежного золотого счастья, от которого сжималось горло.
— Посмотрел? — спросила она. — Переворачивать?
Я нехотя кивнул. Но то, что было в этом альбоме дальше... Снова розовая комната, и в ней — переплетенные обнаженными телами женщина и мужчина. Женщина была та же самая, с теми же полными, почти негритянскими губами, светящаяся необыкновенной, южной, тропической красотой. Она прижималась к мужчине спиной, подставляя себя его рукам, и, закрыв глаза, поворачивала лицо, чтобы он мог достать до ее губ своими, и на ее шее проступало тонкое, натянутое сухожилие. Она обнимала мужчину отведенными назад руками, будто была прикована к нему. А его руки с широкими ладонями тянулись к темному треугольнику внизу ее живота. И еще ниже угадывалось самое главное — то, от чего невозможно было оторвать взгляд — место, где соединялись, сливались их тела. Но там уже была серая картонная рамка, и я видел, что фотография просто сползла и если поправить ее, то можно увидеть все.
— Поправь фотографию, если хочешь. — Голос врачихи донесся откуда-то издалека. И я уже потянулся к альбому, но что-то остановило мою руку. Я растерянно посмотрел на врачиху и мотнул головой.
— Ну не хочешь, как хочешь. — Она слегка отодвинула альбом. — Скажи мне — что ты здесь видишь?
— Здесь?
Больше всего меня поразила та свобода, с которой вела себя женщина на снимке. Это была свобода, которую я не мог представить. Это была свобода танца, свобода сна. Возможно, эта женщина — такая же, как живущие в нашем поселке, и ходит обычно в каком-нибудь унылом платке, в ватнике, и даже глаз ни на кого не поднимает. Но что-то оказалось сильнее ее, и теперь она другая. И все движения этого танца ее тело вспомнило само собой...
— Ну так что же здесь, на фотографии?
— Здесь... Женщина и мужчина.
— И что они делают?
Я молчал.
— Ну, смелее!
— Не знаю...
— Не знаешь, что они делают?
— Не знаю, как это назвать.
— А ты назови как-нибудь. Любым словом.
— Они...
— Ну... — Врачиха подалась вперед, будто хотела помочь мне, ее выщипанные брови поползли вверх, а губы вытянулись трубочкой, словно она сама готова была сказать это вместе со мной.
— Они любят друг друга, — выдавил я.
— Ну! — Она нахмурилась огорченно, будто я ляпнул не то. — Что значит «любят»? Ведь ты тоже любишь свою мать?
— Да...
— Значит, это одно и то же?
— Нет...
— Ну ладно, — вздохнула она. — А что ты об этом скажешь?
На следующей странице была не фотография, а горящая яркими красками картина: стройная, совсем юная девушка с белой, матовой кожей и маленькой, острой грудью сидела на коленях у темного, тощего старика, обнимала его ногами, гладила тонкими пальцами его лысый череп, нежно глядела в его запавшие, как у скелета, глаза. Они сидели на самом краю скалы, и за спиной у старика раздувалась над пропастью красная мантия.
— Ну-ка отвечай! — Врачиха как будто начала терять терпение.
— Это, наверное, какая-то сказка, — промямлил я.
— Сказка? А на самом деле такого не может быть, а?
— Нет, — сказал я. — Нет!
— Ладно. Все.
Она с силой захлопнула альбом, сняла — нет, сорвала с меня присоску и манжет, выключила приборы.
— Вставай, пошли!..
Так закончилась моя первая в жизни проверка.
Теперь-то я отлично знаю, что это такое — перед приемом в университет пришлось пройти не меньше десятка разных тестов, проверок и собеседований. И здешние психологи были куда изощреннее той пухлой врачихи с ее грубыми приемами. Но здесь я быстро понял, что от меня требуется. Я научился быть деревянным, бесчувственным, сохраняя при этом напряженное внимание и холодный рассудок. Да и ребята со старших курсов подсказали, как себя вести.
А в той первой проверке я провалил все что только мог, и на мне уже тогда должны были поставить жирный крест. И я до сих пор не могу понять: почему же ее результаты не попали в мое личное дело, которое будет таскаться за мной всю жизнь, и сейчас лежит в каком-нибудь спецотдельском сейфе университета?!
Помню, встав с кушетки, я почувствовал, как кружится голова и пот стекает из подмышек холодными каплями. Согнувшись, на ватных ногах я вернулся следом за врачихой в кабинет, и она снова поставила меня перед столом и принялась опять чего-то писать и вклеивать в дело куски бумажной ленты, исчерченной зигзагами, а я от слабости присел на корточки. Но она велела мне подойти и опять осматривала меня, как в самом начале, только на этот раз возилась бесконечно долго, наверное, потому, что под пальцами у нее было очень скользко. А я боялся даже взглянуть туда, вниз и таращился поверх ее головы в окно, на ржавую машину скорой помощи, которая дрожала и расплывалась, и чувствовал, что вот-вот разревусь или заору, и тогда меня, несчастного психа, без разговоров отправят отсюда прямиком в специнтернат.
Наконец она отпустила меня и пошла к рукомойнику, а я, кое-как напялив одежду, кинулся к двери и услышал за спиной последнее приказание:
— Позови сюда свою мать.
Втолкнув мать в кабинет, я выбежал на улицу и увидел в глубине двора то, что мне сейчас было нужно больше всего: деревянный сортир — слава богу! — с отдельными кабинками. И едва я закрылся в одной из них на крючок, из меня хлынула горячая, вязкая боль. Поскорее расстегнув штаны и опершись одной рукой о стену, другой я выдаивал себя, как делал это иногда в нашем угольном сарае, только сейчас этому, казалось, не будет конца, а перед глазами у меня плыла фотография из того альбома: золотой лес, синее небо и круглые ватные облака.
Мать ждала меня и курила на крыльце флигеля.
— Чего ты раздетый? — сказала она как-то жалобно, отдавая мне шапку и телогрейку.
Мать выглядела растерянной. Она топталась на крыльце, словно не знала, что делать дальше. А мне все стало безразлично. Я был пустой и даже как будто выскобленный изнутри, и мне казалось, что сейчас меня свалит на землю порывом ветра. И когда мать быстро пошла, почти побежала прочь от больницы, я потащился за ней, едва поспевая. Мы шли по улицам, и город, где еще утром все мне было интересно, потускнел, стал пустым и чужим. Я смотрел под ноги, и в голове назойливо вертелся один из пунктов той бесконечной анкеты: «Когда я иду по тротуару, стараюсь не наступать на трещины».
Мы оказались в чахлом сквере, где росли корявые, обглоданные ветром сосенки. Над сквером нависало серое здание. К черным рельефным дверям вела гранитная лестница. Мать постояла перед этой лестницей, потом сказала:
— Жди здесь. — И вошла внутрь.
Я отошел от входа и, кутаясь в телогрейку, присел на скамейку в сквере. Ни о чем не хотелось думать. Я просто тупо сидел и давил башмаками куски разбитых бутылок. И они почему-то всегда трескались на четное число осколков — два, четыре, шесть.
Матери не было долго — наверное, полчаса. Потом она появилась, прошла мимо, оглянулась. Я встал и опять поплелся за ней. Мы прошли совсем немного и сели на скамейку в дальнем конце сквера, перед какой-то стеной, где висели накрытые стеклом пожелтевшие портреты незнакомых мужчин и женщин. Несколько стекол были разбиты, и фотографии вылезали из-под них раскисшими пузырями, которые превращали лица в уродливые карикатуры. Мать все молчала. Редкие прохожие шли мимо, не замечая нас. Но вот в сквере появился мужчина в серой спецотдельской форме. Остановился, сел на скамейку напротив, раскурил папиросу, прикрывшись от ветра воротом шинели, и уставился на нас. Он сидел как раз под фотографиями, и я поглядывал то на этого мужчину, то на портреты на стене и почему-то искал его среди них. А он буравил меня глазами из-под низко надвинутой шапки. Я посмотрел на мать, которая тоже не сводила глаз с этого человека, и мне стало еще больше не по себе. Мужчина поднялся, затоптал окурок и ушел, а мы все сидели.
Я продрог. Ветер швырял на асфальт пригоршни ледяной крупы и гнул к земле чахлые сосенки. Я снова взглянул на мать и увидел, что она плачет. Она плакала при мне, кажется, первый раз в жизни.
Мать проплакала всю обратную дорогу, сидя на койке в кубрике нашего парохода, на котором мы уплыли в тот же вечер. Я не знал, как ее утешить и все звал на палубу, чтобы показать, как ледокол впереди нас таранит льдины. Но мать только отмахивалась и говорила: «Ладно, ладно, ничего, все хорошо». И снова начинала плакать. А угрюмый матрос, тот самый, что пялился на нас прошлой ночью, видя такое дело, молча подошел и поставил перед ней на пол кружку с водкой.
Ночью мать разбудила меня и сказала, что тот, в сквере, был мой отец.
5 СЕНТЯБРЯ
Сколько событий здесь вмещает в себя каждый день! Сегодня начались занятия. Нас знакомили с куратором группы, были первые лекции... Но думать я могу лишь о том, что случилось вчера. А вчера я целый день просидел на крыше. Писал в дневнике и ждал, когда появится та загорелая девушка (кстати, мои плечи тоже наконец-то порозовели!).
Она показалась на крыше уже под вечер, в коротком халатике и снова — на фоне медного заката. Свои действия я продумал заранее. Собственно, действий как таковых не было. Я никуда не прятался, а продолжал сидеть, склонившись над тетрадкой, — пусть думает, что я чего-то конспектирую. А сам исподлобья наблюдал за ней. Если она разденется, я подниму голову и буду нахально смотреть на нее.
Она разделась. И мой нахальный взгляд был разбавлен разочарованием: к оранжевым трусикам прибавился оранжевый лифчик — еще два треугольника. Девушка подошла к краю крыши и вдруг помахала мне рукой, как старому знакомому. К такому повороту я не был готов, и ответил ей невнятным жестом, будто написал в воздухе карандашом какую-то загогулину, и этот жест вызвал у нее улыбку.
Она села на низкие железные перила лицом к солнечному потоку и своим телом выкроила из него кусочек — лучи лились вокруг нее, а за ее спиной, как легкая мантия, струилась тень. Я хотел крикнуть, что опасно сидеть вот так, отклонившись в пустоту. Но в ее позе была такая естественная уверенность, словно она опиралась о легкий ветерок, как о спинку кресла. Она, похоже, вообще была на «ты» со стихиями, во всяком случае — со светом и воздухом. И, согласитесь, глупо кричать «не свались!» голубю или облаку, и я сидел молча, лишь старался подстраховать ее еще и своим взглядом — так, на всякий случай. Но через пару минут она прекратила этот головокружительный аттракцион и снова жестом обратилась ко мне — обхватила плечи руками и поежилась, что означало «Сегодня загорать холодно». Поддерживая этот светский диалог, я развел руками и состроил довольную физиономию, мол, «А по мне, так ничего, в самый раз». Затем в воздухе между крышами повисла пауза. Мне хотелось спросить, как ее зовут, и на каком факультете она учится, и откуда она приехала, и сколько времени ей потребовалось, чтобы так загореть. Но все это не поддавалось языку жестов, а орать было глупо.
И опять она взяла на себя инициативу — махнула мне рукой, словно приглашая куда-то, а потом показала вниз. У меня снова, как при ее появлении, перехватило дыхание. Это могло означать либо «Давай прыгнем с крыши», либо «Давай встретимся внизу», что, впрочем, было почти одно и то же. Даже не отвечая, я схватил штаны и уже через секунду скакал по крыше на одной ноге, а другой никак не мог попасть в штанину. Наверное, это напоминало подъем по тревоге или что-то в этом роде, и она легко превратила мою неловкость в игру и тоже стала надевать халатик с нарочитой спешкой, и когда я наконец разобрался со штанами и схватил рубашку, она уже стояла на своей крыше, вытянувшись в струнку, застегнутая на все пуговицы, которых и было-то, наверное, штук пять, и смеялась: вот, мол, я — первее!
Сбежать по лестнице (пролет — в два прыжка), заскочить в комнату (к счастью, соседей нет), сунуть дневник под матрас, и снова — по лестнице, на улицу — вряд ли я потратил на все это больше минуты. А следующие полчаса, пока я ждал ее напротив входа в женское общежитие, я думал: «Что за дурацкие шутки? Неужели я выгляжу так, что сразу хочется надо мной поизмываться?» Впрочем, конечно, — тощий уродец в нелепых трусах, что-то строчит в тетрадке. Типичный зубрила-провинциал. Она сейчас, небось, поглядывает сверху из какого-нибудь окна и хихикает. Интересно, оценила она хотя бы мой рекорд скоростного спуска? Вот болван!..
И тут она появилась. В нарядном синем платье, которое держалось на тонких бретельках, с открытыми смугло-золотыми плечами. Волосы — совсем не рыжие, как мне показалось, а каштановые — собраны назад и завязаны синей лентой. И я понял, что она тоже спешила, но по-своему, и мне это ужасно понравилось. Она шла ко мне такой легкой походкой, что будь у нее под ногами не асфальт, а песок или даже снег, на нем, наверное, не осталось бы следов. И тут я пожалел, что стою с пустыми руками — мог бы за это время хоть цветов раздобыть, потому что с такой девушкой просто так не встречаются.
— Ну, привет, писатель, — сказала она.
А я, не обратив внимания на «писателя», не задумываясь, выпалил то, что мне и хотелось, и правильно сделал, потому что наша встреча сразу стала свиданием, даже без цветов. И к черту все правила знакомства!
— Какая ты чудесная! — сказал я ей. И сам удивился, что сказал это просто, без смущения, и мог бы повторить тысячу раз и найти для нее еще тысячу хороших слов, потому что она и вправду была чудо.
— Ого! — засмеялась она. — Приятное приветствие.
Я сразу попал в ее притяжение... Говорят, люди в состоянии невесомости чувствуют себя так, словно падают в бездонную пропасть. Вот и я испытал что-то подобное — легкость, свобода, сердце замирает... Мы стояли, глядя друг на друга, и наше молчание было легким. И у меня даже мысли не возникло: оценивает ли она меня, нравлюсь я ей или нет. Хотя раньше я думал, что, если когда-нибудь познакомлюсь с девушкой, эти вопросы будут сковывать меня. Ни черта! Я видел ее глаза — совсем она меня не оценивала, просто смотрела.
Я хотел, чтоб и она попала в мое притяжение и тоже летела мне навстречу. И был только один способ добиться этого: просто отдать ей все, что у меня есть, жить и умереть ради нее, и каждую секунду, каждым жестом, взглядом, словом показывать, как она мне нравится. Когда я, глядя на ее тонкое, необыкновенно выразительное лицо, сделал это открытие, то удивился: как это — вдруг отдать жизнь какой-то незнакомке! Но тут же понял, что у меня нет выхода. Либо убежать, не говоря ни слова, либо сейчас же начать жить ради нее, потому что это, вероятно, единственный настоящий способ быть с женщиной.
Мы пошли рядом, и стали говорить друг с другом. У нее оказалось красивое имя — Милена, которое и шло, и не шло ей, потому что имя было светлое и воздушное, но немного жеманное, а она была во всем так открыта и естественна.
Она поинтересовалась — что я там пишу, на крыше. А я соврал, что обещал каждый день писать матери, и эта ложь, сказанная по инерции, расстроила меня. Впрочем, может быть, когда-нибудь я покажу ей свой дневник.
Оказалось, что она учится в другом институте, а здесь живет временно, потому что у них в общежитии ремонт и их пока расселили кого куда. Еще я узнал, что она уже на третьем курсе. Но только Милена не хотела говорить о своей учебе, как будто это было ей неприятно.
Я должен был сказать ей уйму важных вещей. Во-первых, что у нее потрясающие глаза — золотистые, по-кошачьи приподнятые к вискам. А еще, что ей так идет ее смех и голос, хотя голос слишком глубокий и низкий для такой худенькой девушки. И что она кажется невероятно легкой, даже хочется все время держать ее за руку, как воздушный шарик за нитку, и если бы я попробовал изобразить нас вместе, то, наверное, нарисовал бы мешок с привязанным к нему воздушным шариком, и самое удивительное — мешок бы тоже летел, поднятый шариком. А сказал я ей все-таки:
— Ты замечательно загорела. Я еще вчера это заметил.
Она поняла, о чем я, но совсем не смутилась, а только улыбнулась. И даже не кокетливо, а просто улыбнулась — мол, если тебе приятно было смотреть на меня, ну так и что ж, очень хорошо. Снова она легко превратила то, от чего у меня захватывало дух, в простое и естественное.
У нас как-то сразу нашлись темы для разговора, и мы говорили, почти перебивая друг друга. Например, ей тоже очень нравится лето, и солнце, и жара. Она это выразила восхитительно:
— Чем меньше на себя надеваешь, тем лучше настроение.
Я тут же попытался представить ее зимой — в пальто, в каких-нибудь неуклюжих сапогах — и не смог. И подумал, что сейчас, в этом платье, она чувствует себя почти раздетой — теплый ветерок ласкает ей шею и плечи, и ноги под взлетающим подолом. У нее были узкие загорелые ладони и тонкие пальцы, которыми она все время теребила то бретельки на платье, то краешек синей ленты, то сорванный зеленый листик. А из белых босоножек выглядывали такие же тонкие пальчики со светлыми ноготками.
На крыше она сначала загорала с подругой, но той почему-то стало страшно, как будто они делали что-то запрещенное, и она перестала составлять Милене компанию. А Милена... Боже, как удивительно — я пишу ее имя, и точно прикасаюсь к ней! Словно мне уже стало доступно что-то сокровенное. Недаром когда-то считалось, что только знание подлинного имени дает власть над кем-то, и раньше у людей было по два имени, одно — для всех, а другое — тайное, настоящее, если кто его узнает — ты пропал, ты в его власти.
— Теперь я уже могу вернуться в свое общежитие, но мне так жаль расставаться с этой крышей, — сказала она и оглянулась, словно хотела увидеть там, наверху, себя.
Оказалось, что она и голубей тоже кормила. Только не хлебом, как я, а настоящим овсом, и даже на птичий рынок за ним специально ездила.
— Птицы больше всего любят овес, а все остальное едят просто по необходимости. Вот мы, если б могли, ели бы только зефир.
Все это она произнесла с абсолютной уверенностью, а я поймал себя на том, что смысл нашего разговора часто как будто теряется, и я просто заслушиваюсь ее голосом и не могу оторвать взгляд от ее губ... Тут, впрочем, я выразил вежливое нежелание питаться одним зефиром.
— Ну не зефиром, — сразу согласилась Милена. — Не важно. Ты что любишь? Жареную курицу? Кошмар какой! Почти то же самое, что голубей есть... Вот кто, должно быть, ненавидит птиц, так это памятники!
Последнее относилось к гранитному Толстому, украшенному белой тюбетейкой и белыми погонами из птичьего помета.
Мне понравилось, как она скачет в разговоре с одного на другое, словно ребенок, который спешит рассказать что-то интересное. И чем больше мы говорили, тем больше у нас находилось общего. Выяснилось даже, что мы недавно прочли одну и ту же книгу и нам обоим она понравилась — книгу про парня, который жил в Германии в мрачное время между двумя войнами, и про то, как он потерял своих друзей и любимую девушку, которая умерла от туберкулеза... Грустная книга о том, как тает надежда на солнечную, счастливую жизнь.
— Помнишь, там есть потрясающие слова, — сказала Милена, — самые главные в романе: «Человек без любви — всего лишь мертвец в отпуске». Я сама часто думаю об этом. Но желание любить — опасное желание. Оно делает человека беззащитным.
В тот момент мы сидели на скамейке под тополями, и я все любовался ее губами — как они двигаются и немного прилипают друг к другу в уголках. Но вдруг смысл сказанного оторвался от ее губ и обрел значение, и я понял, что сказано что-то важное. Причем сказано так же легко, словно какой-нибудь вздор про голубей и овес.
Я ведь и сам много думал об этом — почему я все время один и почему мне лучше в одиночестве? Значит, я просто боюсь этой беззащитности? Боюсь, что кто-нибудь...
Придется дописать потом. Явились соседи по комнате. Они — хорошие ребята, только любят радио громко включать. Кстати, один из них только что со смехом хлопнул меня по спине: «Здорово, писатель!» Неприятное приветствие.
9 СЕНТЯБРЯ
Не брался за дневник три дня и даже соскучился по нему. Но писать было некогда. Да и неудобно: в нашей комнате слишком людно и шумно. Мои соседи-старшекурсники — компанейские парни, поэтому комната — настоящий проходной двор. Пришлось смыться на черную лестницу. Пишу здесь, сидя на ступеньках. Сильно жжет плечи и спину. Это оттого, что я сегодня обгорел. Да-да, обгорел на солнце! Боже, какой сегодня был день! Лучший в моей жизни! Но — обо всем по порядку. Только бы ничего не упустить!..
Позавчера мы встретились с Миленой, как и договорились, возле Толстого. Перед этим я часа два носился по магазинам — искал зефир. Обегал, наверное, с десяток гастрономов. Нашел. Стоял в очереди и психовал, потому что уже опаздывал. Но все же примчался к памятнику раньше Милены.
Она появилась в сквере, улыбаясь мне еще издали. В руке у нее был оранжевый кленовый листок.
— Смотри, — сказала она, — деревья уже чувствуют осень, их даже таким теплом не обманешь... Это что такое? Зефир?! Как здорово! — Она тут же выудила из пакета зефирину и куснула ее. — М-м, вкуснотища! Жалко, что ненастоящий.
— Как это — ненастоящий? — удивился я.
— Настоящий делают из антоновки, а это — так, взбитые белки, настоящий теперь не найти. Да ты не огорчайся, я любой зефир просто обожаю. А как ты узнал?..
В тот вечер мы увиделись лишь на несколько минут. Ей надо было перебираться в свое общежитие. И на следующий день она была занята.
— Давай встретимся в воскресенье и пойдем на пляж. Я знаю отличное местечко, — сказала она. — Грех упускать такую теплынь.
На пляж?! С ума сойти!
Все дни до воскресенья я заклинал небо, чтоб только не испортилась погода. Даже сидя в аудитории все посматривал в окно: не превратятся ли эти вроде бы безобидные облака в тучи? Прочь, прочь, облака! Прочь, осень!
Наверное, из меня получился бы неплохой шаман — когда в воскресенье я вышел на улицу, увидел над крышами почти безукоризненную синеву, лишь слегка приглушенную прозрачной дымкой, и понял, что день будет по-настоящему жарким. Оконные стекла пускали на асфальт ромбы зайчиков, а сиденья в полупустом трамвае уже были горячими, словно в полдень.
Я ждал Милену под расписанием электричек. В руках у меня была купленная здесь же, возле вокзала, увесистая дыня — серебристая и продолговатая, как артиллерийский снаряд. Люди тащили мимо тюки и узлы. Какой-то потный толстяк, кажется, полупьяный, подкатился ко мне и торжественно сообщил:
— А вы знаете, что сегодня за день? Не знаете?! Сегодня уже превышена рекордная температура за сто двадцать лет наблюдений! Что творится-то, а! — И гордо удалился, распираемый этой новостью, как будто сам он эту температуру и превысил.
Я высматривал Милену и гадал: на сколько она опоздает сегодня? Она почти не опоздала — какие-то двадцать минут — и, появившись откуда-то сзади, потащила меня в толпу:
— Давай скорей, электричка отправляется!
— А билеты?