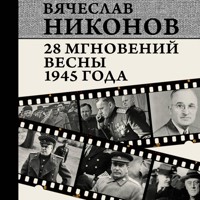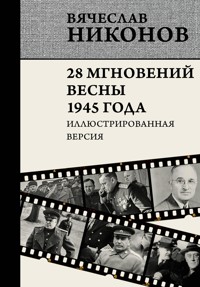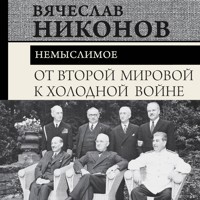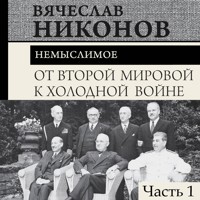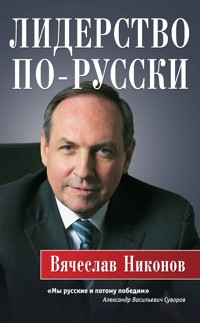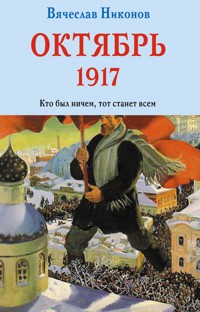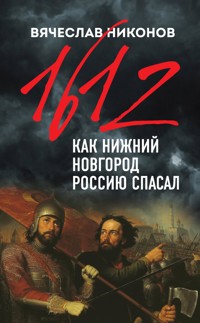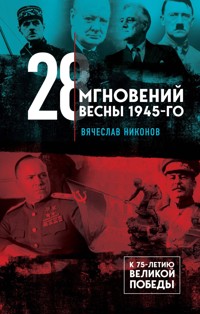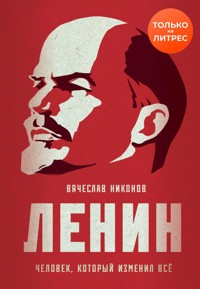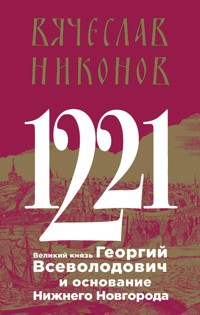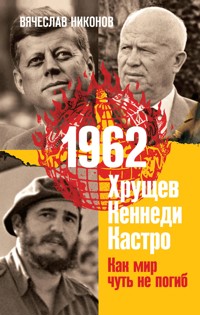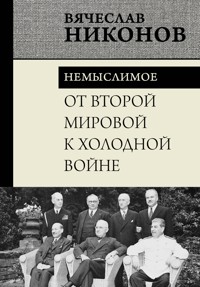
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ОГИЗ
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Вячеслав Никонов
- Sprache: Russisch
Немыслимым назывался разработанный в Великобритании уже в мае 1945 года план немедленной войны с Советским Союзом силами английских, американских и германских войск. План не был реализован, но, казалось, немыслимое произошло: за несколько месяцев союзнические отношения времен Второй мировой войны превратились в холодную войну, которую Уинстон Черчилль фактически объявил в Фултонской речи в марте 1946 года. Как это произошло? Ответ вы найдете в книге известного российского политика, аналитика и телеведущего В.А. Никонова. Вы узнаете, что происходило в это время в кремлевских коридорах власти, столицах ведущих мировых держав, в странах Запада и Востока, в умах их лидеров. Как была создана ООН, как началась атомная эра, как капитулировала Япония. И откуда нынешняя враждебность к нам западных элит.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1821
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Вячеслав Алексеевич Никонов От Второй мировой к холодной войне Немыслимое
* * *
Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© В. А. Никонов, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Введение
В мае 1945 года весь мир праздновал победу над Германией. Для нас это была ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, ставшая символом бессмертного подвига народа, его триумфа и горечи потерь.
События 1945 года привлекают особое внимание всех, кому дорога память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Моя книга «28 мгновений весны 45-го» была о том, как завершалась битва с нацизмом в Европе.
Но история продолжила свой неумолимый ход. Лето 1945 – весна 1946 года были временем поистине горячим, во многом определявшим ход последующей мировой политики. И об этом времени мы знаем гораздо меньше, чем об истории Великой Отечественной.
Вторая мировая война продолжалась, Азиатско-Тихоокеанский регион оставался ареной сражений. Милитаристская Япония по-прежнему оккупировала огромную часть Китая и Юго-Восточной Азии.
В Европе нарастали противоречия между недавними союзниками. В Великобритании и США уже начали задумываться о войне с Советским Союзом. В полной мере обозначились линии водоразделов между СССР и англосаксами, определившие основные контуры и «фронты» холодной войны.
Дух сотрудничества военных лет отходил в прошлое, что в полной мере проявилось в ходе главного дипломатического события завершающего этапа Второй мировой – Потсдамской конференции, последней в череде встреч трех великих союзников – СССР, Соединенных Штатов и Великобритании. О чем говорили тогда Сталин, Трумэн и Черчилль?
Летом 1945 года началась атомная эра мировой политики: впервые и единственный раз в истории было применено ядерное оружие. Были уничтожены Хиросима и Нагасаки. Атомный фактор окажется одним из решающих в современной истории человечества.
Блестящая военная операция Красной армии против Квантунской армии стала ударной точкой во Второй мировой и открыла новый этап в истории освобожденного Китая.
Начиналась холодная война, сделавшая мир ареной биполярной конфронтации между Советским Союзом вместе с его союзниками и Соединенными Штатами с их сателлитами. Ответственность за развязывание холодной войны обе стороны поспешили возложить друг на друга. Позднее появились нюансы в определении степени ответственности каждой из сторон. Однако вопросы о том, кто, как, когда, почему, зачем начал холодную войну до настоящего времени ни в коем случае нельзя считать исчерпанными и закрытыми, хотя трудов на эту тему десятки.
Сегодня, когда конфронтация между Россией и тем же западным миром во главе опять же с США вышла на качественно новый уровень, уровень гибридной войны на всех фронтах, фронт исторический обретает растущую актуальность и остроту.
Когда началась холодная война? Ответ не столь однозначен. Коль скоро речь шла о противостоянии двух систем – социалистической и капиталистической, – то значит, считают некоторые историки, она началась с появления новой, социалистической системы, против которой сразу же ополчился остальной мир. То есть еще в октябре 1917 года.
Американские историки Юджин Трани и Дональд Дэвис даже написали книгу «Первая холодная война: Наследие Вудро Вильсона в советско-американских отношениях». Нет сомнения, что правящие круги и большинство населения Западной Европы и Америки желали, чтобы советский режим был сокрушен еще в колыбели.
Такой же датировки придерживается Сергей Александрович Караганов: «Начало того, что мы сейчас называем холодной войной, естественно, датируется Октябрьской революцией. Тогда геоэкономический и геополитический элементы были теснее, чем когда-либо раньше, сращены с идеологией – коммунистической в её варианте прямого отрицания частной собственности. Пример Советской России – СССР показывал власть имущим всего мира, что из рук владельцев могут быть изъяты экономические активы – земля, фабрики, финансы, и это воспринималась как огромная угроза».
Когда закончилась «первая холодная война» и закончилась ли она вообще или плавно переросла во вторую, традиционно датируемую концом 1940-х – концом 1980-х годов, определить тоже трудно. Очевидно, что в ней были перерывы, связанные с установлением американским президентом Франклином Рузвельтом дипломатических отношений с СССР в 1933 году и сотрудничеством Советского Союза, США и Великобритании в годы Второй мировой войны.
Когда точно началась та холодная война, которую мы привычно называем этим именем, тоже сказать нельзя. Зависит от того, что считать холодной войной. Если это разворот к конфронтации с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции, то его можно датировать различными датами и событиями. Таких знаковых событий было немало. И разработка в Великобритании плана «Немыслимое» – плана войны Запада с СССР. Это май 1945 года. И подготовка в США первых планов ядерного нападения на СССР. Это осень 1945 года. И Фултонская речь Уинстона Черчилля, где уже были озвучены все программные установки биполярной конфронтации. Это март 1946 года. А кто-то выносит начало холодной войны в 1947 год и связывает с принятием доктрины Трумэна и плана Маршалла. Или даже в 1949 год, когда была создана НАТО.
Как мне представляется, очевидная точка невозврата к партнерству времен Второй мировой – Фултон. 6 марта 1946 года курс на системную конфронтацию с СССР был вброшен западной стороной в публичную плоскость, что вызвало немедленную жесткую реакцию с советской стороны. Уже тогда закулисное стало явным, а дальше все просто катилось по наклонной плоскости, подчиняясь конфронтационной логике.
Весь период холодной войны почти вся мировая историография находилась под влиянием идейного противоборства двух сверхдержав, оправдывавших собственные действия и обвинявших противную сторону в негативных последствиях развязывания холодной войны и глобальной конфронтации. А сами исторические исследования и споры помогали их раздувать.
В Советском Союзе до начала перестройки Михаила Сергеевича Горбачева уверенно говорили об ответственности за развязывание холодной войны империалистических кругов США.
Главной причиной ее начала и постоянного обострения считались гегемонистские устремления американского правительства, транснациональных корпораций, военно-промышленного комплекса. Серьезно опасаясь роста популярности идей социализма, они не только начали холодную войну, но и целенаправленно вели подготовку к «горячей» войне с СССР и всеми странами социалистического лагеря, развязав гонку ядерных и обычных вооружений.
В перестроечном СССР и постсоветской России появились труды либеральных историков, работающих в разных странах, но пишущих на русском языке – А. А. Данилов, В. М. Зубок, В. П. Наумов, К. В. Плешаков – и авторов из числа «фолк-историков» (Б. В. Соколов, К. С. Закорецкий, Г. Х. Попов, В. Б. Резун), «доказывавших», будто это Сталин и его ближайшие соратники вынашивали планы развязывания новой мировой войны и завоевания мирового господства через разжигание социалистической революции в планетарном масштабе, что вызвало защитную реакцию Запада в виде холодной войны.
Большинство авторитетных современных российских историков начала холодной войны – И. И. Быстрова, Н. И. Егорова, В. Л. Мальков, М. М. Наринский, В. О. Печатнов, Е. Ю. Спицын, А. М. Филитов, – подвергли такие взгляды обоснованному критическому разбору.
В Соединенных Штатах традиционная, или «ортодоксальная», или либеральная школа историографии возлагала вину исключительно на Советский Союз. Политолог Эндрю Хейвуд суммировал ее кредо: «Захват Советами Восточной Европы стал выражением долговременных российских имперских амбиций, получивших новый импульс от марксистско-ленинской доктрины всемирной классовой борьбы, ведущей к установлению мирового коммунизма».
Такие известные американские историки и советологи, как Збигнев Бжезинский, Ричард Пайпс, Уильям Макнил, Герберт Фейс подчеркивали, что у истоков холодной войны лежали экспансионистские устремления «ленинско-сталинского социализма», непомерные личные амбиции и «идейный фанатизм Сталина», необходимость остановить советскую экспансию для защиты «ослабших западных демократий» путем проведения сугубо оборонительной политики, вступив в жёсткое противоборство с Советским Союзом.
Пайпс утверждал, что послевоенная внешнеполитическая экспансия СССР являлась следствием «внутренних факторов и имперской революционной идеологической доминанты внешней политики советского политического руководства».
Бжезинский и в конце жизни утверждал, что «после 1945 года евразийский гигант под названием Советский Союз, победно закрепившись в самом сердце Европы, явно намеревался, как монголы семью сотнями лет ранее, прокатиться еще дальше на Запад». И в то же время «благодаря своему завидному экономическому и геополитическому положению в конце Второй мировой войны Америка обрела новый статус – хозяйки мировой арены». При этом «Западная Европа оставалась уязвимой для Советской державы, поэтому почти официально превратилась в протекторат Америки, попав к ней же в неофициальную финансово-экономическую зависимость».
Бжезинский также считал, что «соперничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом представляло собой осуществление излюбленных теорий геополитиков: оно противопоставляло ведущую в мире военно-морскую державу, имевшую господство как над Атлантическим океаном, так и над Тихим, крупнейшей в мире сухопутной державе, занимавшей большую часть евразийских земель… Геополитический расклад не мог быть яснее: Северная Америка против Евразии в споре за весь мир. Победитель добивался бы подлинного господства на земном шаре».
Ричард Хаас, возглавляющий сейчас американский Совет по международным делам, пишет, что Советский Союз своими действиями в Германии и Корее «обозначил готовность бросить глобальный вызов интересам США в Европе и Азии. Даже если кто-то с этим не согласен, справедливо будет отметить, что холодная война была в известной степени неизбежна, учитывая различные интересы и взаимоотрицание идеологий двух ведущих держав той эпохи».
Холодная война стала неизбежной тогда, считает британский историк Ричард Саква, «когда стало понятно, что советская власть пришла, чтобы остаться в странах Восточной Европы, освобожденных Красной армией от фашизма, а теперь вынужденных подчиниться великому советскому коммунистическому эксперименту».
Либеральная школа доминирует в США и на Западе в целом еще и потому, что подкрепляет самовозвеличивающий нарратив о Западе как о вечном и безусловном носителе добра. «Большинство американцев… верят, что Соединенные Штаты были мотивированы благими намерениями, а Советский Союз – нет. Либеральные теоретики, конечно, проводят различия между хорошими и плохими государствами, и они обычно определяют либеральные демократии с рыночной экономикой как наиболее достойные. Американцам нравится такая перспектива, потому что она определяет Соединенные Штаты как доброжелательную силу в мировой политике и изображает их потенциальных и реальных врагов как сбившихся с пути истинного и злонамеренных нарушителей спокойствия», – пишет представитель другой – реалистической – школы Джон Миршаймер.
Теоретики-реалисты исходили из того, что после Второй мировой войны две сверхдержавы – США и СССР – получили возможность и желание для взрывного роста влияния и экспансии, что сделало вражду между ними неизбежной. Эту вражду усугубили их сталкивавшиеся геополитические интересы в Европе и взаимное глубокое идеологическое недоверие. Сам Миршаймер считает: «Чисто реалистическая интерпретация холодной войны не предполагает значимого различия между американским и советским поведением во время конфликта. Согласно реалистической теории, обе стороны руководствовались озабоченностью по поводу баланса сил, и каждая делала все возможное для максимизации своей относительной мощи».
Другой реалист – Генри Киссинджер – утверждал: «Крах нацистской Германии и необходимость заполнить образовавшийся в результате этого вакуум силы привели к распаду военного партнерства. Цели союзников просто сильно расходились. Черчилль стремился не допустить господства Советского Союза в Восточной Европе. Сталин хотел, чтобы ему за советские военные победы и героические страдания русского народа заплатили территориальной монетой. Новый президент ГарриС.Трумэн поначалу стремился следовать заветам Рузвельта, направленным на закрепление союза». Киссинджер считал, что Трумэн «верил в возможность сподвигнуть Сталина на „нормальное“ поведение. И когда столкнулся с реальностью, говорящей о том, что на самом деле напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами проистекает не по причине какого-то недоразумения, а носит общий характер, началась история холодной войны».
Вместе с тем в США и за их пределами в годы вьетнамской войны (1960-1970-е) появилась «ревизионистская» литература, где ответственность за начало холодной войны возлагалась и на Соединенные Штаты. Здесь одним из первопроходцев выступал «новый левый» историк Габриэль Колко. В его глазах «советский экспансионизм» в Восточной Европе выступал как оборонительный, а не наступательный, мотивированный главным образом желанием создать буферную зону между собой и враждебным Западом и видеть Германию перманентно ослабленной.
Левые «ревизионисты» полагали, что именно США несут основную ответственность за возникновение холодной войны. Изначальной стратегической целью Вашингтона являлось «переустройство мира» по «либерально-капиталистической модели», в рамках которой США имели бы неоспоримые преимущества для обеспечения мирового лидерства. Советский Союз оказался препятствием на пути реализации этого плана, а потому подвергся жесткому давлению Запада с помощью экономических санкций и гонки вооружений. США сознательно игнорировали законные интересы Москвы, а советские лидеры проводили в международных делах скорее оборонительную политику. Авторитетными «ревизионистскими» исследованиями считаются труды Джона Гэддиса, Даниэля Ергина, Мартина Макколея.
Появились уже и различные «постревизионистские» трактовки. Г. Лундестад, Т. Нафтали, М. Леффлер стали объяснять происхождение холодной войны естественными геополитическими противоречиями, а не злой волей руководителей сверхдержав или их идеологической непримиримостью. А есть уже и постпостревизионисты…
Для того, чтобы понять, кто, как, когда, почему, зачем начал холодную войну, нужно глубоко окунуться в фактуру тех событий мировой политики, которые произошли сразу после капитуляции гитлеровской Германии. Это мы сейчас и сделаем.
Глава 1. День Победы
В ночь на 9 мая 1945 года ни москвичи, ни ленинградцы, ни жители других городов и сел Советского Союза не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. Люди включили приемники на полную громкость. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Борисович Левитан прочитал Акт о военной капитуляции Германии. А затем и Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 9 мая объявлялось Днем всенародного торжества – Праздником Победы.
После этого никто просто не смог усидеть в четырех стенах. Люди выбегали из домов, знакомые и незнакомые обнимались и целовались, поздравляя друг друга с Победой.
Я видел много воспоминаний людей, встретивших 9 мая 1945 года. Слышал много воспоминаний, в том числе от самых близких. И сделал один вывод: у людей, переживших этот день, просто не хватало слов, чтобы выразить ту безумную радость, смешанную с безмерной скорбью, которая их охватила.
Невозможно было не только проехать, но и пройти по центру Москвы. Там было сплошное людское море. Появилось множество красных знамен. Особенно «доставалось» людям в армейской форме: военных хватали, качали, целовали, их несли над толпой.
Народ ликовал от Владивостока до Бреста. К Москве устремлялись чувства и мысли тех, кто радовался на площадях Киева, Минска, Кишинева, Риги, Тбилиси, Еревана, Ташкента, Алма-Аты. Это, помимо прочего, был праздник единства всех народов, совместно добывавших Победу.
Люди в Софии, Варшаве, Праге, Белграде разделяли общую радость всем сердцем. Фотографии и кинохроника из этих столиц не оставляют на этот счет ни малейших сомнений. Радость от прихода Красной армии была безмерной, что бы ни говорили сейчас беспамятные дети и внуки тех, кого освободили наши отцы и деды.
В общенародном торжестве в Москве нашлось большое место и союзникам. По Всесоюзному радио, из динамиков звучали не только советский гимн, победные песни и марши, но и гимны союзных государств.
Английское посольство, как и сейчас, размещалось через реку от Красной площади, на Софийской набережной, где и народу-то не развернуться. Другое дело – посольство США, которое было рядом – на проспекте Маркса (ныне – Моховая улица, здание, где находится штаб-квартира АФК «Система»). Перед ним бушевало людское море, всячески порывавшееся выразить свои дружеские чувства и признательность американским союзникам. Москвичи махали дипломатам руками, аплодировали, выкрикивали здравицы. Милиция с трудом сдерживала напор дружественной толпы.
Посол Аверелл Гарриман был в Америке, старшим должностным лицом в посольстве на тот момент оказался Джордж Кеннан, временный поверенный в делах. Какие мысли и чувства обуревали в тот день старшего дипломата союзной нам страны?
В своих воспоминаниях Кеннан их подробно опишет: «Я не помню, чтобы испытывал восторг по поводу окончания войны в Европе. Как все, я радовался прекращению кровопролития и разрушений на полях битв. Но я абсолютно не верил в возможность трехстороннего сотрудничества в управлении послевоенной Германией.
Около 10 часов утра на улице появилась колонна людей, преимущественно студенческой молодежи, которые маршировали со знаменами и пели песни. Заметив флаги союзных держав на здании „Националя“, а также американский флаг на нашем здании, они стали выкрикивать восторженные приветствия и выражать свои дружеские чувства по отношению к нам. На просторную площадь перед нашим зданием все прибывали люди, и к демонстрантам вскоре присоединились тысячи новых участников шествия. Мы были тронуты этими проявлениями дружеских чувств. Наши сотрудники вышли на балконы и махали руками москвичам в знак дружеского приветствия».
Наблюдая за происходящим из окна, Кеннан решил рядом со звездно-полосатым флагом установить также советский флаг, что вызвало восторженный рев собравшихся. В сопровождении сержанта в форме Кеннан поднялся на уступ у здания посольства и прокричал на русском:
– Поздравляю с днем победы! Слава советским союзникам!
Это вызвало новую волну восторга. Толпа подняла солдата, чтобы тот оказался на одном уровне с выступающим. Солдат принялся обниматься с американским сержантом, а затем утянул его вниз, в толпу. Наблюдая, как тот беспомощно качался над океаном рук, Кеннан предпочел ретироваться в здание посольства. Сержант вернется на следующий день.
Весь этот энтузиазм людей вызвал у Кеннана очевидное отвращение, который даже в тот момент видел во всем происходившем происки кремлевского режима: «Мне самому удалось избежать чего-то подобного и благополучно вернуться в наше здание. Конечно, советские власти не были довольны такой демонстрацией дружеских чувств москвичей по отношению к представительству страны, которая в Советском Союзе считалась буржуазной. Не трудно вообразить, какое неприятное впечатление все это должно было произвести на партийные власти. Специально, чтобы отвлечь внимание людей от общения с нами, на другой стороне площади вскоре соорудили помост, на котором начал выступать духовой оркестр, однако это не принесло ожидаемых результатов. Люди продолжали нас приветствовать. Бог свидетель, мы не делали практически ничего для привлечения внимания демонстрантов. Нам не хотелось быть причиной каких-то затруднений в день всеобщего торжества. Но мы были еще более бессильны, нежели власти, помешать происходящему». Как будто кто-то действительно пытался помешать народному восторгу.
В феврале 1946 года именно Кеннан отправит в Вашингтон ту «длинную телеграмму», которая ляжет в основу доктрины сдерживания Советского Союза – главной доктрины холодной войны.
В Москве ликовали штабы, условий для нормальной работы не было. Нарком Военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов был в Генеральном штабе: «День 9 мая прошел особенно оживленно. Всюду царило ликование… Утренний доклад об обстановке на флотах то и дело перебивался звонками телефонов. Установить обычный распорядок дня было невозможно, да и не хотелось. Докладывались только особо важные дела и подписывались исключительно спешные телеграммы. Все командующие флотами считали своим приятным долгом позвонить мне по ВЧ и поздравить с победой.
В кабинет заходили офицеры из управлений наркомата: одни по делам, другие, без стеснения, под наплывом чувств, просто поздравить. Возникла непринужденная шумная беседа. Всех объединило одно: мы одолели врага и в данном случае не так уж важно, кому и где довелось принимать участие в борьбе. Незабываемый день! Кажется, вся Москва, вся страна жили тогда одними чувствами, забывая пережитые невзгоды. Победа!
Слово Победа у всех было на устах. Оно произносилось с одинаковым чувством радости и гордости за нашу Родину».
Но штабам нужно было продолжать работу: продолжались бои в Чехословакии, где по-прежнему сражалась миллионная немецкая группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Шёрнера.
«Не имея от Шёрнера приказов сдаваться в плен Красной армии, продолжая надеяться на относительно благополучный отход за линию американцев и заполучив в Праге соглашение на это с чешским Национальным Советом, группа армий „Центр“ не складывала оружия, – отмечал заместитель начальника Генштаба Сергей Матвеевич Штеменко. – В районе Праги, куда стремительно рвались 4-я и 3-я гвардейские танковые армии генералов Дмитрия Даниловича Лелюшенко и Павла Семеновича Рыбалко, шли бои».
В Праге в это время поднявшие восстание патриоты вели бои с немецкими частями. В этот критический для судьбы Пражского восстания момент танковые армии 1-го Украинского фронта маршала Ивана Степановича Конева, совершив беспрецедентный 80-километровый бросок, на рассвете 9 мая вступили в Прагу. «Первыми ворвались в город с северо-запада танки 10-го гвардейского Уральского добровольческого корпуса (командир генерал-лейтенант Е. Е. Белов) армии Д. Д. Лелюшенко, – рассказывал сам Конев. – Почти сразу же вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го мехкорпуса (командир генерал-лейтенант И. П. Сухов) армии П. С. Рыбалко… К десяти утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1-го Украинского фронта». На одних улицах советских танкистов восторженно встречало население города, а на других им приходилось с ходу вступать в бой с немцами.
На рассвете 9 мая командование 2-го Украинского фронта во главе с маршалом Родионом Яковлевичем Малиновским мчалось на машинах по шоссе на Прагу. «В долинах рек стлался туман, на полянах горели солдатские костры, – вспоминал начальник штаба фронта Матвей Васильевич Захаров. – Войска нашего фронта, танки, автомашины, артиллерийские тягачи – все устремилось на помощь восставшим в чехословацкой столице. В одном из городов в глаза бросился плакат: „Красной армии – освободительнице – вечная благодарность человека!“ Еще вчера здесь шли уличные бои, а сегодня население вышло на улицы, вывешены национальные и красные флаги, звонят колокола городской церкви. Из уст в уста передается радостная весть о конце войны, а в Праге продолжается ожесточенная схватка с фашистами, льется кровь советских солдат и чехословацких патриотов.
В первой половине того же дня к предместью города подошли передовые части 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта. Не дожидаясь подхода главных сил, наша 22-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника И. К. Остапенко после короткого ожесточенного боя к 13 часам вступила в Прагу, где соединилась с частями 1-го Украинского фронта… 7-я, 9-я гвардейские, 53-я и 46-я армии действовали на внешнем кольце окружения».
Здесь заканчивал боевой путь и мой отец, 28-летний капитан Алексей Дмитриевич Никонов, служивший в Отделе контрразведки «Смерш» 46-й армии 2-го Украинского фронта. В годы войны он заслужил орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медали «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». И, конечно, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Через несколько месяцев он вернется туда, откуда его и мобилизовали на фронт летом 1941-го, – в аспирантуру исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
В середине дня 9 мая немецкая оборона в Чехословакии полностью рассыпалась, войска просто бежали на запад. После трех часов, фиксировал Штеменко, «немецко-фашистские войска начали стремительный отход на юг. Но не капитулировали… Позвонили на 4-й Украинский. Там была такая же обстановка… По словам захваченных пленных, немецкое командование отводило войска „с целью капитулировать перед англичанами и американцами“. На 2-м Украинском – та же картина. М. В. Захаров сообщил, что противник отходит, но не сдается». Далеко не все немецкие подразделения сложили в тот день оружие. Боевые столкновения будут идти еще почти неделю.
К вечеру 9 мая Конев уже никак не мог прояснить оперативную обстановку в Праге. «На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский полон, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попали все мои офицеры связи в окружение – поцелуи, угощения, цветы… Потом в этих же дружеских объятиях один за другим оказались и старшие начальники – и Лелюшенко, и Рыбалко, и подъехавший вслед за ними Гордов… Словом, день освобождения Праги был для меня очень беспокойным. Пропадали офицеры связи, пропадали командиры бригад и корпусов – все пропадали! Вот что значит и до чего доводит народное ликование!»
Битва за Прагу была тяжелой. «В эти дни особенно горько было видеть за привычными докладами с фронтов продолжающиеся жертвы, – читаем у Штеменко. – За освобождение Чехословакии отдали свою жизнь свыше 140 тысяч наших солдат и офицеров».
Памятник Коневу беспамятные власти Праги снесли в год 75-летия Победы. А ведь это был памятник и тем 140 тысячам…
Заканчивались боевые действия в Прибалтике. В 10 утра 9 мая истекал срок ультиматума, установленный командованием 3-го Белорусского фронта Курляндской группировке немецких войск. Иван Христофорович Баграмян писал: «Верные условиям ультиматума, мы не пускали в ход оружия до установленного часа. Однако, как оказалось, фашисты понимали лишь язык силы. И мы применили ее. В результате этого последнего удара войск нашей 48-й армии более 30 тысяч солдат и офицеров немецко-фашистской армии во главе с тремя генералами вынуждены были капитулировать. Так вот и получилось, что в день Великой Победы, когда во всех городах и селах нашего необъятного государства царило невиданное ликование, мы еще продолжали с оружием в руках утверждать ее».
Фактически война не закончилась 9 мая. Но Победа уже была одержана. Маршал Константин Константинович Рокоссовский выражал чувства, которые испытывал, наверное, каждый фронтовик: «Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжелый и благородный, выше которого нет ничего на земле!»
Председатель Совета народных комиссаров, Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин выступил по радио 9 мая в 16.00 – после получения подписанного в Берлине Акта о безоговорочной капитуляции, доставленного в Москву специальным самолетом.
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной, объявила безоговорочную капитуляцию… Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не могла подняться»… Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!
На Западном фронте 9 мая в течение дня немецкие войска продолжали сдаваться союзникам. Тридцать тысяч солдат на Нормандских островах, немецкие гарнизоны на островах Милос, Лерос, Кос, Тилос и Сими в Эгейском море. Капитулировал немецкий гарнизон на принадлежащем Дании острове Борнхольм в Балтийском море. Сдался немецкий гарнизон, уже более полугода окруженный в Дюнкерке. К удивлению британских, французских и чешских офицеров, принимавших капитуляцию, комендант крепости вице-адмирал Фридрих Фризиус явился с собственным актом о капитуляции, уже подписанным.
В Лондоне основные празднества прошли еще накануне, но и 9 мая люди продолжали толпиться – у ворот Букингемского дворца, на Уайтхолле, Пикадилли, Трафальгарской площади, в Гайд-парке, на площади Парламента, у Сент-Джеймсского парка. Дети ходили по улицам, завернувшись в американские, британские и советские флаги. Тысячи юнион-джеков, звездно-полосатых и серпасто-молоткастых, торчали из окон.
Премьер-министр Уинстон Черчилль все утро 9 мая работал в постели, в постели же и пообедал. В середине дня с дочерью Мэри он съездил в американское, французское и советское посольства, в каждом из которых поднимал бокалы за победу.
В Лондоне в тот день находился молодой дипломат (и сын старого революционера, бывшего посла в США и Японии) Олег Александрович Трояновский. Вот его рассказ: «Как и в Москве, это было время всенародного ликования. Где-то в середине дня в посольство позвонили из Министерства иностранных дел и сообщили, что премьер-министр Уинстон Черчилль сейчас поехал в посольство США, чтобы поздравить американцев с победой, а оттуда направится в наше посольство. Посол Федор Тарасович Гусев срочно собрал старших дипломатов, приказал привести в порядок представительские помещения, выставить напитки и закуску. Меня пригласили на всякий случай, если вдруг понадобится переводчик.
Вскоре в открытой машине, стоя ногами на сиденье и приветствуя прохожих известным знаком победы в виде латинского V, приехал Черчилль в сопровождении одной из своих дочерей. Как мне показалось, премьер уже был навеселе, что неудивительно, учитывая исторический характер отмечаемого события. Наш посол провел его в главный приемный зал, познакомил со старшими дипломатами и наполнил рюмки».
Черчилль произнес короткую проникновенную речь. Упомянул о вкладе Красной армии в победу над Германией, не преминув подчеркнуть, что Великобритания в течение двух лет в одиночку воевала с Германией. И завершил свою речь словами:
– Сегодня, когда народы всего мира празднуют великую победу, мои мысли обращаются к Сталину.
Тут он повысил голос и почти прокричал:
– Великому Сталину!
«Это было внушительно, хотя, на мой вкус, слишком выспренне», – заметил Трояновский.
Клементина Черчилль, которая в тот день была в Москве, из английского посольства послала телеграмму мужу: «Мы все собрались здесь, пьем шампанское в двенадцать часов и поздравляем тебя с Днем Победы».
Еще утром британский временный поверенный в Москве Робертс обратился в НКИД с просьбой организовать прием Клементины Черчилль в Кремле для передачи поздравления от мужа или хотя бы разрешить ей зачитать это послание по советскому радио.
Аудиенции у Сталина не будет, но Клементина получила возможность выступить. Естественно, после Сталина. Вечером она зачитала приветствие своего мужа по советскому радио. На следующий день оно было опубликовано в «Правде».
Клементина Черчилль была тогда в СССР в качестве гостьи моей бабушки Полины Семеновны Жемчужиной, супруги зампреда Совнаркома и наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Передо мной на столе фотография Клементины с дарственной надписью: «Мадам Молотовой. Чтобы напомнить Вам о той радости, которую Вы мне подарили, когда я была Вашей гостьей. Клементина Черчилль. Москва. 1945».
Вечером Черчилль, как и накануне, вышел на балкон Министерства здравоохранения, выходящий на Уайтхолл, где произнес перед толпой:
– Лондон – как гигантский носорог, как гигантский бегемот, говорит: «пусть делают, что хотят – Лондон выдержит». Лондон может выдержать все. Спасибо всем за то, что ни разу не оступились в эти чудовищные дни и в долгие ночи, черные, как преисподняя.
И тогда же Черчилль писал Командующему союзных войск в Европе генералу Дуайту Эйзенхауэру: «У меня вызывает беспокойство, что немцы должны уничтожить весь свой военно-воздушный флот по месту нахождения. Я надеюсь, что так не поступят с оружием и другой боевой техникой. Однажды все это может нам понадобиться. Даже сейчас может пригодиться во Франции и особенно в Италии. Я считаю, что мы должны сохранить все, что может быть полезным. Тяжелая пушка, которую я сохранил со времен прошлой войны, на этой войне регулярно стреляет с Дуврских скал». Это были наметки – не первые – того плана, который Черчилль предложит американцам через несколько дней. Его суть – совместно с немецкими войсками начать войну против СССР.
В Париже накануне почти миллионная толпа шествовала вслед за генералом Шарлем де Голлем по Елисейским полям до Триумфальной арки. Перед волнующимся морем голов и французских триколоров глава Временного правительства Франции произнес:
– Слава! Вечная слава нашим армиям и их руководителям! Слава нашему народу, который не сломили и не согнули страшные испытания! Слава Объединенным Нациям, которые смешали свою кровь с нашей кровью, свои страдания с нашими стараниями, свои надежды с нашими надеждами и которые сегодня торжествуют вместе с нами! Да здравствует Франция!
Французская армия тоже еще продолжала военные действия – против борцов за независимость Алжира. Историк Марк Ферро меланхолично замечал: «И разве кому-то было интересно знать, что 8 мая 1945 года, в день празднования Победы, в алжирском городе Константина в результате подавления восстания при помощи авиации погибло свыше 15 тысяч человек».
9 мая Сталин получил послание от де Голля: «В момент, когда длительная европейская война заканчивается общей победой, я прошу Вас, г-н Маршал, передать Вашему народу и Вашей Армии чувства восхищения и глубокой любви Франции к ее героическому и могущественному союзнику. Вы создали из СССР один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, которая может жить и процветать только будучи свободной!»
Впрочем, вряд ли в этих словах было много искренности.
Советский посол при Временном правительстве Франции Александр Ефремович Богомолов писал в тот день в НКИД: «Победа над Германией празднуется в Париже без советских флагов и даже без упоминания в речах и в большинстве газет о роли СССР в этой войне. Очевидно, что праздник принимает по меньшей мере странный характер, так как является празднованием какой-то „сепаратной победы“, в то время как наши войска продолжают вести борьбу со значительными силами немцев.
В обстановке нарастающей политической реакции во Франции и в Англии это кажется довольно естественным.
Сегодня я завтракал у турецкого посла Менеменджиоглу. Там же присутствовали: генеральный секретарь МИД Франции Шовель, несколько французских чиновников и старый французский дипломат граф Шамбрен. После завтрака Шамбрен начал говорить, что война окончилась и нужно объявить полную амнистию всем вишистам, начав ее с Петэна. Чиновники МИД молчали. Менеменджиоглу заметил, что он не согласен с этим. Никто его не поддержал. Шамбрен, ободренный молчанием Шовеля и прочих, стал доказывать, что политика Петэна была не так уж плоха, если в конце концов Франция разделяет с союзниками лавры победы. Надо перестать употреблять слово Виши в ином смысле, кроме названия города, известного своими водами».
А что же в Германии?
В конце войны выдающийся писатель Томас Манн выступил по немецкому радио, рассказывая о том, что он увидел в Освенциме. Многие его соотечественники предпочли не поверить. Однако потом были представлены доказательства.
9 мая немцы проснулись побежденными. Наступившая вдруг тишина была поразительной: ни взрывов бомб и снарядов. Никто не требовал светомаскировки. Пришел мир, но совсем не тот, который обещал фюрер. Но и конец света, которого с ужасом ожидали, тоже не наступил.
Когда Сталин произносил свою речь по радио, в Вашингтоне было девять утра, в Сан-Франциско – шесть.
Президента Трумэна ждало поздравительное послание от советского лидера: «Народы Советского Союза высоко ценят участие дружественного американского народа в нынешней освободительной войне. Совместная борьба советских, американских и британских армий против немецких захватчиков, завершившаяся их полным разгромом и поражением, войдет в историю как образец боевого содружества наших народов».
Даже 8 мая, когда Трумэн объявил о победе над Германией, в США был обычный рабочий день, и празднества прошли только в некоторых больших городах. Цена победы для Соединенных Штатов была куда меньше, чем для нас или даже Англии с Францией, поэтому американцы отмечали не как мы, англичане или французы. И США продолжали войну – с Японией.
Война на Тихом океане продолжалась полным ходом. На Окинаве шестьдесят японских солдат, прорвавшихся в американские окопы, были убиты в рукопашной схватке. Американцы тоже десятками гибли в тот день, штурмуя японские укрепленные пункты.
На филиппинском Лусоне более тысячи японских солдат забаррикадировались в пещерах и отказались сдаваться, даже когда против них начали применять огнеметы. Через несколько дней все они погибнут.
Во вьетнамском Лангшоне, где шестьдесят французов и бойцов Иностранного легиона пытались удерживать форт, японцы прорвались через укрепления. Немногочисленных выживших поставили к стене форта и расстреляли из пулеметов. Кто еще подавал признаки жизни, закололи штыками. Успевших бежать японцы выловили и обезглавили, включая местного командующего генерала Лемонье.
Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус находился в Сан-Франциско, где продолжалась Учредительная конференция Организации Объединенных Наций. Надежды на послевоенное советско-американское сотрудничество продолжали таять даже в День Победы. Стеттиниус проводил совещания относительно будущего внешнеполитического курса Соединенных Штатов. На встрече в тот день было решено: 1) усилить давление на Кремль по польскому вопросу; 2) отдать приоритет экономической помощи Западной Европе за счет сокращения поставок по ленд-лизу в СССР.
Ну, а у советских представителей на Учредительной конференции ООН во главе с моим дедом, Молотовым, были уже все законные основания праздновать Победу и принимать поздравления. Приехав на американское радио, Молотов сделал заявление, в котором напомнил и свои слова, произнесенные 22 июня 1941 года:
– Мы пришли к долгожданному Дню Победы над гитлеровской Германией. В этот день наши мысли устремлены к тем, кто своим героизмом и своим оружием обеспечил победу над нашим врагом, над смертельным врагом Объединенных Наций. Навсегда будет свята для нас память о погибших бойцах и о бесчисленных жертвах германского фашизма… В день разбойничьего нападения Германии на Советский Союз советское правительство заявило: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Мы этого добились в долгой и тяжелой борьбе. Вместе с нашими демократическими союзниками мы победоносно завершили освободительную войну в Европе. Мы должны закрепить нашу победу во имя свободы народов, во имя благополучия, культуры и прогресса человечества.
Выступив, Молотов поспешил в Москву. Обратный путь пролег через Аляску и Сибирь. В городах, где совершали посадку, народ широко праздновал Победу. В Якутске видели бочки со спиртом, из которых его могли в неограниченных количествах черпать все желающие. На радостях в самолет со свитой наркома даже запихнули вольер с козами…
Советскую делегацию в ООН теперь возглавлял Андрей Андреевич Громыко, наш посол в США, который вспоминал: «И началось. День Победы запомнился мне бесконечным потоком поздравлений. Они нахлынули со всех сторон. Звонили самые разные люди, знакомые и незнакомые, в том числе Юджин Орманди, Чарли Чаплин, дипломаты, государственные деятели, представители различных американских общественных организаций и, конечно, часто бывавшие в советском посольстве эмигранты из нашей страны, у которых не завяла патриотическая душа».
Супруга Громыко оставалась в Вашингтоне и рассказывала мужу:
– К нам в посольство без конца идут люди, у ворот выстроилась огромная очередь. Все радуются и поздравляют. Тысячи людей ждут, что ты выйдешь и скажешь им речь. Мы объясняем, что посла нет, он в Сан-Франциско, а они все равно стоят, говорят: «Пусть русские выходят, мы их будем поздравлять. Эта победа – наша общая большая радость».
Выступление Трумэна послу не понравилось: «Он тоже говорил о победе, но как-то сухо, казенно. Народ ликовал, вся Америка торжествовала, а на каменном лице нового американского президента лежала печать сдержанности».
Вышедший в тот день приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной армии и Военно-морскому флоту заканчивался словами: «В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, – тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий».
Вообще-то, в Москве в тот незабываемый вечер было два салюта. Предпоследний был дан в честь освобождения Праги от немецко-фашистских захватчиков. Последним салютом Великой Отечественной стал Салют Победы – тот самый тридцатью залпами из тысячи орудий.
Если накануне Уинстон Черчилль беспокоился, как бы в Лондоне не кончилось пиво, то в Москве вечером 9 мая реально кончилась водка. Не появилась она и на следующий день.
Журналист британских The Sunday Times и ВВС Александр Верт писал: «9 мая 1945 года в Москве было незабываемым днем. Мне еще не приходилось видеть в Москве, чтобы так искренне и непосредственно выражали свою радость два, а может быть, и три миллиона людей, заполнивших в тот вечер Красную площадь… Люди танцевали и пели на улицах; солдат и офицеров обнимали и целовали… они были так счастливы, что им не нужно было даже напиваться, и молодые люди мочились на стены гостиницы „Москва“, на широкие тротуары прямо на глазах у снисходительных милиционеров. Ничего подобного этому в Москве никогда не было. На какое-то время Москва отбросила всякую сдержанность. Такого эффектного фейерверка, как в тот вечер, мне еще не доводилось видеть».
Люди искренне радовались Победе. Радовались новой жизни. И опасались ее. Поэт-фронтовик Давид Самойлов записал в дневнике: «Первый день мира. День радости и новых сомнений. Прежде думалось: буду ли я жить? Теперь – как я буду жить?»
И у каждого в душе комком стояла безумная боль утрат.
Глава 2. Большая тройка
Сверхдержава СССР
Воины Великой Отечественной войны возвращались домой. Тысячи и тысячи людей с цветами встречали героев-освободителей. Везде встреча выливалась во всенародное торжество. Страна испытывала небывалый прилив оптимизма, чувства общенационального единения, гордости за свою Родину, сломавшую хребет самой зловещей силе в истории человечества.
Возвращавшиеся приносили с фронта дух Победы, святости боевого товарищества. Люди, пережившие общую боль потерь и общую радость, ощущали личную ответственность за будущее страны. И жили надеждой. Уверенностью в том, что после перенесенных жертв и страданий впереди их ждет новая жизнь. Верой в неограниченные возможности своей страны и каждого ее гражданина, их способности восстановить разрушенное агрессором.
Решающие победы и мощь Красной армии возвели СССР в ранг ведущей военной силы планеты, что открывало небывалые возможности для реализации самых смелых стратегических замыслов, отстаивания собственного проекта послевоенного мира. Требовалось закрепить плоды военных успехов, не дать союзникам отстранить СССР от послевоенного урегулирования, создать пояс безопасности вдоль границы, дружественных правительств от Балтики до Адриатики.
СССР расширился территориально. Присоединились республики Прибалтики, Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, Тыва, Юг Сахалина, Курильские острова. 29 июня будет подписан договор о присоединении к СССР Закарпатской Украины.
Советский Союз, находившийся до войны в жесткой политической изоляции, с руководителями которого западные лидеры до 1941 года считали ниже своего достоинства даже общаться, становился, если уже не стал, сверхдержавой. Советское руководство ставило амбициозные исторические и геополитические задачи государства Российского.
СССР был, в первую очередь, военной сверхдержавой. Численность Рабоче-Крестьянской Красной армии (переименована в Советскую армию в 1946 году) составляла в мае 1945 года 11,3 млн человек, а к февралю 1946 года – 5,3 млн. На ее вооружении было 35 200 танков и САУ, 47 300 боевых самолетов, 341 500 орудий и минометов.
СССР смог создать мощнейшую производственную, научную и опытно-конструкторскую базу, которая легла в основу нашего военно-промышленного комплекса. К 1945 году в систему советского ВПК входили 562 военных завода и 98 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро, на которых в общей сложности работали 3,5 млн человек, что составляло почти 15 % от всех занятых в народном хозяйстве страны.
Эта мощная военная сила способна была решать практически любые боевые задачи. И дело было не только в цифрах. У нас была великая армия. «Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом, – напишет маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. – Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск – артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры, связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей к тому времени боевой техникой. Подавляющее большинство сержантов и солдат уже побывало в боях. Это были люди обстрелянные, привыкшие к трудным походам…»
Советский Союз обладал огромным моральным авторитетом. В те дни все знали, кому человечество обязано в первую очередь своим избавлением от коричневой чумы. Кто реально одержал Победу в войне, уничтожив львиную долю нацистских полчищ. Из 782 дивизий гитлеровской Германии и ее сателлитов, разгромленных в ходе Второй мировой войны, 607 (из них 506 – немецкие) уничтожила Красная армия и 175 – все остальные союзники, вместе взятые.
Факторы силы СССР суммировал Джон Гэддис: «Поскольку он был частью Европы, его войска не могли быть выведены из Европы. Его командная экономика продемонстрировала способность поддерживать полную занятость, что не удавалось капиталистическим демократиям в предвоенные годы. Его идеология пользовалась широким уважением в Европе, поскольку коммунисты во многом руководили сопротивлением германцам. Непропорционально большая тяжесть, которую вынесла Красная армия при разгроме Гитлера, давала СССР моральное право требовать значительного, может, даже преобладающего влияния на послевоенное устройство. У Советского Союза было еще одно преимущество: он единственный из победителей вышел из войны с проверенным руководством».
На волне впечатляющих успехов Красной армии Сталин чувствовал себя, и не без оснований, военно-политическим триумфатором. И он ни в коей мере не собирался сдавать кому-либо позиций на мировой арене, завоеванных ценой подвига всего народа и огромных жертв, которые понес в войне Советский Союз.
Информация к размышлениям:
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович. 66 лет. Член ВКП(б) с 1901 года. Председатель Государственного комитета обороны СССР, Председатель Совета народных комиссаров, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР, народный комиссар обороны, маршал Советского Союза.
Родился в крестьянской семье в Гори Тифлисской губернии. Воспитывался матерью, переболел в детстве оспой и тифом, травмирована левая рука. Образование Сталин получил в Горийском духовном училище, а также в Тифлисской духовной семинарии, откуда был изгнан за революционную деятельность. Работал в Тифлисской физической обсерватории. Член Тифлисского и Батумского комитетов РСДРП, с 1901 года на нелегальном положении. Дооктябрьская биография умещается между семью арестами и пятью побегами из тюрем и ссылок. Один из лидеров большевиков Закавказья, член Русского бюро ЦК. Жизнь революционера выработала у Сталина расчетливость, осторожность, холодную рассудительность, жестокость, невозмутимость, самодисциплину, смелость, обостренное чувство опасности.
В первом ленинском правительстве получил портфель наркома по делам национальностей. Член Политбюро с момента его создания. Член Военных советов ключевых фронтов в годы Гражданской войны.
С 1922 года Генеральный секретарь ЦК ВКП (б). Одержал победу во внутрипартийной борьбе 1920-х годов и стал единоличным правителем СССР. Сталин подавил массовыми репрессиями реальную и потенциальную оппозицию, отбросил в сторону ленинский НЭП и провел насильственную модернизацию страны через формирование крупных коллективных хозяйств на селе и индустриализацию – создание тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса. В 1940 году возглавил правительство.
С начала войны Сталин был единственным из лидеров Большой тройки, кто руководил операциями своих армий.
Первая супруга – Екатерина Семеновна Сванидзе – умерла от тифа. От первого брака сын Яков. Погиб в немецком плену. Вторая супруга – Надежда Сергеевна Аллилуева – застрелилась. Дети от второго брака – Василий и Светлана.
Заметно вырос морально-политический потенциал СССР. Это отмечали вашингтонские аналитики из разведки – Управления специальных служб (УСС), полагавшие, что советский режим вышел из тяжелейших испытаний значительно окрепшим. Отмечали расширение социальной базы власти за счет «привлечения к себе ключевых групп населения, которые по своим собственным соображениям будут заинтересованы в сохранении основ существующей советской системы». Речь шла о резком расширении «новой номенклатуры» и численности ВКП(б) за счет военных, инженерно-технической и научной интеллигенции, что создавало в СССР «новый правящий класс, составленный из людей, наиболее необходимых для постоянного функционирования высокоцентрализованного индустриального государства. Прочная поддержка со стороны этих групп, мотивируемая отчасти их эгоистической заинтересованностью в существующем режиме, видимо, будет вносить большой вклад в стабильность режима власти». Кроме того, изменилось отношение к власти со стороны ранее враждебных или отчужденных слоев населения – крестьянства, интеллигенции, верующих. Сама ВКП(б) превратилась в массовую партию, заслужившую народный авторитет. Гордость от победы усилилась ощущением возвращения России на мировую арену в качестве великой державы, подтверждением ее исторической роли «спасителя от угрозы азиатского и тевтонского порабощения». Этот настрой, отмечали эксперты УСС, отчетливо контрастировал с советским комплексом «неполноценности и изоляции» межвоенного периода.
Но ограниченность факторов силы тоже была налицо. За Победу была заплачена запредельная цена.
За 1418 дней войны, по официальным данным, наша страна потеряла 26,6 млн человек в фашистской машине истребления. Среди них – погибшие, умершие, пропавшие без вести, не вернувшиеся из плена и гражданское население, преднамеренно истребленное на оккупированной территории и на принудительных работах в Германии. Нет семьи, которую обошла бы трагедия войны.
Военные потери сторон были сопоставимы. Общие потери советских Вооруженных сил – 8 885 400 человек – погибших, пропавших без вести в боях, умерших от ран и болезней, не вернувшихся из плена, расстрелянных по приговору судов. Среди советских военнопленных, оказавшихся в немецких лагерях, погибло более 60 %. Среди военнопленных из западных стран – 4 %.
Общие потери Вооруженных сил СССР только в ходе освободительной миссии в Европе составили около 4 млн человек, из которых почти 1,1 млн – убитыми. Больше всего наших воинов отдали свои жизни при изгнании врага из Польши (свыше 600 тысяч человек), Чехословакии (140 тысяч), Венгрии (140 тысяч), Румынии (около 70 тысяч). В ходе освобождения немецкого народа от гитлеровского режима на территории Германии полегли почти 102 тысячи советских солдат и офицеров.
Несопоставимы были потери советского мирного населения – 17,9 млн человек. Нацисты и их приспешники сознательно уничтожали советских людей, расстреливая, гноя в концлагерях. А Советский Союз ничего подобного не делал в поверженной Германии и союзных с ней странах, хотя о «зверствах Красной армии» на Западе написаны тома. Более трех миллионов мирных советских граждан погибли от военных действий во фронтовых районах, во время варварских массированных налетов вражеской авиации, в блокадных городах, от голода, болезней, обморожения.
Экономическая цена войны для СССР была колоссальной. Создание гигантской военной машины могло произойти только за счет многих других отраслей народного хозяйства, прямо не связанных с войной. А были еще и чудовищные потери от немецкой оккупации. Молотов в 1945 году называл цифры:
– Немецко-фашистские оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов имеются крупнейшие промышленные и культурные центры страны: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие. Гитлеровцы разрушили и повредили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих и служащих. Гитлеровцы разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, в том числе большинство колхозов Украины и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней и овец.
Только прямой ущерб, причиненный народному хозяйству и нашим гражданам, Чрезвычайная государственная комиссия определяла в сумме 679 миллиардов рублей (в государственных ценах).
Информация к размышлению:
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович. 55 лет. Заместитель Председателя Государственного комитета обороны, заместитель Председателя Совнаркома, народный комиссар иностранных дел. Член ВКП(б) с 1906 года. Профессиональный революционер. Не успел закончить экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института. Шесть раз арестовывался, бежал из сибирской ссылки. Член Русского бюро ЦК большевиков в 1917 году.
Работал председателем Совнархоза Северо-Западной области, Нижегородского исполкома, секретарем ЦК компартии Украины. С 1921 года – секретарь ЦК, с 1926 года – член Политбюро ЦК ВКП(б). Один из основных творцов партийного аппарата, правая рука Сталина. Председатель Совета народных комиссаров СССР с 1930 по 1940 год, за это десятилетие ВПК страны вырос, по официальным данным, на 850 %. Обвинялся в причастности к репрессиям.
Женат на Полине Семеновне Жемчужиной, которая работала наркомом рыбной промышленности, когда в 1939 году оказалась в опале за связи с врагами народа. У них одна дочь.
С мая 1939 года – нарком иностранных дел. Вел переговоры о создании коалиции с западными державами, неудача которых привела к заключению пакта о ненападении с гитлеровской Германией. 22 июня 1941 года объявил о нападении Германии на СССР, закончив словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» В 1942 году летал на бомбардировщике Пе-8 в Лондон и Вашингтон для переговоров с Черчиллем и Рузвельтом. Подписи Молотова стоят под всеми документами о создании антигитлеровской коалиции, итоговыми соглашениями Тегеранской и Ялтинской конференций.
На восстановление разрушенного нацистами бросались все наличные силы и добавлялись все новые – за счет демобилизуемых, репатриируемых и военнопленных.
Постановлением ГКО «О вывозе военнопленных с фронтов и направлении их на работу в промышленность» от 15 мая 1945 года предписывалось: «НКВД СССР (т. Берия) направить для работы на предприятиях и стройках наркоматов в течение мая-июля 1945 г. 1 250 000 военнопленных с фронтов».
16 июня было принято постановление ГКО «О порядке отправки советских репатриантов с фронтовых лагерей и оборонно-пересыльных пунктов к месту постоянного жительства»: «1. Разрешить Военным советам фронтов всех физически здоровых репатриантов направлять походным порядком до границ Советского Союза, в приграничные сборно-пересыльные пункты, для дальнейшего направления их по железной дороге до пунктов постоянного места жительства.
Всех остальных репатриантов, не могущих следовать походным порядком (женщин с малолетними детьми, детей до 15-летнего возраста, стариков, больных и ослабленных), перевозить до места постоянного жительства по железной дороге…
вывезти по железной дороге из фронтовых лагерей и фронтовых сборно-пересыльных пунктов к месту жительства в СССР (в июне, июле, августе и сентябре месяцах) – 900 000 репатриантов, не могущих следовать походным порядком, из них:
в июне – 250 000 человек
июле – 250 000 человек
в августе – 200 000 человек
в сентябре – 200 000 человек».
Разоренная страна по размеру экономики более чем вчетверо отставала от Соединенных Штатов. В 1945 году ВВП (в млрд долл. 1990 года) США составлял 1474, а СССР – 343. За ними следовали Великобритания – 331, Германия – 310, Япония – 144, Франция – 101, Италия – 92.
Ограниченность экономических и военно-стратегических возможностей Советского Союза отчетливо сознавалась в Кремле. И ее видели в Вашингтоне. По оценкам Объединенного комитета по разведке у СССР имелись серьезные стратегические слабости: а) военные потери в производственных мощностях и человеческих ресурсах, общий низкий уровень развития (на устранение может потребоваться 15 лет); б) нехватка технических специалистов (5-10 лет); в) отсутствие стратегической авиации; г) нехватка военно-морских сил (15–20 лет); д) плохое состояние железных дорог, оборудования и систем военного транспорта (10 лет); е) уязвимость основных промышленных центров, центров добычи и переработки нефти, а также железнодорожных узлов к стратегическим бомбардировкам; ж) отсутствие атомной бомбы (5-10 лет, возможно, меньше); з) сопротивление на оккупированных территориях; и) количественная военная слабость на Дальнем Востоке, особенно – по части ВМС (15–20 лет).
Сложной оставалась ситуация на вновь присоединенных территориях. Советскому Союзу так и не удалось склонить западных союзников к признанию вхождения Эстонии, Латвии и Литвы в состав нашей страны. Все усилия советской дипломатии наталкивались на более или менее категоричное «нет», в лучшем случае – на «потом». Это «потом» так никогда и не наступит. Запад не признает вхождение стран Прибалтики в СССР, а затем признает их независимость – еще до официального распада Советского Союза в 1991 году. В Прибалтике, на Западной Украине вовсю действовало антисоветское подполье, которое, как мы сейчас хорошо знаем, поддерживалось с Запада. Для примера только одна записка Григорию Максимилиановичу Маленкову о политическом положении в Литовской ССР: «Политическая обстановка в Литве в настоящее время характеризуется тем, что в республике широкие размеры приняли бандитизм, террор буржуазно-националистических и кулацких элементов против партийно-советского актива и сочувствующего советской власти населения, саботаж в проведении важнейших мероприятий советской власти».
О размерах деятельности антисоветского националистического подполья в Литве и его вооруженных групп можно судить по тому, что «только с 1 июня по 25 июля 1945 г. органами НКВД-НКГБ ликвидированы 162 хорошо вооруженные бандитские группы, убито 2 259 бандитов, захвачено живыми 2 353, арестовано участников подпольных организаций и других антисоветских элементов 4 133 чел., легализовалось (явилось с повинной) бандитов и дезертиров 17 508 чел. В одном только Каунасском уезде, по неполным данным, в настоящее время оперирует 12 крупных банд. В этом уезде бандиты убили за последние месяцы 10 чел. председателей сельсоветов, 4 представителя укома и уисполкома, парторга волости, 2 комсорга волости, 11 работников волостных советских организаций и т. д. Всего же по республике убито свыше 2 500 чел. актива, истребителей, работников НКВД, населения.
В деревне в настоящее время сложилась такая обстановка, что партийные и советские работники уездов и волостей в сельские советы (апилинки) и хутора могут выезжать только в сопровождении хорошо вооруженной группы истребителей. Многие председатели сельских (апилинковых) советов в результате бандитского террора не могут работать и отсиживаются в волостях. Некоторые председатели апилинковых советов больше связаны с бандитами, чем с советскими органами, а в большой группе сельских советов председателей нет совершенно. Можно с полной уверенностью сказать, что в доброй половине сел Литвы нет органов советской власти».
Это только в Литве. В Западной Украине было куда хуже.
Контуры будущей советской внешнеполитической стратегии прорабатывались рядом специальных комиссий еще в годы войны. «Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед, – подтверждал Молотов. – Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают… Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули».
Советский Союз помышлял не столько об экспансии, сколько о создании таких геополитических условий, которые бы исключили возможность повторения кошмара Великой Отечественной, создали пояс невраждебных государств по периметру своих границ, дали бы СССР союзников в мире, где уже не первый век доминировали чаще всего враждебные нам западные державы. Позволили бы мирно развиваться.
Достигнутые на Ялтинской конференции договоренности, по сути, закрепляли за СССР его зону интересов в том виде, как они были обозначены в секретном протоколе к договору о ненападении с Германией 1939 года, и зона эта почти совпадала с границами Российской империи – без Польши и Финляндии. Кроме того, СССР присоединил часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом (ныне Калининградом). Присутствие частей Красной армии в большинстве стран Восточной Европы, а также в Восточной Германии и в Австрии, служило для советского руководства дополнительным средством обеспечения влияния.
Думали ли в Кремле о продвижении коммунистической идеи? Конечно, как на Западе думали о продвижении антикоммунистической идеи. Вскоре во всем западном мире компартии и сторонники сотрудничества с СССР окажутся под большой угрозой.
Но нельзя не признать: Москва вела себя весьма осторожно, поначалу даже не приступая к советизации тех стран, которые освобождала, – это будет позднее. В отношении занятых советскими войсками стран Восточной Европы стратегия Москвы заключалась в том, чтобы иметь там правительства «независимые, но не враждебные». Планов советизации этих государств изначально не существовало. Классовые цели компартии отодвигались на задний план.
Один из руководителей советской внешней разведки Павел Судоплатов подтверждал: «Берия и Голиков вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии. Социалистический выбор как реальность для нас в странах Европы был более или менее ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что Тито как руководитель государства и компартии опирался на реальную военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем мы сходились на том, что наше военное присутствие и симпатии к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами».
Своей важной задачей Москва на том этапе видела поддержку и обеспечение участия во властных структурах тех сил, которые так или иначе ориентировались на СССР. В первую очередь речь шла, конечно, о главном «классовом» союзнике – коммунистах, которые во всех странах Восточной Европы (кроме Чехословакии до фактического поглощения ее Германией) до войны действовали нелегально. Курс на достижение компромиссов и формирование коалиционных блоков с некоммунистическими партиями в реальной политической практике сочетались с открытым использованием силовых приемов для нейтрализации или подавления тех сил, которые отвергали сотрудничество с коммунистами и/или занимали открыто антисоветские позиции. Имело место совмещение насильственного «натягивания советского пиджака» на освобожденные страны с безусловным ростом социалистических настроений и социальной базы для режимов «народной демократии».
И советизацию вовсе даже не начинали проводить в ряде государств, которые были заняты Красной армией, но где для этого не просматривалось предпосылок – в Финляндии, Норвегии или Австрии.
Опыт сотрудничества с западными странами воспринимался в Кремле как неоднозначный. На одной чаше весов лежали политическое и военное взаимодействие в годы войны, союзнические конференции, совместные усилия по созданию ООН, ленд-лиз. На другой – традиционное взаимное недоверие, очевидное стремление союзников переложить именно на СССР в годы войны основные тяготы боевых действий, их нежелание учитывать советские интересы в Восточной Европе. Существовал и культурно-цивилизационный разрыв, связанный с комплексом англо-американской исключительности и превосходства, убеждение в цивилизаторской миссии англоязычных народов по отношению к остальному миру, включая «полуварварскую» Россию.
Ясно, что в Кремле вовсе не были очарованы западными союзниками и не могли полностью доверять их слову. Переписка Сталина с западными коллегами становилась все более сухой и сугубо официальной, он все реже вмешивался в подготавливаемые Молотовым тексты.
Вместе с тем в Кремле были настроены на продолжение партнерства с Западом после войны. «Нам было выгодно, чтобы у нас сохранялся союз с Америкой, – подтверждал Молотов. – Это важно было». Громыко свидетельствовал: «У советского руководства и лично у Сталина оставалось твердое намерение продолжать сотрудничество с западными державами – союзницами по антигитлеровской коалиции, включая и Англию».
К этому подталкивал хотя бы чистый прагматизм. Во-первых, такое партнерство представлялось реальным способом предотвратить возрождение германской и японской угрозы. Во-вторых, оно создавало институциональные рамки для легитимации новых советских границ и зон влияния. В-третьих, США рассматривались как возможно единственный внешний источник экономической и финансовой помощи, в которой так остро нуждалась разрушенная страна. И которой мы так и не дождались. Наконец, партнерство с лидерами Запада обеспечивало признание Советского Союза, до войны – изгоя в мировой системе, в качестве вновь возникшей великой державы.
«Послевоенной целью Сталина, безусловно, являлось обеспечение для России безопасности в интересах восстановления страны – и это означало необходимость обеспечения периода экономической стабильности, что, в свою очередь, означало необходимость обеспечения дружественного отношения со стороны Америки», – пишет американский историк Сюзан Батлер.
Советский Союз активно готовился к войне с Японией и не вынашивал никаких агрессивных планов в Европе. Разрушенной, разоренной, опустошенной стране не было ни малейшего смысла ввязываться в военные авантюры против союзников.
Через несколько дней после Дня Победы, как сообщал Штеменко, Сталин вызвал руководство Генштаба и приказал продумать и доложить соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией.
– Нужно подготовить и провести особый парад, – сказал он. – Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск. Хорошо бы также, по русскому обычаю, отметить победу за столом, устроить в Кремле торжественный обед. Пригласим на него командующих войсками фронтов и других военных по предложению Генштаба. Обед не будем откладывать и сделаем его до парада.
На другой день в Генштабе закипела работа. Были созданы две группы: одна вместе с Главным политическим управлением готовила списки лиц, приглашаемых на торжественный обед, а другая всецело занялась парадом.
Программу парада подготовили оперативно. Генштаб просил два месяца на его подготовку. Главная причина такой задержки – полное отсутствие парадной формы у потенциальных участников парада. Не до нее было четыре года. И те же четыре года не было и строевой подготовки. «Как мы ни прикидывали, получилось, что на подготовку парада нужно не менее двух месяцев, – писал Штеменко. – Срок этот диктовался главным образом необходимостью пошить более 10 тысяч комплектов парадного обмундирования. Ведь на фронтах, да и в тылу о нем и думать забыли. Ни у кого такого обмундирования, конечно, не сохранилось. Следовало также, хотя бы немного, потренировать людей в хождении строем. Этим тоже не занимались четыре долгих года».
«24 мая, как раз в день торжественного обеда, мы доложили все это Сталину, – продолжал Штеменко. – Наши предложения он принял, но со сроками подготовки не согласился.
– Парад провести ровно через месяц – двадцать четвертого июня, – распорядился Верховный и дальше продолжил примерно так:
– Война еще не кончилась, а Генштаб уже на мирный лад перестроился. Потрудитесь управиться в указанное время. И вот что еще – на парад надо вынести гитлеровские знамена и с позором повергнуть их к ногам победителей. Подумайте, как это сделать… А кто будет командовать парадом и принимать его?
Мы промолчали, зная наверняка, что он уже решил этот вопрос и спрашивает нас так, для проформы. К тому времени мы уже до тонкостей изучили порядки в Ставке и редко ошибались в своих предположениях. Не ошиблись и на сей раз. После паузы Верховный объявил:
– Принимать парад будет Жуков, а командовать – Рокоссовский».
Днем 24 мая состоялось вручение маршалам Коневу, Малиновскому, Толбухину, Рокоссовскому орденов «Победа», а Георгию Константиновичу Жукову второго ордена «Победа».
Ну а потом был государственный прием.
Авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев рассказывал: «Сплошной вереницей проезжали под аркой Боровицких ворот машины с приглашенными на правительственный прием. Мне часто приходилось бывать в Кремле, но на этот раз я ехал туда как будто впервые. Последний прием был здесь как раз перед войной – 2 мая 1941 года. И вот мы вновь, после четырехлетнего перерыва, собрались – в парадной форме, счастливые, гордые нашей победой».
Полный состав участников приема восстановить не удалось. «Это кажется немыслимым, но на сегодняшний день мы даже не имеем полного списка приглашенных, – утверждает Сергей Девятов, профессиональный историк, много лет проработавший в ФСО и облазивший там все архивы. – Известно, что позвали на прием всех командующих фронтами, а также особо отличившихся военачальников в ранге генералов. Плюс высшее партийное руководство. По моим подсчетам, всего было человек триста. Кого-то на прием звал лично Сталин. Приглашения печатались только для членов Государственного комитета обороны, но ни одно из них не сохранилось. Остальные проходили просто по спискам, которые тоже… не сохранились. Это какая-то мистика!»
Прием состоялся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Даже трудно себе представить тот дух, который витал в прославленном зале, где впервые собрались командиры Великой Победы.
Столов было много, местами они стояли почти вплотную друг к другу. Гости расселись на красных креслах и на стульях в белых чехлах, которые по случаю приема принесли изо всех залов Большого Кремлевского дворца. Начала торжества с волнением ждали и полководцы, и артисты.
«В Георгиевском зале накрыты столы, украшенные цветами, – заметил Яковлев. – Ровно в восемь вечера в зале появились руководители партии и правительства. Как взрыв, потрясли своды древнего Кремлевского дворца оглушительные овации и крики „ура!“. Они, кажется, длились бы бесконечно». За столом президиума разместились Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов, Хрущев, Каганович, Андреев, Микоян, Шверник, Берия, Маленков, Булганин и Вознесенский. «Когда постепенно зал утих, Маршалы Советского Союза были приглашены за стол президиума. Они поднялись со своих мест в разных концах зала и один за другим под аплодисменты прошли к столу, за которым сидели руководители партии и государства. Все с восхищением смотрели на полководцев».
Вечер открыл и продолжал вести Молотов. Он традиционно был тамадой на довоенных застольях и на всех приемах в ходе союзнических конференций военных лет. За главный стол Молотов пригласил маршалов Жукова, Конева, Буденного, Тимошенко, Рокоссовского, Малиновского, Толбухина, Говорова, адмирала флота Кузнецова, главного маршала артиллерии Воронова, главного маршала авиации Новикова.
Фотографий и звукозаписи не было, но велась стенограмма. Она была сильно обработана для газетной публикации, в первую очередь Молотовым, а затем и самим Сталиным. Но сохранился и оригинал стенограммы. И не запрещалось рисовать. Наиболее известной стала картина «За великий русский народ!» кисти заслуженного деятеля искусств УССР Михаила Ивановича Хмелько, за которую он в 1948 году получит Сталинскую премию 2-й степени.
Отмечали интенсивно. Стенографическая запись зафиксировала 31 тост (из них пять принадлежали Верховному Главнокомандующему), в которых речь шла о 45 человеках. В газетном отчете осталось 28 здравиц (из них только две – сталинские) с упоминанием 31 человека.
«Раздался звонок председательствовавшего В. М. Молотова, – запомнил Яковлев, – и в наступившей на какой-то миг тишине он провозгласил тост».
– Первый тост я предлагаю в честь бойцов и командиров, красноармейцев и краснофлотцев, офицеров, генералов и славных маршалов, но прежде всего в честь того, кто руководил всей борьбой советского народа и привел к Великой победе, невиданной в истории, – любимого вождя товарища Сталина.
Второй бокал Молотов поднял «за великую партию Ленина – Сталина» и за ее штаб – Центральный комитет.
Затем тамада переключил внимание на гостей из Польши. За четыре дня до этого в Москву прибыл эшелон с углем – подарок от польских горняков. Его доставила делегация, возглавляемая председателем профсоюза польских горняков Щесняком. Молотов предложил выпить «за демократическую, дружественную Советскому Союзу Польшу», выразив надежду, что советско-польская дружба станет примером и для других славянских народов. Члены польской делегации – «в живописных костюмах» (Штеменко) – подошли к столу президиума и хором спели какую-то польскую заздравную песню.
Сталин выслушал и произнес (в газетном отчете этого нет):
– За настоящую рабочую дружбу, которая сильнее всякой другой дружбы! За горняков наших и ваших!
Далее Молотов заметил, что среди участников торжества не было Михаила Ивановича Калинина, «который должен теперь особенно заботиться о своем здоровье». «Всесоюзный староста», который приближался к своему 70-летию, был действительно серьезно болен. В конце апреля Политбюро предоставило ему отпуск для лечения, и он отбыл отдыхать на юг.
– Предлагаю выпить за здоровье одного из славных представителей русского народа, старейшего члена Центрального комитета большевистской партии, Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Здесь Сталин позволил себе вновь вмешаться:
– За нашего Президента, за Михаила Ивановича Калинина!
Не успели сесть, как слово взял Сталин: