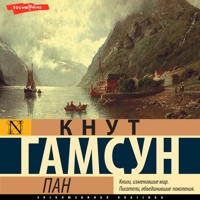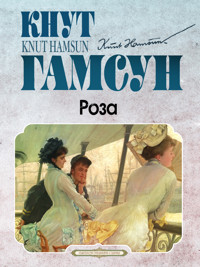
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Союз
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Прекрасная Роза - дочь пастора из соседней деревни, после неудачного замужества приезжает в небольшой рыбацкий поселок Сирилунн где встречает своего бывшего возлюбленного- Бенони Хартвингсена. Розе кажется, что она все-еще испытывает чувства к Бенони и он, похоже, отвечает ей взаимность. Но тут в деревушке появляется несчастная и разочарованная в жизни дочь торговца Фердинанда Мака – баронесса Эдварда…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Аннотация
Прекрасная Роза — дочь пастора из соседней деревни, после неудачного замужества приезжает в небольшой рыбацкий поселок Сирилунн где встречает своего бывшего возлюбленного — Бенони Хартвингсена. Розе кажется, что она всё еще испытывает чувства к Бенони и он, похоже, отвечает ей взаимность. Но тут в деревушке появляется несчастная и разочарованная в жизни дочь торговца Фердинанда Мака — баронесса Эдварда…
Knut Hamsun«Rosa. Af student Pærelius’ Papirer»
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
W W W . S O Y U Z . RU
Кнут Гамсун РОЗАПовесть
I
Зимой 18** года я пустился на Лофотены[1] с одной рыбачьей шхуной из Олезунда[2]. Мы шли почти четыре недели, я высадился в Скровене и стал ждать попутного судна, чтоб двинуться дальше. Одна шхуна отправлялась на Пасху домой в Сальтенланн, и хоть я не попадал точно на место назначения, я поехал с этими рыбаками. Дело в том, что у меня был друг-приятель в тех краях, и звали его Мункен Вендт; мы с ним уговорились странствовать вместе. С тех пор прошло пятнадцать лет — целая вечность.
В среду на Святой шестнадцатого апреля прибыл я в торговый городок Сирилунн. Здесь жил купец Мак, важный господин. Жил тут с ним рядом и добрый человек Бенони Хартвигсен, он был богатый и всем помогал. Эти двое, можно сказать, были хозяева Сирилунна, всех здешних судов и промыслов. «Идите к Маку, идите к Хартвигсену, к кому ваша милость изволит», — сказали мне мои рыбаки.
Я подошёл к господской усадьбе, огляделся и решил пройти мимо — уж слишком богато и пышно жил старый Мак. Зато в полдень я явился к Бенони Хартвигсену и представился. Я был не очень важная птица, всего имущества со мною было моё ружьё да кой-какая одежонка в заплечном мешке, а потому я попросил, чтобы меня до поры приютили в людской.
— Это можно, — сказал Хартвигсен. — Вы откуда будете?
— С юга. Отправляюсь в Утвер и Ос. Имя моё Парелиус, я студент. Вдобавок я умею рисовать и писать красками, может, вам это пригодится.
— Вы, стало быть, человек учёный, как я погляжу.
— Да. И я не какой-нибудь бродяга. Я условился встретиться с другом в этих краях. Он тоже учёный, и мы с ним охотники оба. Хотим вместе постранствовать.
— Присаживайтесь, — сказал тут Хартвигсен и придвинул мне стул.
Среди прочей мебели в комнате было фортепьяно, но я удержался, я не стал к нему подходить. Я, наоборот, объяснил Хартвигсену всё, о чём он меня спрашивал, и он накормил меня и напоил. Он был очень со мною любезен и решил поместить меня в доме, а не отправлять в людскую.
— Оставайтесь-ка у меня, вы мне пригодитесь, — сказал он. — Вы супругу имеете? — спросил он и улыбнулся.
— Нет. Мне всего-то двадцать два года. Я ещё расту.
— И вы даже ни в кого не влюблённый?
— Нет.
Потом Хартвигсен сказал:
— Раз вы такой учёный, вы, верно, можете нарисовать мой дом и сарай, иначе сказать — все мои постройки, написать с них картины?
Я улыбнулся и подивился его странным словам: я же только что ему объяснил, что умею рисовать и писать красками.
— У меня в доме столько всякой всячины, — сказал он, — а вокруг дома летают мои голуби, и всему, что вы видите тут, я хозяин. А вот картин у меня нету, — сказал он, — чего нету, того нету.
На это я ему отвечал, что не пожалею трудов и изображу всё, что он пожелает.
Хартвигсен пошёл на пристань, предоставив меня самому себе, а мне и хотелось побыть одному. Двери все были открыты, я ходил куда вздумается, и я долго сидел в лодочном сарае, вознося хвалу Господу за то, что сподобил меня добраться до таких дальних краев и встречать до сих пор только добрых людей.
Праздники прошли, и я принялся рисовать и писать красками дом и сарай Хартвигсена. Мне кое-что понадобилось для моей работы, я пошёл в лавку и там впервые увидел купца Мака, важного господина. Был он уже в годах, но крепкий, бодрый и держался надменно и важно. На рубашке — дорогая бриллиантовая булавка, часовая цепочка вся увешана золотыми брелоками. Услыхав, что я не какой-то бродяга, а совершенно напротив — решивший постранствовать студент, он сменил свой спесивый тон на отменную учтивость.
Я рисовал, а Хартвигсен не мог нарадоваться на мою работу, всё восхищался, что дома у меня выходят похоже. Я послал моему другу Мункену Вендту письмо, извещая его, что к нему направляюсь, но задержусь у добрых людей.
— Напишите, что раньше как осенью до него не доберётесь, — сказал мне Хартвигсен. — Летом мне постоянно в вас будет нужда. Вот вернутся суда с Лофотенов, и надо их тоже нарисовать, а уж «Фунтус» особенно — я на нём ходил в Берген[3].
И ничего тут нет удивительного, что я задержался в Сирилунне. Сюда то и дело заглядывал кто-то, и редко кто сразу двигался дальше. Недели через две после меня явился Крючочник. Этот всем и каждому понаделал крюков, но не уехал, а тоже остался. Он решительно ни на какое дело не был годен, кроме как гнуть крюки. Но вдобавок он очень ловко подражал голосам зверей и птиц. Будто какую-то машинку он прятал во рту и мог заливаться, как целый лесной птичий хор, а вы и понятия не имели, откуда идут эти звуки. Просто непостижимо. Даже сам господин Мак останавливался у себя во дворе послушать Крючочника, когда тот шёл мимо. В конце концов Мак пристроил его к работе на мельнице, чтобы всегда иметь под рукой, и Крючочник стал местной достопримечательностью.
II
Я уже довольно долго жил у Хартвигсена, и вот как-то на пути в лавку я встретил Мака в обществе незнакомой дамы. На ней был песцовый жакет, но нараспашку, потому что дело шло уже к маю. Я отвык от общества молодых дам, и, кланяясь, глядя в её милое лицо, я думал: «Храни её Господь». Она, верно, была несколькими годами меня старше, высокая, русоволосая, с тёмно-пунцовым ртом. Она глянула на меня совершенно как сестра — ясным, невинным взглядом.
Я всё думал о ней по дороге домой и рассказал о своей встрече Хартвигсену. Он сказал:
— Это Роза была. Красивая?
— Да.
— Это Роза. Опять, значит, пожаловала.
Я не хотел выказывать любопытство, я только сказал:
— Да, она красивая. И непохожа на здешнюю.
Хартвигсен ответил:
— Она и не здешняя. Она из соседнего прихода. Гостит у Мака.
Старуха служанка Хартвигсена мне потом ещё кое-что поведала насчёт Розы: она дочка пастора из соседнего прихода, вышла было замуж, да вот опять одна, муж на юг уехал. Роза одно время и с Хартвигсеном, можно сказать, обручилась, уж всё готово было к свадьбе, а она возьми и выйди за другого. Все диву давались.
Я заметил, что Хартвигсен в последние дни стал одеваться тщательнее и держал себя тонким господином.
— Роза, я слыхал, приехала? — мимоходом спросил он у служанки.
Мы вместе отправились в Сирилунн. Дел у нас никаких на сей раз у обоих там не было. Хартвигсен сказал:
— Не надо ль вам чего в лавке?
— Нет. Или разве гвоздей, штифтов…
Той, ради кого мы пришли, в лавке не оказалось. Мне дали гвоздей, и Хартвигсен спросил:
— Вам гвозди нужны для картин?
— Да, для подрамников.
— Для подрамников, может, ещё чего нужно? Вы не спешите, подумайте.
И я понял, что он это сказал потому, что хотел протянуть время.
Я спросил ещё каких-то мелочей, а Хартвигсен стоял и ждал и всё поглядывал на дверь. В конце концов он меня оставил и вошёл в контору. Он был компаньоном господина Мака, вдобавок богач, вот он и открыл дверь конторы не постучавшись, о чём, конечно, никто кроме него и помыслить не мог.
Я стоял и ждал у прилавка, и тут вошла та, ради кого мы явились. Верно, она видела, как Хартвигсен входил в лавку, и хотела встретиться с ним. Она с порога глянула мне прямо в лицо, и меня кинуло в жар, а она сразу зашла за прилавок и принялась что-то искать на полках. Она была высокая, статная, руки её так нежно перебирали товар. Я не мог отвести взгляд. Она была как молодая мать.
Поскорей бы этот Хартвигсен вышел из конторы, подумал я. И он как раз вышел. Он поздоровался с Розой, и она ответила. Никакой неловкости я в них не замечал, хоть они и были когда-то помолвлены, ах, как спокойно протянул он ей руку, и она не зарделась, она не выказала никакого смущения при виде него.
— Снова в наши края? — спросил он.
— Да, — сказала она.
Отвернулась к полкам и продолжала что-то искать. Наступила пауза. Потом она сказала, не глядя на него:
— Я не для себя роюсь в вашем товаре, это я для дома.
— Чего это вы, право!
— Да-да, я стою тут за прилавком, как в былые времена. Но не бойтесь, я ничего не украду.
— И не совестно? — сказал он, разобидясь.
Я подумал: на месте Хартвигсена я бы не стоял тут ни минуты. А он всё стоял. Значит, что-то теплилось у него в душе, раз он сразу не бросился вон. И почему бы ему самому не зайти за прилавок, не предложить ей найти, что ей нужно? Ведь он тут хозяин? А он стоит вместе со мной у прилавка, как покупатель. А ведь Стен и Мартин, приказчики, рта при нём не смеют открыть, так несметно он богат, и он же хозяин!
— Это со мной заезжий студент, — сказал Хартвигсен Розе. — Вот спрашивает всё, не придёте ли вы как-нибудь поиграть на нашей музыке. Она ведь так у меня и стоит, музыка эта.
— Я стесняюсь играть при посторонних, — сказала она и покачала головой.
Хартвигсен помолчал, потом сказал:
— Что ж, это я только так спросил. Ну как вы? — он повернулся ко мне. — Готовы?
— Да, я готов.
— Я, по правде, на таких не умею играть, — вдруг сказала Роза. — Но если вы… Не зайти ли нам в комнаты?..
Мы все трое вошли в комнаты Мака. Тут стояло новое дорогое фортепьяно, и Роза на нём сыграла. Она очень старалась, верно, хотела загладить свою резкость. Кончила играть и сказала:
— Вот и всё, больше я ничего не умею.
Хартвигсен сидел и сидел, он и не собирался уходить.
Вошёл Мак, он был удивлён неожиданностью и принимал нас с отменной учтивостью. Нам поднесли выпивку и печенья. Он водил меня по гостиной и показывал мне картины и прелестные гравюры. Хартвигсен с Розой меж тем беседовали вдвоём. Они говорили о чём-то, о чём я не знал прежде, о ребёнке, девочке по имени Марта, о дочке Стена-Приказчика. Хартвигсен хотел бы взять её к себе, если Розе эта мысль придётся по нраву.
— Нет, мне эта мысль не по нраву, — ответила Роза.
— Ты бы подумала хорошенько, — вдруг сказал Мак. Тут Роза заплакала и сказала:
— И что я вам сделала?
Хартвигсен огорчился, он стал её утешать:
— Вы научили ребёнка книксен делать. У меня и в мыслях ничего иного не было. Думаю, дай возьму её к себе, раз уж вы её обучили тонким манерам. И зачем плакать?
— Ну, Господь с вами, берите её. Только я переехать к вам не могу, — выпалила Роза.
Хартвигсен долго думал, потом сказал:
— Я не могу взять ребёнка без вас.
— Уж разумеется, — сказал Мак.
И Роза махнула рукой и вышла из комнаты.
III
Рыбаки возвращались уже с Лофотенов, на больших судах и на шхунах, над бухтой гудели песни, крики, сверкало солнце — пришла весна. Несколько дней Хартвигсен ходил угрюмый, сам не свой, но возвращались суда с рыбой, кипела работа, и он повеселел. Розы я не видел.
Я свёл знакомство с удивительным человеком — смотрителем маяка. Звали его Шёнинг, прежде он был капитаном. Я наткнулся на него как-то вечером, когда бродил среди скал, глядя на морских птиц, он сидел на камне без всякого дела. Я шёл в его сторону, и он неотрывно смотрел на меня, ведь я был чужой, и я тоже смотрел на него.
— Вы что тут делаете? — спросил он.
— Хожу и гляжу на птиц, — ответил я. — Это разве запрещено?
Он не ответил, и я прошёл мимо. Я нагулялся и шёл обратно, а он всё сидел на том же камне.
— Когда птицы сидят на яйцах, их не следует тревожить, — сказал он. — И чего вы тут ходите?
Я спросил в ответ:
— А чего вы тут сидите?
— Ах, милый юноша! — отвечал он и поднял ладонь лопаткой. — Чего я тут сижу? Я тут сижу, чтобы не отстать от своей судьбы. Вот так-то.
Верно, я улыбнулся, потому что он улыбнулся в ответ бледной, жалостной улыбкой и продолжал:
— Я сегодня сказал сам себе: дай-ка я погляжу, как ты играешь роль в комедии собственной жизни. Ладно, отвечал я сам себе. И вот я тут сижу.
Всё это было до того странно, а ведь я ещё не знал смотрителя маяка, и я решил, что он шутит.
— Вы, что ли, живёте у Бенони Хартвигсена? — спросил он.
— Да.
— Только не кланяйтесь ему от меня.
— Вы на него сердитесь?
— Да. Вот эти несметные богатства у нас с вами под ногами принадлежали когда-то ему. Вы топчете сейчас серебро ценой в миллион, и оно принадлежало ему. А он всё продал и остался ничтожеством.
— Разве Хартвигсен не богач?
— Нет. Приоденься он поприличней, и денег у него останется разве на кашу.
— Уж не вы ли обнаружили этот клад и отказались его купить за бесценок? — спросил я.
— На что мне клад? — ответил смотритель. — Две мои дочки благополучно пристроены замуж, сын мой Эйнар скоро умрёт. А нам со старухой в день по два обеда не съесть. Вы меня небось за дурака считаете?
— Нет, вы, кажется, такой умный, что мне и не понять.
— Совершенно справедливо! — сказал смотритель. — И вдобавок: с жизнью надобно обращаться как с женщиной. Разве не следует перед ней преклоняться, разве не следует ей потакать? Уступай жизни, уступай, дай ей тебя одолеть, а клад — пусть его в земле лежит.
В бухту вошёл почтовый пароход, я видел, что на пристани толпится народ, и над Сирилунном и над пристанью подняли флаги. Немецкий оркестр играл на борту, горели на солнце медные трубы. Я видел в толпе Мака и его экономку, Хартвигсена и Розу, но они никому не махали, и никто им не махал с парохода.
— Ради кого это подняли флаги? — спросил я у смотрителя маяка.
— Ради вас, ради меня, почём я знаю? — ответил он скучным голосом. Но я-то видел, как глаза у него расширились, как у него раздувались ноздри от музыки, от сверкания труб.
Я ушёл, а он всё сидел на месте со своими мыслями. Ему, конечно, надоели мои вопросы и я сам надоел, но Боже ты мой, как же он позволил жизни себя одолеть, думал я. Я несколько раз оглянулся, он сидел без движения, сутулый, в серой куртке, в мятой, обвислой шляпе.
Я спустился к пристани и там узнал, что встречают дочь Мака Эдварду. Она была замужем за финским бароном, зимой овдовела, у неё двое детей.
Вот Роза принялась махать платочком, и ей с парохода ответила дама. Мак махать не стал. Зато он крикнул лодочникам: «Смотрите у меня, чтоб доставить баронессу с детьми в целости и сохранности!».
Я стоял и думал, как это странно, что Роза была помолвлена с Хартвигсеном, а взяла и вышла за другого. Хартвигсен крепкий, крупный, лицо у него приятное, умное, к тому же он богач и готов помочь всякому, стало быть, у него доброе сердце, — так чем же он ей не угодил? Правда, виски у него седые, но волосы лежат густой шапкой, и в улыбке он обнажает крупные желтые зубы — сплошные, без изъяна. Значит, Розе не понравилось что-то ещё, о чём не догадаться со стороны?
Баронесса сошла на берег со своими двумя девочками. Высокая, тонкая, под густой вуалью. Здороваясь с отцом, она не открыла лица, так они и целовались через вуаль, и оба не выказывали ни малейших признаков радости, но когда баронесса заговорила с Розой, она повеселела, и голос у неё был бархатный и нежный.
Вот ещё одного незнакомого господина доставили в лодке с парохода. Когда он ступил на берег, ясно стало, что он пьян мертвецки и ничего не различает перед собой. И Мак и Хартвигсен ему поклонились, а он едва кивнул в ответ, даже не прикоснувшись к шляпе. Мне объяснили, что он англичанин, сэр Хью Тревильян, он каждый год приезжает ловить лосося в соседнем приходе. Это тот самый господин, который за большие деньги купил у Хартвигсена серебряные горы. Он нанял носильщика и ушёл с пристани.
Я стоял в сторонке — я был здесь чужой и никому не желал навязываться. Но вот Мак со своими присными двинулся к усадьбе, и я тоже поплёлся следом. Когда Хартвигсен собрался свернуть к себе, баронесса на несколько секунд его задержала. Тут наконец-то она сняла перчатку и мне тоже протянула руку — длинную, тонкую руку, — и как же нежно было пожатье этой руки.
Потом, уже поздно вечером, две баронессины дочки стояли на отмели. Стояли, согнувшись, обняв коленки, и что-то внимательно разглядывали на песке. Смышлёные, здоровые девочки, они были до того близоруки, что, не согнувшись в три погибели, ничего не видели у себя под ногами. Разглядывали они мёртвую морскую звезду, и я им кое-что рассказал об этих редких созданьях, которых они прежде не видывали. Я отправился с ними вдоль скал, объяснял, как называются разные птицы, и показывал им взморник и ламинарии. Всё это для них было внове.
IV
Я, собственно, уже разделался со своей работой, но Хартвигсен не желает меня отпускать. Ему веселей, когда я под боком, — так он говорит. Картина моя совершенно ему по вкусу — дом, сарай, голубятня, всё на месте, — но когда настанет лето, Хартвигсен хочет, чтобы я изобразил зелёный фон — тот общинный лес, что далеко, у самых гор, тает в лиловой дымке. А соответственно мне придётся менять прохладный тон воздуха, да и самый цвет дома придётся менять. «А покамест вы шхуной займитесь», — сказал мне Хартвигсен.
Я плыву к «Фунтусу». Яркий день, все суда стоят на якорях; промывают треску, и вот она постепенно заполняет сушильни. Приезжий англичанин сэр Хью Тревильян стоит на берегу, опираясь на удилище, и следит за промывкой. Мне рассказали, что в точности так же простоял он прошлой весной два дня напролёт. Он и взгляда не кинет ни на кого в людской толчее, он только смотрит, как промывают рыбу. То и дело он у всех на глазах вытаскивает из сумки флягу и от души к ней прикладывается. И снова неотрывно глядит на промывку.
Я сижу в своей лодке и карандашом набрасываю «Фунтус» и большие под разгрузкой баркасы. Я люблю эту работу, рисунки мне удаются, и я счастлив. Утром я заходил в лавку и вынес оттуда одно редкостное, тайное впечатление, которое долго потом согревало меня. Роза, конечно, всё сразу забыла, а я вот помню: я отворил и придержал для неё дверь, она оглянулась и поблагодарила меня, вот и всё.
Вот и всё. И с тех пор прошла целая вечность.
Глубокая, синяя лежит бухта, она совершенно недвижна, но всякий раз, как со шхуны сбрасывают отяжелевшие солёные тушки, баркасы чуть-чуть оседают в воде, посылая вокруг тонкую рябь. Нарисовать бы эту рябь и летучие тени, которые бросают на воду птицы. Они — как тень вздоха, как след дуновенья на бархате. Вот в глубине бухты взлетает гагара и, чуть не касаясь крылом воды, мимо всех островов несётся в открытое море. И прошивает синеву дрожащей строкой — ч-ч-ч, — и эта длинная напряжённая её шея наводит на мысль о железе, о бронебойном снаряде. Улетает гагара, и из той же самой точки, где исчезла она, выныривает дельфин и будто делает сальто на бархате. До чего хорошо!
Баронессины дочки стоят на отмели и зовут меня, я гребу к берегу и сажаю их в лодку. Они меня не могли разглядеть, но от кого-то услышали, что я в бухте, и стали выкликать моё имя, ведь я им представился. Они близоруко разглядывают мой рисунок, и старшая сообщает, что умеет хорошо рисовать города. Младшую, пятилетнюю, клонит в сон от качания лодки, я расстилаю свою куртку на корме и тихонько напеваю, пока она засыпает. У меня у самого была когда-то сестрёнка.
И мы болтаем со старшей, она то и дело вставляет шведские слова, она прекрасно говорит по-шведски, когда захочет, но чаще пользуется языком своей матери. Она рассказывает, что всякий раз утром на Пасху мама ей даёт поглядеть через шёлковый жёлтый платок на солнце — как оно пляшет от радости, что Христос воскрес. «А тут у вас солнце тоже пляшет?».
Младшая спит.
Проходит немало времени, и вот я гребу к берегу. Старшая будит сестрёнку: «Проснись же, Тонна!». Тонна наконец просыпается и долго лежит, не в силах сообразить, где она. Потом начинает капризничать и дуться на сестру за то, что та подняла её на смех, потом вдруг вскакивает в лодке, и я с трудом усаживаю её. Наконец-то я могу завладеть своей курткой. На отмели стоит баронесса и нам кричит. Тонна и Алина наперебой ей рассказывают о своих впечатлениях. Но Тонна и слушать не хочет про то, как она спала в лодке.
Роза тоже стоит на отмели. Немного погодя приходит Хартвигсен, он направляется к сушильням. Много нас собралось на крошечном пятачке. Баронесса меня благодарит за то, что я рассказал детям о морской звезде и птицах, потом сразу поворачивается к Хартвигсену и всё время разговаривает с ним. Роза молча стоит и слушает. Потом, из вежливости, она высказывает желание поглядеть на мой рисунок. Она разглядывает его, а я замечаю, что она всё прислушивается к тому, что говорят Хартвигсен и баронесса.
— Здесь столько перемен, — говорит баронесса. — А ведь я когда-то была в вас влюблена, Хартвигсен, — говорит она. — Это я-то, в моём более чем зрелом возрасте, с моими многочисленными дочерьми, — говорит она.
На ней белое платье, она в нём кажется ещё выше и тоньше, и она выгибает стан, поворачиваясь вправо и влево, не меняя положения ног. Лицо её нельзя назвать красивым, оно маленькое, смуглое, и над верхней губой пробивается тень. Но у неё изящная форма головы. Она сняла шляпу.
— С вашими многочисленными дочерьми! — смеётся Хартвигсен. — Да их у вас и всех-то две.
— И то много, — говорит она.
Хартвигсен добродушен и не отличается сообразительностью, он повторяет:
— Их у вас и всех-то две. Покамест. Ха-ха-ха. А уж там как Бог пошлёт.
Баронесса смеётся:
— У вас на мой счёт самые радужные упования, как я погляжу.
Роза морщит лоб, и, чтобы что-то сказать, я её спрашиваю:
— Мне не хочется раскрашивать рисунок, я не силён в живописи. Не лучше ли оставить его как есть?
— И мне, вообразите, тоже так кажется, — отвечает она рассеянно и снова слушает баронессу.
А я уже рассказал, что говорила баронесса. Ах, но она же говорила и много всякой милой всячины, я, верно, клевещу на неё, я вырываю отдельные слова из её речи. И она выглядела такой жалкой, так сконфуженно улыбалась, если сгоряча, не подумавши, ей случалось сморозить глупость. Ей было нехорошо, да и сама она, верно, не была хорошей, но она была несчастна. Такая гибкая, и так она смыкала ладони и выгибала руки над головой, и стояла, и болтала, и глядела на человека из-под свода этих своих сомкнутых рук. Очень красиво.
V
Хартвигсена пригласили в Сирилунн на приём в честь баронессы и просили в записке, чтобы он захватил и меня. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что у меня нет подобающей для приёма одежды, и предпочёл отказаться, правда, Хартвигсен считал, что в моей одежде вполне можно идти, но уж в этом-то я разбирался лучше него, кой-чему меня дома как-никак научили.
Сам Хартвигсен в честь баронессы решил одеться сверхизысканно. Когда-то, себе на свадьбу, он купил в Бергене фрак, и теперь он его обновил, но фрак ему был не к лицу. И ему вообще бы не следовало сейчас надевать этот фрак, возможно, памятный Розе. Но он, по-видимому, об этом решительно не задумывался.
Он и мне предлагал разные свои наряды, но все они были мне велики, он был плотнее меня и выше. Тогда Хартвигсен посоветовал мне надеть его куртку поверх моей собственной: «Так небось корпулентней будете», — сказал он. Потом уж узнал я, что в здешних краях принято в знак парада надевать по две куртки и даже в летнюю пору красоваться в таком виде.
Хартвигсен ушёл, а я побродил по отмели и вернулся домой, мне хотелось побыть одному. Время шло, я почитал немного, почистил ружьё, и вдруг в дверь стучат и входит Роза.
За всё время моего пребывания здесь она ни разу не приходила, и я встал ей навстречу в некотором недоумении. Ей поручили доставить меня в Сирилунн. Раз уж она взяла на себя такой труд, мне неловко было отказываться. Я извинился за свой костюм, а сам вышел, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Роза прямо с порога стала озираться, смотреть, как что стоит у Хартвигсена, как он устроился, — я сразу заметил. Когда я вернулся, я застал её за тем, что она что-то перебирала в буфете.
— Ах, прошу прощения, — сказала она, ужасно смутившись. — Я только хотела… Это я так…
И мы отправились в Сирилунн.
Запомнились мне на этом обеде несколько купцов из соседнего прихода, на каждом было по две куртки. На дамах тоже было много чего надето. Сидели тут и смотритель маяка с женой, и родители Розы, пастор и пасторша из соседнего прихода, тоже присутствовали на обеде, их фамилия была Барфуд. Пастор был крепкий, красивый человек, птицелов и охотник. Мы с ним поговорили о скалах, о лесе. Он пригласил меня к себе в усадьбу — почему бы мне как-нибудь не проводить Розу, когда она пойдёт домой через общинный лес, — сказал он.
Мак держал краткую речь в честь возвращения дочери под отчий кров. Иные говорят много красивых слов, и всё без толку, а речь Мака была скупая и сжатая, но весьма впечатляла. Он был человек воспитанный, говорил и делал то, что следует, ничего лишнего. Дочь сидела и смотрела напряжённым, слепым взглядом, никого не видя, — да, так смотрит на вас с земли лесное озерцо. Ей было, кажется, не по себе. И манеры у неё были самые немыслимые, будто она всё детство ела на кухне и уже не в силах избавиться от приобретённых там скверных привычек. Уж не нарочно ли она так себя вела, чтобы выказать нам пренебрежение? Мы были ей до того безразличны все. Сейчас я перечислю кой-какие её провинности — удивительные вещи, особенная, редкая невоспитанность, — и это в баронессе! Она что-то такое взяла в руку и давай полировать ногти, её сосед, пастор Барфуд, поскорей отвернулся. Она ставила локти на стол, отправляя еду в рот. Когда она пила, даже я, через весь стол, слышал, как вино у ней булькает в горле. Она нарезала всё мясо на тарелке перед тем как его есть, когда подали сыр, я заметил, что она мажет масло на хлеб всякий раз, как его откусит-откусит, и сразу намажет, где откусила, — нет, ничего подобного я у нас дома не видывал. А наевшись, она сидела, рыгала и отдувалась, будто вот-вот её вырвет. После обеда она беседовала с Хартвигсеном, и я своими ушами слышал, как она сообщила, что вспотела за едой. И даже не покраснела! Сперва я подумал: отсутствие культурного круга привело к этой преувеличенной непринуждённости. Простодушный Хартвигсен мог Бог знает чем её потчевать, ничуть не смущая её. Четыре серебряных амура стояли у колонн по четырём углам столовой. Они держали канделябры. Хартвигсен сказал со значением:
— Ангелки опять сошли на землю, как я погляжу!
— Да, — засмеялась в ответ баронесса, — мой старый папочка украсил было ими свою кровать, но светлые ангелы там оказались не к месту!
Как умела она при случае выразиться чересчур откровенно! И неужто из презрения к нам ей необходимо было прикидываться настолько уж грубой!
Я беседовал с детьми, они моё прибежище и отрада, они показывали мне рисунки и книжки, мы играли в триктрак[4]. Время от времени я вслушивался в речи купцов из рыбачьих селений, они беседовали с Маком и старались к нему подольститься. Кофе сервировали на большой веранде, к нему подали ликёр, да, ничего не пожалели. Мак со всеми был чрезвычайно любезен. Мужчин обнесли длинными трубками, жёны сидели тихо и слушали, что говорили мужья; иногда они перешёптывались.
Хартвигсен тоже взял трубку и стакан. От вина за обедом он сделался непринуждённей, ликёр и вовсе развязал ему язык. Кажется, он взялся показать этим жителям рыбачьих селений, что он чувствует себя у Мака как дома, он сам выбрал себе трубку и расхаживал по веранде, будто с детства привык к подобной обстановке. Сущий ребёнок. Он единственный явился во фраке, но ничуть этим не смущался и то и дело одёргивал фалды. Хоть он и был компаньон Мака и так несметно богат, отчего-то не ему, а Маку выказывали мелкие купцы своё почтение.
— Касаемо цен на муку и зерно, — говорил Хартвигсен, — мы же эти товары франко берём. Русскому — ему бы только сразу сбыть, чтоб поскорее деньги, а мы в любое время, круглый год товар возим.
Купец смотрит на Мака, смотрит на Хартвигсена и учтиво осведомляется:
— Но цена-то не всё круглый год одна, так в какую же пору ваша милость скорее купит товар?
Тут Мак замечает, что смотритель маяка остался в столовой, он тотчас идёт за ним, чтобы пригласить его на веранду пить кофе.
Оставшись один, Хартвигсен всё по-своему объясняет купцу:
— В такой огромной стране, как Россия, мало ли отчего меняются цены на хлеб. Припустят, к примеру, дожди. Дороги и развезёт. Крестьянину с урожаем не добраться до города. Ну, цены в Архангельске и подскочат.
— Вона как! — дивится купец.
— Так обстоит дело насчёт ячменя, — говорит Хартвигсен, ещё больше увлекаясь, — однако вышеозначенные причины так же само влияют и на рожь.
Но он уж и вовсе оживился, когда к столу подошла баронесса.
— Нам и депеши шлют. Как цена на пшеницу, зерно и всё такое прочее — вверх полезла — значит, должон не теряться и делать закупки.
Знаний у Хартвигсена не хватало, но благодушие и простота выручали его. Если рядом не было никого, кого бы он стеснялся, он всё больше и больше смелел, уже не следил за своей речью и тогда говорил, как его земляки-поморы. Главный его собеседник, столь учтиво его расспрашивавший, сказал:
— Как же, ваша милость — и всем-то нам звезда путеводная.
Но рядом теперь была баронесса, и взгляд Хартвигсена на вещи тотчас сделался шире.
— Ну, мы небось по свету поездили, поглядели, видели Берген и прочее, так что знаем свой шесток.
— Эко-ся! — говорит купец и качает головой, оценивая шутку Хартвигсена.
Баронесса тоже качает головой и говорит, глядя ему прямо в глаза:
— Нет уж, Хартвигсен, никто не сомневается в том, что вы звезда путеводная.
— Ну, если вы так считаете… — отвечает он скромно. Но чтобы не ударить перед ней лицом в грязь, он прибавляет:
— Однако должен сказать, что примерно несколько тыщ таких молодцов, как я, в Бергене найдётся.
— Эко-ся! — опять восклицает купец, совершенно потрясённый остроумием Хартвигсена.
Роза стоит в гостиной. Я подхожу к ней и обращаю её внимание на стакан красного вина, который она оставила на столе. Гостиная такая большая, и так далеко стоит этот стакан, он такой рдяный и одинокий, он будто горит на солнце.
— Да-да, — отвечает мне Роза, но мысли её далеко. Верно, она приревновала Хартвигсена к своей подруге баронессе и не в шутку задумалась о том, не переселиться ли ей в дом Хартвигсена, чтобы там управлять хозяйством. Она покружила вокруг кофейного стола на веранде и снова хотела уйти в гостиную, не находя себя покоя.
Тут Хартвигсен ей сказал со всем своим благодушием:
— Вы бы присели к нам, Роза. Вместе скоротали бы времечко за стаканчиком.
Она улыбнулась, и мне показалось, что случилось чудо, что она влюбилась в Хартвигсена. Она села за стол.
А я прошёл по веранде и вышел с веранды во двор. Во дворе тоже было на что поглядеть. Я погулял и вернулся, на столе уже стоял тодди. Мак почти не пил, Хартвигсен, кажется, пил не больше него, но оба то и дело потчевали гостей. Настроение переменилось. Один купец спросил у другого, сколько времени на его часах. Тот уклонился от ответа, и Мак сказал деликатно: «Сейчас всего три часа пополудни». Немного погодя купец снова спрашивает у приятеля: «Сколько у тебя на часах?». Тот сидит, как на горящих угольях, уже пожилой человек, он краснеет, как девица. Ну что за дети — эти северяне! Этот купец щеголял роскошной волосяной цепочкой с золотым запором, но часов в кармане у него не было. И приятель потешался над ним.
Мимо веранды проходил Крючочник, и мы услышали птичий гомон. Мак подозвал Крючочника и пригласил к столу. И вот на веранде был лес, полный пения птиц; но Крючочник и вида не подавал, что причастен к этому пению, он сидел и с самой невинной миной разглядывал разноцветные стёкла.
Потом Роза играла на фортепьяно. Она по-прежнему не находила себе покоя, то и дело озиралась на сидевшее на веранде общество.
— Ну, если вам не угодно слушать, я не буду играть! — сказала она и поднялась.
А всё оттого, что баронесса и Хартвигсен сидели рядышком и, кажется, перешёптывались.
И я опять вышел во двор. Я захватил с собой подзорную трубу и стал развлекаться тем, что разглядывал людей на сушильнях.