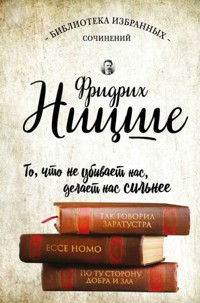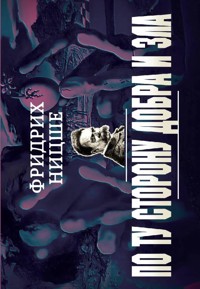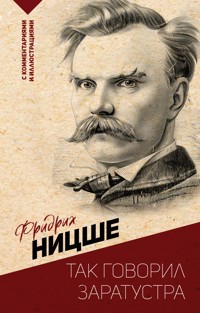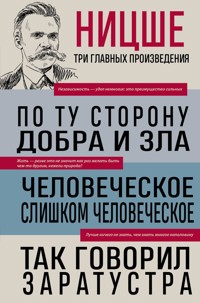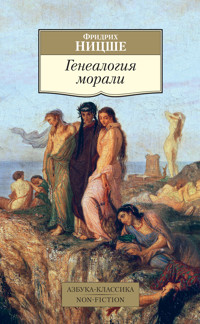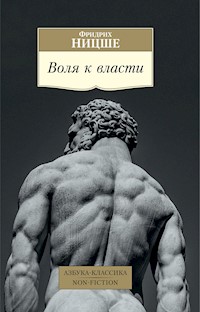Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Bildung
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей всего мира. Рождение самобытного, оригинального — это всегда скандал и шок. Таково первое произведение философа «Рождение трагедии из духа музыки», оказавшее большое влияние на искусство и философию ХХ века.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Перевод с немецкого Григория Рачинского
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Ницше Ф.Рождение трагедии из духа музыки / Фридрих Ницше ; пер. с нем. Г. А. Рачинского. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — Азбука-классика. Non-Fiction).
ISBN 978-5-389-21826-0
16+
Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей всего мира. Рождение самобытного, оригинального — это всегда скандал и шок. Таково первое произведение философа «Рождение трагедии из духа музыки», оказавшее большое влияние на искусство и философию ХХ века.
© Б. Г. Соколов, предисловие, послесловие, комментарии, 2000© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014Издательство АЗБУКА®
«Страсти» по Ницше
Писать о Ницше трудно... — нет, не то слово, — мучительно трудно. Ибо это требует полной отдачи. Полной отдачи «энергетически». Если нет полной отдачи, то лучше вообще не писать о Ницше, лучше отойти в сторону... «Против» ты или «за» Ницше — какая разница? Главное не быть равнодушным. Может, даже лучше, если «против», ибо враг, если вспомнить Ницше, — это лучший друг. Друг, который успокоит, который утешит и поддержит, разве он подлинный друг? Друг — это вопрос перспективы. Друг — это тот, кто делает тебя и лучше, и сильнее, кто помогает твоему росту, кто превращает твое существование в борьбу с самим самой, в борьбу на пределе, кто помогает, заставляя переступать предел. С «точки зрения перспективы» враг — это подлинный друг, ибо подлинным другом, а значит, подлинным благом является для нас лишь тот, кто заставляет нас быть начеку, кто не дает передышки, кто вынуждает быть в постоянном напряжении. Сильное, напряженное «против» — это «за». Поэтому лучше ненавидеть Ницше, чем быть к нему равнодушным, поскольку равнодушие — это бессильное ничто, это усталость и леность духа.
Невозможно даже читать Ницше отстраненно и безжизненно, кабинетно-научно. Ницше затягивает и зачаровывает. С ним можно не соглашаться, даже не принимать его... Но, отвергая что-либо в Ницше, нельзя отринуть самое существенное в его жизни и творчестве — чистоту, бескомпромиссность, искренность, желание идти до конца, до предела. Путь Ницше — это путь к пределу, и не случайно, что, работая на пределе человеческих сил и возможностей, он дошел до этой опасной черты: десять лет безумия в конце жизни...
Следствие любого контакта с текстами Фридриха Ницше — все, что угодно, только не равнодушие. Все, что угодно, амплитуда довольно широкая: неприятие, отрицание, восторженность, злоба, боготворение. В этом отношении Ницше «заражает», ибо он сам — все, что угодно, только не равнодушие и угодливая всепростительность. Его тексты — один из которых ты, читатель, сейчас держишь в своих руках, — неудобны и колючи, ершисты, они «топорщатся» острыми «углами» и ранят ими читающего, и в этом они лишь повторяют «кровавую мистерию» жизни великого «ниспровергателя кумиров».
Да, тексты Ницше ранят. Но эта кровь — кровь самого Ницше. Ибо Ницше писал кровью. Любой его текст написан его кровью и его жизнью. И не по капле — одна, половинка, еще одна, — но целым потоком, тем потоком, который, выкачав из него все силы в предельном напряжении жизни и творчества, выбросил его на свалку «безумия».
Сказать, что Ницше недомогал, что он был слаб здоровьем, — ничего не сказать о тех постоянных муках, которые подчас приносило Ницше его существование. Боль не останавливала. Останавливала лишь непереносимая боль. Сам Ницше насчитывал до 200 дней в году, когда рвота, потеря зрения, нестерпимые головные боли делали из существования пытку, когда смерть казалась избавлением от мук. В редкие дни, недели, когда наступало улучшение, Ницше творил, творил самозабвенно, как истинный художник. Боль, возможно, заставляла ценить редкую возможность писать, и его тексты доносят до нас эту боль и борьбу с ней, они хранят борьбу за жизнь, борьбу за власть над собой, борьбу «вопреки»...
* * *
Трудно писать о Ницше еще и потому, что необходимо ответное напряжение. Ницше «зовет» к сотворчеству, и эта возможность сотворчества заражает и зачаровывает. Ницше, подобно водовороту, «затягивает», но «затягивает» читателя не только тем, что заставляет видеть мир его глазами, использовать его схемы, но и своей «допредельной» искренностью, а также тем, что заставляет видеть мир, а не «глазеть» на мир. Видеть — это всегда творение, это всегда со-творение.
Заметим, что важнее не то, что сказал Фридрих Ницше, но как он сказал. Это вопрос стиля. Вопрос темпа и искренности. То, что сказал Ницше всем своим творчеством, возможно, не так уж и ново. Если перечислить основные лейтмотивы его творчества, то мы, если и не поставим под сомнение его оригинальность, по крайней мере можем без труда «вписать» его в ту западноевропейскую традицию, на которую он яростно нападал, т. е. сделать из него «одного из». Один из известнейших мыслителей XX века Мартин Хайдеггер в своей работе «Европейский нигилизм» перечисляет пять рубрик, пять тем, наиболее значимых в работах Фридриха Ницше. Это — нигилизм, переоценка ценностей, воля к власти, вечное возвращение и сверхчеловек. Кстати, работа Мартина Хайдеггера — счастливое исключение из «научно-добротных» работ о немецком мыслителе. Ему удалось почти невозможное: рассуждать со свойственной немцам дотошностью о «певце Диониса» и быть ему конгениальным. Возможно, это произошло потому, что с Ницше Хайдеггер обращается как с дохлой собакой, которую, как известно, можно положить куда угодно, а именно вписывает «систему Ницше» в канву собственного видения движения западноевропейской мысли.
Можно добавить еще несколько сюжетов, чтобы адекватно и полно отразить самое существенное в творчестве «ниспровергателя кумиров»: антихристианство, Заратустра, ценностный перспективизм, аморализм и, конечно, ту сюжетную линию, которая представлена в «Рождении трагедии из духа музыки», а именно аполлоническое и дионисийское начала.
Итак, что сказано и как сказано немецким мыслителем. Вопрос новизны: насколько Ницше является новатором не только в как сказано, но и в что сказано. Если в отношении стиля, темпа, «энергетики» произведений Ницше мало кто сомневается в оригинальности, то в отношении «содержания», «смыслового наполнения» можно посомневаться. Так ли эти рубрики-темы новы по своему содержанию и по своей интенции? Может, прав упомянутый М. Хайдеггер, говоря о Ницше как о завершителе традиции европейской культуры, против бессилия и лживости которой он боролся? Завершитель — это не только тот, кто полагает предел, но и тот, кто все же находится «внутри», внутри традиции. Для этого мы затронем основные сюжеты его исследований, попутно отвечая на поставленный вопрос. Хотя, конечно, говорить о подлинном новаторстве, о подлинной оригинальности всегда нужно условно: что нового есть в этом старом, старом мире под древним солнцем и дряхлой луной?
Стоит сразу акцентировать следующий момент: все указанные рубрики-темы находятся в тесной взаимосвязи. Они не существуют изолированно, наподобие разделенной на столбцы таблицы. Все темы «ссылаются» друг на друга, образуя причудливый интеллектуальный хоровод или, другими словами, некий линкованный гипертекст: говорить о переоценке ценностей невозможно без упоминания воли к власти, сверхчеловека или нигилизма. В свою очередь, при анализе темы сверхчеловека нельзя не затронуть тематику воли к власти или переоценки ценностей и т. д.
* * *
Заратустра. Как признавался сам Ницше, резон обращения к имени и персонажу Заратустры есть — именно Заратустре приписывают выражение: чтобы быть мужем, необходимы две вещи — умение говорить правду и стрелять из лука. Иными словами — Заратустра проповедовал о воинской доблести и правде, какой бы горькой и ужасной она ни была. Конечно, реальный Заратустра, основатель зороастрийской религии, и Заратустра Ницше — довольно далеки друг от друга, как далек Заратустра от Ницше, выбравшего иранского мудреца глашатаем своих истин.
Итак, Заратустра Ницше — это рупор его идей и проводник, ведущий нас по маршруту, конечный пункт которого — сверхчеловек. Нужно сразу оговориться, что Заратустра не сверхчеловек, но указатель и путь этого «указателя» к сверхчеловеку. Возможно, Заратустра и становится сверхчеловеком, но это происходит после того, как мы закрываем книгу, т. е. речь идет о том вынесенном за пределы книги пространстве, которое Ницше уже не описывает в своей книге и которое наступит тогда, когда мудрец преодолеет свою последнюю привязанность, свое последнее «человеческое, слишком человеческое» — преданность и любовь к своему идеалу, к сверхчеловеку. Ибо сверхчеловек не может, будучи целью пути, ставить целью статус-кво, т. е. самого себя.
Итак, Заратустра — это глашатай и путь. И согласно этим определениям развивается сама «интрига» пути, описанного в книге, которую иногда называют «Библией нашего времени». Путь Заратустры к сверхчеловеку — это путь постоянного самопреодоления, отказа от прежних ценностей. Заратустра время от времени уходит в горы, где происходит «преображение», перерождение. Именно в горах, где у него лишь два верных спутника — орел, олицетворяющий полет и смелость, и змея, символ мудрости мира сего, — происходит очищение и самопреодоление. Постоянное преодоление самого себя — это путь Заратустры: его тождественность самому себе обретается в отрицании тождественности; Заратустра может оставаться самим собой, лишь постоянно изменяясь. Речь, понятно, не идет о схематике, например, гегелевской диалектики снятия, но о преодолении, которое «преображает», делает иным, полностью разрушая и упраздняя предшествующее состояние.
Так в первый свой приход Заратустра стремится к спасению человечества вообще. Стремление к популизму, которым первоначально одушевлен мудрец, желание донести до всех, до толпы, учение о сверхчеловеке оканчиваются неудачей. Толпа желает слышать лишь о «последнем человеке», который только и может быть ее идеалом. Заратустра с позором уходит в горы, унося труп канатного плясуна: жестокий урок, из которого он делает «правильные» выводы. И дело тут не только в не понявшей и не принявшей учение толпе, ее неспособности слушать и услышать. Корень этой неудачи лежит и в самом Заратустре. Стремление к популизму — сигнал к тому, что Заратустра сам еще слишком далек от своего идеала, поскольку выбрал неправильное направление.
Второе возвращение Заратустры столь же неудачно. Теперь он стремится донести учение о сверхчеловеке ученикам. Но и ученики — все та же толпа, пусть немного селектированная. У сверхчеловека нет и не может быть последователей, ибо путь к сверхчеловеку, путь самопреодоления — это путь одинокого странника. Более того, у каждого свой путь, каждому — свое. Заратустра уходит и от учеников, и его напутствие тем из учеников, кто может найти свой путь к сверхчеловеку, следующее: если хотите обрести меня, то нужно меня потерять. Движение к сверхчеловеку есть движение самопреодоления, это движение в одиночестве, где нет ни друзей, ни последователей. Где ростки будущего преображения рождаются из самого себя.
Последний искус и приход Заратустры связан с его последним идеалом — идеалом сверхчеловека. Но опять же, толпа «сверхчеловеков», собравшаяся у Заратустры, — это все та же толпа, но уже мнящая себя сверхлюдьми. Это — последний искус Заратустры: для движения вперед он должен отказаться и от своего последнего «человеческого, слишком человеческого» — любви к своему идеалу.
Сверхчеловек. В «Так говорил Заратустра» Ницше заявляет устами мудреца: «Я учу о сверхчеловеке». Сверхчеловек — это суть, проективная и пока не раскрывшаяся сущность человека. Вот как говорит нам сам Ницше: «Человек — это канат, протянутый между животным и Сверхчеловеком, это канат над пропастью»1. Величие человека в том, что он есть переход и уничтожение. Уничтожение — это уничтожение «человеческого, слишком человеческого», ибо человек есть «нечто, что дóлжно преодолеть»2.
Ницше описывает путь к сверхчеловеку аллегорически. Вначале дух становится верблюдом, т. е. тем, кто упорно и без сомнений несет свою тяжесть. Чем больше тяжести, тем лучше, ибо для верблюда сила — в несении тяжести. Тяжесть поклажи — это тяжесть наших предрассудков. Но дело в том, что поклажа верблюда не его поклажа, на верблюда ее нагружают. Следующая ступень — это перерождение духа во льва, целью которого является стремление добыть себе свободу в борьбе с великим драконом, на каждой чешуе которого написано «Ты должен». Дракон — это как раз дух тяжести, тот, кто нагружает верблюда. Но лев — это всего лишь воин, это не конец пути, поскольку воин обретает свой смысл лишь тогда, когда есть сопротивление, когда есть враг. С победой враг исчезает, а лев, если он продолжает быть львом, не может создать ничего позитивного, он может лишь разрушать. Поэтому последняя ступень превращения духа — это ребенок, дитя. Сверхчеловек — это не борьба «против», но рождение нового. Символ дитя — это не только забвение тяжести и борьбы, это рождение нового, новых ценностей на новых скрижалях. Ребенок — это священное «Да», без негации, без отрицания, это сила нового властного и безошибочного утверждения.
Трудный и тернистый путь к сверхчеловеку уничтожает последовательно все то, что может быть маркировано как тяжесть, т. е. то, что, с одной стороны, ориентирует нас на прежние ценности, а с другой — то, что подчиняется диктату или обаянию толпы, для которой самое важное — учение не о сверхчеловеке, но учение о «последнем человеке». Уничтожен быть должен и сам идеал, ибо идеал — это то, что, с одной стороны, приближает к цели, но, с другой, то, что препятствует стать целью самому: сверхчеловек не нуждается в телеологии. Его действия безошибочны.
Безошибочность действия говорит о том, что сверхчеловек обладает сверхрациональностью. В ряде работ Ницше так определяет сверхрациональность, свойственную сверхчеловеку: это инстинкт, разум должен стать инстинктом. Безошибочность инстинкта, утраченная человеком, может быть восстановлена в сверхчеловеке. Сверхчеловек, обладая сверхрациональностью и будучи полностью исторгнут из системы прежних ценностей, и есть тот, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Ценности сверхчеловека — это те ценности, которые обеспечивают движение вперед, которые делают человека соответствующим возрастанию воли к власти или собственному его предназначению.
Переоценка ценностей. Одним из главных лейтмотивов в творчестве Фридриха Ницше является атака на предшествующую ему традицию, попытка переоценки одряхлевших под тяжестью лет ценностей. Вырубить, отштамповать «новые ценности на новых скрижалях» нелегко. Ибо для этого нужно предыдущие ценностные ориентиры упразднить, как бы они плотно ни приросли к «коже» человека: за прошедшие века эти дряхлые ценности стали самой «плотью» человека. Эти ценности имеют императивный, принудительный характер, они требуют безоговорочного повиновения: «Ты должен!» Но кому должен? Почему должен? С этим и пытается разобраться немецкий мыслитель, предлагая новую систему ценностных координат.
Таким образом, моральные ценности, значимые для Ницше, несовместимы с традиционными для европейского общества ценностями. Подобно тому как есть нигилизм силы и есть нигилизм слабости, так и ценности ценностям рознь. Вопрос заключается в том, соответствует ли устанавливаемая ценность воле к власти, возрастанию жизненной воли или, наоборот, препятствует ее естественному функционированию. Понятно, что ценности силы, жизнеутверждающие ценности не нуждаются в переоценке. Переоценке подлежат ценности, которые созданы движением деградации, декаданса. Эти ценности угнетают жизненную волю, волю к власти, закрепляя не инстинкт жизнеутверждения, который свойствен сверхчеловеку, а мстительный инстинкт толпы, приобретшей благодаря численному превосходству перевес над сильными, теми, кто поистине должен устанавливать свои ценности.
Таким образом, есть ценности, которые должны быть, с точки зрения Ницше, «переосмыслены», продуманы заново. Это ценности, которые навязывает торжествующая толпа, чернь. Эти ценности суть «правила игры» социума, толпы, «последних людей», их мораль, которая обеспечивает нормальное функционирование «стада» и подавление всех тех индивидов, которые выбиваются из его «среднестатистических» рядов.
Сюжет, связанный с переоценкой ценностей, — один из излюбленных ориентиров атак противников Ницше. Но является ли Ницше подлинным новатором в самой попытке пересмотра ценностных ориентиров? Со времен Декарта, стоявшего у истоков новоевропейской культурной традиции, жест сомнения, пересмотра оснований — тема если не обязательная для любой сколько-нибудь значительной философской системы, то уж по крайней мере довольно традиционная. Можно упомянуть для «полноты картины» О. Конта, предлагавшего «позитивное» знание и оценивающего предыдущую традицию негативным образом как теологическую или метафизическую стадии, К. Маркса, предлагавшего разрушить «старый мир», и т. п. Критическая интенция присуща европейской традиции, Ницше здесь не одинок. Даже более, можно утверждать, что стремление к пересмотру оснований лежит в основании функционирования модели новоевропейской науки в целом. То, что Ницше критикует, не столь уж оригинально, весь вопрос — как он это делает: молотом, яро и беспристрастно.
Ценностная перспектива. Широко известна фраза древнегреческого софиста Протагора — «человек есть мера всех вещей». Но чем мерить самого человека, а также отношения человека и мира? В действительности мера всех вещей для любой культуры, любого народа и даже для любого человека выстраивается каждый раз уникальным образом. Можем ли мы утверждать, что мерой для религиозного человека является человек? Скорее Бог или путь к Богу. Каждая культура для своего времени формирует свою систему координат, систему ценностей. Ценностная шкала позволяет маркировать и ранжировать сущее, т. е. мерить, «измерять» и соотносить вещи и явления. Но именно Ницше обратил наше внимание на значимость ценностной перспективы в выстраивании и постижении человеческого окружения. Ницше не только выявляет ценность ценностей, но также предлагает свою систему меры, систему координат, которой можно мерить если не все существующее, то уж по крайней мере самого человека. Эта мера — возрастание воли к власти, улучшение человеческой породы. То, что согласуется, «однонаправлено» движению воли к власти, — то является ценным, значимым. В этом отношении ценностная шкала, предложенная Ницше, не совпадала со значимой для европейской культуры того времени системой ценностных координат. По мнению «певца Диониса», те ценностные ориентиры, которые фундируют современное ему европейское культурное пространство — христианство, декаданс, философия, политика, демократия и т. д., — выстроены таким образом, что произошло извращение истинной шкалы, истинного и должного направления оценки. Соответственно, необходима деструкция, разрушение всей этой системы и ее центрирующих и цементирующих силовых точек. Таковыми являются, например, понятие истины, логические правила, научные законы, моральные ориентиры. Они нуждаются если не в полной негации, то уж по крайней мере в корректировке. Правда, по мнению самого Ницше, система координат европейской культуры, во многом сформированная христианством, настолько извращена в самый момент своего зарождения, что несет в самой себе свое отрицание: нигилизм как попутчик европейского декаданса.
Нигилизм. «Мы — нигилисты», — заявляет Ницше. «Свободный ум» нигилиста — это не только «свобода-сама-по-себе», но и прежде всего «свобода от». Упразднение прежних ценностей заставляет усомниться, тотально усомниться в «доброкачественности» предыдущих ориентиров. Более того, Ницше констатирует некую усталость культурного пространства Европы, декаданс и тесно с ним связанный нигилизм. «Закат Европы» — это одряхление европейской культуры, ситуация, когда не нужно даже толкать, пошатнувшееся само упадет. Но нигилизм нигилизму рознь: нужно отделять нигилизм слабости от нигилизма силы. Нигилизм Ницше — это не нигилизм одряхлевшей и обессилевшей культуры, а нигилизм силы и улучшения породы, нигилизм, преодолевающий осуждающие оценки и способный подготовить новые ценности на новых скрижалях.
Аморализм. Ярлык аморалиста накрепко прирос к Ницше. Речь идет, опять же, о попытке упразднения существующих ценностей, ценностей толпы, т. е. тех ценностей, которые ориентируют не на прирост воли к власти, не на улучшение породы конкретного индивида, но на «последнего человека» толпы, для которого самое важное — немного тепла, немного спокойствия, немного еды: всего понемногу. Ценности «последнего человека» можно выразить словами В. Маяковского: «Мы только мошки, мы ждем кормежки». Мораль толпы, мораль бессильного и мстительного христианина — ориентир атаки Ницше. Мораль должна служить не толпе, не государству, но тем людям, которые идут вперед, которые преодолевают и повелевают. Именно они, героические личности, являются аморальными по своей сути, ибо пишут и вырубают новые ценности на новых скрижалях. Таким образом, речь не идет о том, что Ницше отказывается от любой морали, от любых моральных ценностей, но о том, что следует «разобраться» с моралью, с этим могучим инструментом формования и подавления человека. Пытаясь разрушить прежние моральные ориентиры, Ницше не аморален, но ино-морален, морален по-иному. Просто перспектива, которая выстраивает мораль, должна, с точки зрения Ницше, быть переориентирована. Вопросом остается лишь наш выбор — кого мы хотим взрастить: сверхчеловека или последнего человека. Выбор, который решает, что должно быть ценным, значимым. Таким образом, вопрос морали — вопрос ценности. Но как решить, что ценно? Рецепт Ницше прост: то, что соответствует возрастанию воли к власти, возрастанию жизненной силы, то и является ценным.
Особое внимание Ницше уделяет генеалогии морали, вернее, генеалогии моральных предрассудков, ибо мораль сама по себе — произвольное допущение, предрассудок, позволяющий регулировать нормальное функционирование общества. Дело в том, что исторически первичный акт установления моральных императивов был осуществлен «героическими» личностями, но никак не толпой последних людей. Более того, сама мораль даже в том жалком виде морали последнего человека, человека толпы, скрывает в себе следы своего властного (а значит, истинного) установления. Мораль — это продукт безнравственности, заявляет Ницше, ибо:
«1. Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, они должны опираться исключительно на силы и аффекты безнравственного характера.
2. Возникновение моральных ценностей является делом безнравственных аффектов и соображений»3. А хваленая добродетель достигает своих целей теми же самыми способами, что и безнравственность: жестокостью и властным установлением.
К генеалогии морали Ницше подходит прежде всего как филолог: сами моральные понятия хранят в себе свои аморальные истоки. Во-первых, мораль — это то, чем оценивают то или иное деяние. Например, какое деяние можно оценить как доброе, а какое как злое? Исследование генезиса понятий добра и зла говорит о том, что первоначально слова «плохой», «злой» относились к маркировке принадлежности к низшим сословиям, к плебеям. Так, немецкое слово «schlecht» (плохой) тождественно «schlicht» (простой). Подобную картину можно наблюдать во многих индоевропейских языках. Наоборот, синонимом добра всегда была принадлежность к высшему сословию, сословию, которое в архаические времена как раз и устанавливало «истинную» шкалу ценностей, оценок. Вот вывод, который делает Ницше: изначально установленные понятия добра и зла не имеют почти ничего общего с теми понятиями, которыми мы сейчас пользуемся. Этимология этих понятий-слов сохранила для нас след происхождения, истока этих понятий. А то, что мы имеем на сегодняшний день, — так это извращение исконного значения этих понятий. Исторически произошла своеобразная подмена «означаемого» при сохранении «означающего». Эта подмена, став зримой благодаря генеалогическому исследованию Ницше, по-иному «оценивает» существующую шкалу ценностей (ибо ясно, что понятия добра и зла отнюдь не «последние» понятия в сфере этического, они обладают нормативно-формующим характером в отношении всей системы морали и ее функционирования), а также демонстрируют ту огромную дистанцию, которую исторически прошла мораль, — путь извращений и отката от истоков. Ибо добро и зло декаданса и добро и зло «поднимающегося», жизнеутверждающего сословия диаметрально противоположны.
Рассмотренный пример генеалогии моральных понятий показывает, что не все так просто и однозначно, а вернее, «чисто» в сфере морали. Мораль как предрассудок не лучше других предрассудков. Только необходимо отдавать себе в этом отчет. Отчет, который позволит расставить ценности по иной шкале, нежели традиционная, шкале, которая, с точки зрения Ницше, должна споспешествовать движению к сверхчеловеку, т. е. делать человека соответствующим своему определению, а значит — поистине человечным.
Вечное возвращение. Когда образно говорят о колесе истории, подчас забывают, что колесо — это не только способ движения вперед, но и прежде всего движение вокруг оси, движение на месте. Европейская культура с ее взглядом, направленным в бесконечность пространства и времени, видит в этой метафоре то, что может и должна увидеть, — лишь поступательное движение вперед. Но не надо забывать, что есть и иные взгляды, например взгляд древнего грека, индуса, для которых важно было в этом выражении не движение колеса вперед, но движение вокруг оси, постоянное возвращение к уже сбывшемуся состоянию. В этом отношении Ницше формулирует и закрепляет в европейской культуре взгляд древнего грека: «Ибо все, что может произойти и на этом долгом пути вперед — должно произойти еще раз!»4 Идея вечного возвращения, повтора колеса истории, конечно, для европейской мысли, привыкшей к христианской перспективе исторического развертывания, в конце XIX века если не нова, то по крайней мере экзотична. Именно благодаря Ницше эта идея в дальнейшем легла в основу выстраивания и, соответственно, постижения цикличности исторического свершения (например, исторические концепции Освальда Шпенглера или Арнольда Тойнби).
Антихристианство. Певец Диониса, а именно так называл себя Фридрих Ницше, никак не мог «по определению» относиться с симпатией к христианству. Ярое неприятие христианской морали — один из лейтмотивов его творчества. В каких только «смертных грехах» не обвинял Ницше христиан и христианство — справедливо или нет, не нам судить. Попытаемся разобраться в причинах, вызвавших ненависть немецкого философа.
Мы уже говорили о том, что существуют достаточно строгие, конечно для Ницше, ориентиры, которые позволяют по-новому оценить любое явление. Основной ориентир — возрастание жизненной силы, соответствие движения (развития) живого существа приросту воли к власти. Мораль должна согласовываться с волей к власти, ориентироваться на возрастание жизненной силы, и тогда то, что служит приросту воли к власти, является добром, что препятствует — злом. Здесь у Ницше речь идет не о человечестве вообще, т. е. о толпе рода человеческого, а об индивиде. И это — существенно, ибо как раз христианство выступает глашатаем воли толпы, толпы, как ее маркирует Ницше в «Так говорил Заратустра», последних людей, но не глашатаем воли индивида. Переориентация ценностной перспективы от индивида к роду — один из основных пороков христианства и проповедуемой им морали. Мораль христианства не способствует инстинкту роста индивида, а, наоборот, ведет к деградации, порче породы, когда уменьшается жизненная сила индивида. Именно поэтому христианство, по мнению Фридриха Ницше, — это деградация, прикрытая «святыми именами», ибо оно проповедует ценности, которые приводят к ослаблению жизненной воли. В противовес добродетелям, созвучным возрастанию воли к власти, христианство устанавливает свою шкалу ценностей — ценностей, сформированных жреческой кастой, узурпировавшей власть, но к ней, к этой власти, непригодной, не приспособленной. Ведь власть — это война, а воля к власти всегда и везде есть преодоление, борьба.
Узурпация власти, которую осуществило жреческое сословие, конечно, тоже борьба, причем борьба не на жизнь, а на смерть. Главное в этой борьбе — какие средства используются. Средство достижения победы для слабого — хитрость, подлость, т. е. то, что исконно считается безнравственным. Исход этой борьбы иудейского жречества и здоровых сил мы знаем: толпа берет своим количеством и мстительностью. Кстати, мстительность оказалась настолько мощным орудием в руках толпы, что ее узаконили и оформили как в самом вероучении, так и в реальной практике христианства, уничтожавшего всех своих противников любыми средствами.
Итак, христианство — это деградация, декаданс. И идеалы, которые проповедует христианство, — идеалы декаданса, т. е. то, что служит умалению жизненной воли. Мир христианства коренится в извращении естественного мира, он выражает «глубочайшую неудовлетворенность реальным...»5. Неудовлетворенность реальным положением дел свойственна слабым, т. е. тем, кто страдает от этой действительности, кто — лишний.
Что же делает слабый? Он переориентирует ценности жизни таким образом, чтобы то, что является естественно болезненным, бессильным, оказалось здоровым и обладающим могуществом. Именно такими свойствами, по мнению Ницше, христианство наделяет своего Бога. В противовес Яхве Ветхого Завета появляется страдалец Христос, «добрый и сострадательный боженька». Этот идеал формует, естественно, и облик христианина, и облик самого христианского мира. Вместо естественных и потому истинных добродетелей миру навязываются искусственные добродетели всепрощения и сострадания: деградация Бога дублируется деградацией адептов. «В христианстве, — отмечает Ницше, — на первый план выходят инстинкты угнетенных и порабощенных; в нем ищут спасения низшие сословия»6. Это угнетенное сословие после своего прихода к власти не только мультиплицирует через мораль и воспитание низшие ценности в человеке, ослабляя его волю и силу, но и физически уничтожает всех тех, кто представляет для него единственную существенную опасность, — расу господ, расу, которая руководствуется одним принципом — возрастанием воли к власти, возрастанием жизненной силы. Мораль страдания, проповедуемая христианством, — один из примеров искажения естественного порядка вещей. Мораль господ говорила о том, что воину меньше всего пристало страдать, а если он и страдал, то переносил это молча. Христианин, вместе со своим Богом, — страдалец par exellence, а само страдание — краеугольный камень религии христианства: Бог терпел и нам велел. Иудеи в лице своих жрецов создали извращенную мораль — некий «дурной взгляд», искажающий действительность. Инстинкт иудея-жреца — это кастовый инстинкт неудачника, угнетенного сословия и народа, получившего шанс отомстить сильным и здоровым силам. Злу надо не противиться, но любить его — ложное утверждение, лежащее в основе многих христианских заповедей. «Не противиться, не гневаться, не призывать к ответу...»7 То есть в христианстве мы видим сплошное «нет», сплошное бессилие. И если этот негатив, это «нет» становится позитивом, становится «да» для всей европейской культуры, то речь идет о страшной заразе, которая грозит любым здоровым силам. Именно это порождает не только ярость Ф. Ницше, но и омерзение.
Христианство — это религия рабов, слуг, а его мораль — это месть любому сильному, здоровому проявлению здоровой породы людей. Психология христианина — это психология раба плюс психология жреца. Понятия, которые выдумали (вернее, наполнили иным смысловым содержанием) жрецы-иудеи — вина, страдание, кара, Бог, — принадлежат к арсеналу паразита, но не созидателя. Болезненное, бледное, немощное не может нести ничего здорового и полезного. Человек благодаря христианству ставит себе целью извращенные ориентиры. Христианство — это ложь от самого начала и до самого конца.
Аполлон и Дионис. Тема дионисийского начала — сквозная тема философских исканий Ф. Ницше. Более того, Ницше многократно заявляет о себе как о певце Диониса. Правда, в различные периоды антитеза Дионису разная. Если в «Рождении трагедии из духа музыки» Дионис противопоставляется Аполлону, то в поздний период — Христу.
Исследуя генезис трагедии, Ф. Ницше выделяет у древних греков два диаметральных стремления — стремление к красоте и стремление к безобразному. Двойственность мироощущения грека, а главное, двойственность трагедии, происхождение которой рассматривает Ницше, не случайна, она связана с двойственностью аполлонического и дионисийского начал искусства вообще. Аполлоническое искусство — это искусство пластических образов, дионисийское — непластическое искусство музыки. Аттическая трагедия, генезис которой исследует Ницше, — это результат взаимодействия и борьбы двух противоположных начал.
Сама тема аполлонического в искусстве генетически связана с тем, что можно охарактеризовать в терминах А. Шопенгауэра, оказавшего значительное влияние на мировоззрение Ницше, миром явления, миром как представлением. Аполлоническое искусство по своей сути основывается на мировой иллюзии, рождено из сновидения, грезы покрывала Майи. Аполлон — это олицетворение основного принципа явления, т. е. принципа, который контролирует мир как представление. Этот принцип А. Шопенгауэр именует принципом individuationis, принципом индивидуализации и множественности мира. Все так называемые изящные искусства, да, впрочем, почти все виды искусств являются по своей сути аполлоническими искусствами, ибо всегда оформлены и через свою оформленность принадлежат миру как представлению. Аполлоническое искусство, а если шире, то аполлоническая культура вообще, тесно связано не только с именем Аполлона, но и с самим принципом явленности олимпийских богов.
Смысл понятия «дионисийское начало» также довольно тесно связан с системой Шопенгауэра. Дионисийское искусство представлено лишь одним видом искусства — непластическим искусством музыки. Напомним, что искусство музыки у А. Шопенгауэра наделено особым статусом: музыка является аналогом мировой воли, т. е. непосредственно (если так можно выразиться в отношении мировой воли) репрезентирует волю саму по себе. Дионисийская музыка представляла собой некий дикий набор звуков, какофонию, некий неоформленный прорыв мировой воли, прорыв первоначала, через который мы можем соприкоснуться с этой стихийной, неоформленной, находящейся вне времени и вне пространства основой всего нашего мира.
Воля к власти. Рубрика-сюжет «воля к власти» — центральный стержневой пункт системы Ницше. На «волю к власти» ссылаются все другие сюжеты в произведениях немецкого мыслителя: рассуждения о сверхчеловеке, переоценке ценностей, нигилизм и т. п. базируются и согласуются с движением воли к власти.
По свидетельству сестры Ницше Элизабет Ферстер-Ницше, сама идея воли к власти пришла в голову Фридриху в тот момент, когда он наблюдал наступление войск: чеканный шаг, единый порыв, мощь, сила, полная самоотдача, готовность к борьбе и даже к смерти. Живое, если оно живое, если оно возрастает в своей силе, если оно не «прозябает», должно быть готово к борьбе, к борьбе за свой путь, за свое место под солнцем, наконец, за свою жизнь.
Но что же такое воля к власти? Это воля, устанавливающая сама себя, конституирующая сама себя, учреждающая саму себя. То есть речь идет о самосозидающей, самоустанавливающей силе, движением которой меряется достоинство и ценность всего живого. Это во-первых. Во-вторых, воля к власти есть по существу своему воля преодолевающая, поскольку воля к власти есть воля, преодолевающая другую волю. Для прояснения смысла ницшевского понятия важно акцентирование на моменте сопротивления, преодоления, возвышения. Воля к власти не направлена в пустоту, подобно простой силе, для которой безразлично, встречает она сопротивление или нет. Воля к власти является таковой лишь постольку, поскольку она встречает сопротивление другой воли. Но как самосозидающее, безосновное начало, воля к власти развертывается не только через сопротивление, идущее от чуждой ей воли, но и напряжение самой себя: преодоление захватывает прежде всего ее саму. Воля к власти преодолевает саму себя и лишь поэтому способна преодолеть другую волю.
Момент преодоления, который существен для постижения сути ницшевской воли к власти, дистанцирует его систему от взглядов А. Шопенгауэра, который первым в европейской культурной традиции акцентировал и ввел проблематику воли как мироустрояющего начала.
* * *
В конце XX века Россия заново открыла Ницше, как, впрочем, его родина Германия, как вся Европа. Можно даже говорить о своеобразном ренессансе-реабилитации Ницше. Ницше популярен, чего, кстати, нельзя было сказать в то время, когда он был жив. Европейская элита просто его не замечала. Достаточно привести один факт: изданный на средства самого Ницше «Так говорил Заратустра» тиражом в несколько десятков экземпляров не нашел при жизни немецкого мыслителя своего читателя. Те несколько экземпляров, которые сам Ницше отослал тем, кого он считал достойными этой книги, вряд ли были прочитаны, а если и были прочитаны, то вряд ли поняты. Речь, напомню, идет о той книге, которая в XX веке многократно переиздавалась как в самой Германии, так и во всех европейских странах, которую, может быть преувеличенно, именовали «Библией нашего времени».
Тень, которую бросил на Ницше фашизм — Фридриха Ницше называли чуть ли не «официальным» идеологом нацизма, — оказалась гораздо живучее Третьего рейха. Лишь через несколько десятилетий стало ясно, что не так все просто в «любовном романе» фашизма и ницшеанства. Любой текст, любое произведение беззащитно в руках потомков. Все дело в том, какие руки берут книгу, какие глаза читают текст. Любой текст беззащитен перед своим читателем: каждый берет из него свое. Подобное и произошло с ницшевским наследием. Фашизм нашел в нем то, что хотел, то, что видел, то, что ему было нужно.