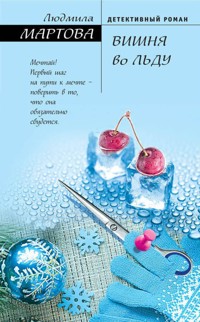Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой
- Sprache: Russisch
Все началось с маленького неприметного цветка лайма, который убийца оставил на теле своей первой жертвы. Каково было удивление Лилии Ветлицкой, работника следственного управления, когда она поняла, что убитой оказалась Вера, с которой ее связывает общее прошлое… Лилия взялась за расследование, даже не подозревая, что убийца знает еще много способов преподнести цветы. Она поняла, что ввязалась в опасную для своей жизни игру, когда сама получила букет от неизвестного отправителя.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Людмила Мартова «Смерть» на языке цветов
© Мартова Л., 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Марии Перетягиной, возрождающей во мне желание бороться с обстоятельствами.
Флер[1] – покров, скрывающий что-нибудь.
Глава первая. Горшок с гортензиями
Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви.
Счастье пришло в жизнь Лёки, когда ей исполнилось четыре года. Именно в этом нежном возрасте ее взяла к себе жить тетя Мила, мамина старшая сестра, а по совместительству Лёкин ангел-хранитель.
Лёка любила тетю Милу и до того памятного дня, когда тетка перевезла ее к себе вместе с небольшим фибровым чемоданом, в котором хранилась Лёкина скромная одежонка. Мила частенько забирала Лёку из детского сада, и каждый день в районе полдника, когда уже был выпит вкусный кисель или ненавистное горячее молоко с пенкой, или вполне себе терпимое какао и съедено овсяное печенье или витушка, посыпанная расплавившимся сахаром, или ватрушка с творогом, Лёка начинала то и дело поглядывать на дверь, ведущую из группы в раздевалку. Она загадывала про себя, что если придет мама, то вечер окажется скучным и тягостным, как горячее молоко с печеньем, если папа, то ровным и неинтересным, как какао с ватрушкой, а если Мила, то радостным и праздничным, как кисель со сладкой витушкой.
Папа забирал Лёку из садика примерно раз в неделю. В детстве она, конечно, не могла понять, с какой периодичностью это случалось, но потом, когда уже стала взрослой и вспоминала детство, по всем раскладам выходило, что так оно и было. Раз в неделю.
Он всегда терпеливо дожидался, пока дочка, сопя и потея, натянет на себя вечно перекручивающиеся колготки, потом штаны и кофточку, затем шапку, неловкими пальцами застегнет петельку и пуговку на горле, криво намотает шарф, влезет в валенки и пальто на вате. Папа никогда не сердился на Лёку за то, что она копается, но и не помогал. Ждал, пока она справится сама.
Затем они степенно вышагивали по улице, и Лёка загребала галошами снег, с интересом разглядывая холодные и колкие снежинки, красиво ложащиеся на ее блестящие, будто лакированные, а на самом деле резиновые, галоши, купленные в «Детском мире». По дороге домой они нигде не останавливались и никуда не заходили. Шаг, второй, шарк-шарк, снежинки на галошах и вспотевшие маленькие пальчики внутри варежек на резинке.
Папа крепко держал Лёку за руку, но она совершенно точно знала, что думал он в этот момент о чем-то другом, уж никак не о Лёке и ее детсадовских заботах. Она несколько раз пыталась с ним заговорить, но папа будто не слышал ее бормотания и робких вопросов. Он не сердился, но и не отвечал, и Лёка постепенно перестала спрашивать. Просто шла домой молча и разглядывала снежинки, если дело было зимой, или листики, если осенью, или клевер, которого почему-то особенно много было вдоль дороги из детского сада, если домой они шли летом.
Папа в дверях это было ничего, не страшно. Гораздо хуже было, если в дверях показывалась мама. Лёка вздрагивала и втягивала голову в плечи, осознавая все свое несовершенство. В такие дни колготки проявляли особенную вредность, и мама, не выдерживая, вырывала их у Лёки из рук и хлестала дочку по тощей, вздрагивающей от страха спинке. Шапку мама застегивала сама, и ее пальцы с острыми кровавого цвета ногтями каждый раз царапали Лёке подбородок. Эти ранки почти никогда не заживали, а появлялись снова и снова. И лишь в конце апреля, когда шапка отменялась, Лёка выдыхала с облегчением.
По дороге домой мама дергала Лёку за руку, чтобы та шла ровнее, высоким надтреснутым голосом ругала ее за какие-то неведомые провинности, тянула и иногда, поторапливая, поддавала под зад коленом. Ее страшно раздражало, что Лёка – такая тупая и медлительная черепаха.
Зато, когда за распахнутой дверью оказывалась Мила, жизнь расцветала яркими красками. Тетка ловко и споро одевала Лёку, колготки натягивались в мгновение ока, штаны и кофточки, а также шапки и прочие элементы гардероба порхали в ее легких руках. По дороге она покупала Леке мороженое, если было лето, или леденец на палочке, или вкусный ванильный сухарь, или конфету «Гулливер», и путь до дома был легким, сладким и очень коротким. Мила всегда расспрашивала, как дела в детском саду, переживала Лёкины горести и радовалась ее победам. Они вместе лепили фигурки из пластилина на конкурс к Дню урожая и собирали гербарий, и старательно склеивали новогоднюю гирлянду из разноцветных бумажных колечек.
– Из тебя бы вышла такая примерная мамаша, жаль, что тебя замуж никто не берет, – фыркала мама, стремительно несясь через «большую» комнату, в которой рукодельничали ее сестра и дочь, из спальни, где она печатала на машинке, в кухню, где на плите булькал суп. Капуста в нем всегда была безвкусной и по виду походила на вареные грязные тряпки.
– Я вот не понимаю, зачем ты ребенка родила, если так его ненавидишь, – парировала Мила. Свою младшую сестру она ни капельки не боялась.
– Да не рожала бы я, если б не залетела, – с досадой отвечала мама, а Лёка втягивала голову в плечи, думая, что если она станет совсем незаметной, то, может быть, не станет раздражать ее так сильно.
Понятно, что слов «залететь» и «раздражать» она не знала. А вот ощущение окутывающего и постоянного раздражения было. Она тонула в нем, как елочные игрушки, уложенные в вату, чтобы не разбились. Вот только никого не интересовало, может ли разбиться сама Лёка. Только Милу, которая ее почему-то любила.
Они даже внешне были похожи. Курносая, плосколицая, кудрявая Лёка как две капли воды походила именно на кругленькую, рыжую, тоже кудрявую Милу, а не на свою строгую сероглазую красавицу-мать, талию которой можно было перехватить двумя пальцами. Причуды наследственности, что тут скажешь.
Маме было всего двадцать два года. Лёку она родила в восемнадцать, из-за этого не окончила институт и теперь работала машинисткой в редакции городской газеты, беря на дом основную работу и подработку. Мама печатала практически всегда. И долгое время Лёка даже не могла заснуть, если из соседней комнаты не раздавался стрекот печатной машинки и резкий звук сдвигаемой влево каретки.
Миле было двадцать шесть, она работала учительницей начальных классов, потому что слепо любила детей. Любых, без разбора. Будучи до сих пор одинокой, она охотно брала на себя заботы о Лёке, чтобы облегчить младшей сестре серые материнские будни, и в такие дни Лёка чувствовала себя счастливой, хотя бы ненадолго.
А потом счастья стало так много, что его можно было черпать ложкой. Есть, набрав с горкой как манную кашу с положенным в нее черничным вареньем. Или клубничным, что было особенно вкусно. Конечно, варенье в кашу клала только Мила. Мама считала, что это баловство, и ребенок должен есть то, что ему поставят перед носом.
Мила забрала Лёку жить к себе, потому что мама ждала второго ребенка, и это ожидание было совершенно невыносимым от того, что рядом отиралось такое глупое, никчемное и никому не нужное существо, как Лёка. Тупая медлительная черепаха. Так, Лёка переехала к Миле, та купила ей черепаху, милейшее и совсем неглупое существо, и жизнь показалась прекрасной и удивительной.
Теперь Мила отводила Лёку в детский сад и забирала домой каждый вечер, а к родителям они ходили в гости по субботам, и те два часа, которые они проводили за старательно накрытым столом, мама целовала и обнимала свою кровиночку, свою любимую маленькую девочку, поскольку чувствовала себя неловко от того, что сбагрила дочь из дома.
Без Лёки ей жилось гораздо спокойнее. Причем, когда беременность завершилась рождением в срок крепенького черноволосого младенца, Лёкиного братика, забирать дочь обратно она не торопилась. И когда брат пошел в детский сад, Лёка продолжала жить у Милы. А тетка завязывала ей банты и сшила платье Снегурочки. Лёка всегда была на детских утренниках именно Снегурочкой, потому что таких сказочных нарядов, как у нее, больше не было ни у одной девочки в группе.
Мила возила ее летом на море. Мила проводила ее в первый класс, крепко сжимая потную от волнения ладошку. Мила вытирала ей слезы, когда первого же сентября Лёка посадила чернильную кляксу на белый фартук, а им нужно было фотографироваться на память в лучшем фотоателье города. Оценив масштаб бедствия, Мила стащила с Леки злополучный фартук, налила ей горячего борща, выдала горбушку хлеба и велела не реветь, а сама быстренько простирнула фартук под краном, а потом высушила утюгом, так что и следа не осталось. Завязывая на спине пышный бант, Лёка представила, как бы разозлилась из-за кляксы мама, и содрогнулась.
Жизнь с Милой была праздником. Как сказал Хемингуэй, пусть и не про Милу, а про Париж, это был – «праздник, который всегда с тобой». Тетка сказала Лёке эту поразившую ее фразу, портрет Хемингуэя висел у нее в нише комнатной «стенки», вообще-то предназначенной для телевизора, и тетка зачитывалась и цитировала по поводу и без. Портрет был вырезан на дереве и покрыт черным лаком. Лёка боялась Хемингуэя, потому что тот следил за ней строгими, совсем, как у матери, глазами, в каком бы углу комнаты она ни находилась. Она даже эксперимент проводила, отходила в дальний угол и ловила на себе этот презрительный взгляд человека, который видел все ее несовершенство. В общем, Хемингуэя Лёка не любила, но фраза про праздник, который всегда с тобой, ей понравилась, потому что она была про Милу.
Праздник кончился, когда Лёке исполнилось двенадцать. Мила неожиданно собралась замуж. Краснея и смущаясь, она сообщила, что встретила свою судьбу. Ею оказался пятидесятилетний вдовец с тремя детьми, старший служил в армии, а двое других учились в школе и вошли в тот самый сложный подростковый возраст, который требовал вмешательства родителей. Другими словами, совсем отбились от рук. Вдобавок ко всему жених жил в одном райцентре, находящемся от их города в трехстах километров с гаком, и, по разумению Лёки, встреча с ним вряд ли тянула на судьбоносную. Но тридцатичетырехлетняя Мила так не считала. На эмоциональном подъеме носилась по квартире, собирая вещи, напевала, мечтала о том, что успеет еще родить ребенка, своего ребенка, и накануне отъезда передала Лёку родителям, будто и не замечая ее душевного состояния.
А Лёка оцепенела, замерзла, впала в анабиоз. Она не ела, не пила, не расчесывала волосы и не делала уроки, будто и забыв, что круглая отличница.
– А может, я с тобой поеду? – робко спросила она у Милы уже перед самым выходом из дома. – Ну и что, что райцентр, и там люди живут.
– Лёк, ты что? – всплеснула руками Мила. – У меня там и так два трудных подростка на руках будут, да еще свой народится, бог даст. Куда мне еще ты, в самом-то деле. Да и вообще. У тебя родители есть, хватит тебе в подкидышах ходить.
Если в добрых детских сказках Золушка превращалась в принцессу, то в данном случае обожаемая, холимая и лелеемая принцесса, наоборот, в одночасье превратилась в Золушку. Лёка еще удивлялась, почему не в жабу. Она мыла посуду, жарила брату омлет и разогревала суп, собирала по дому его носки и игрушки, помогала делать уроки и в перерывах между стрекотом пишущей машинки выслушивала мамины сетования на то, как же ей повезло с младшим сыном, и как же не повезло с дочерью. Тупой медлительной черепахой.
Ее черепаха, принесенная в родительский дом в коробке из-под Милиных французских туфель, через две недели куда-то пропала. Лёка подозревала, что ее братик, милый Илюша, имеет к этому самое прямое отношение, поскольку днем раньше видела, как он пытался ножницами достать из панциря втянутую туда от ужаса перед неминуемой гибелью черепашью голову, но доказательств у нее не было, а мама раздраженно велела не приставать к ней со всякой ерундой. Не стало черепахи и слава богу.
Предательство Милы, а все случившееся Лёка, уже свободно оперирующая взрослыми понятиями, оценила именно как предательство, было воспринято ею даже не как трагедия, а как крушение всей жизни. Она точно знала, что больше никогда не сможет никому доверять. Что любовь, какой бы искренней и горячей она ни была, всего лишь иллюзия, которая рассыплется в прах при первом же удобном случае.
Она ни с кем не дружила и ни в кого не влюблялась, а при попытке приблизиться к ней тут же втягивала голову в панцирь, глубоко-глубоко, чтобы никто не мог дотянуться до нее острыми ножницами. Она была совершенно одна, и ей никто не был нужен, до тех пор, пока в ее жизни не появилась Сашка.
Сашка родилась внутренне одинокой, хотя выросла в огромной и дружной семье, где все друг друга любили. У Сашки было пять старших братьев, как на подбор, высоких, статных, бородатых мужчин, говорящих громкими голосами, работающих на лесозаготовках, уважающих водку и из всех развлечений признающих только охоту.
Сашку они обожали, и она их тоже. Но при этом все равно оставалась как-то на отшибе, одна, как березка в поле. Сашка была похожа на неуклюжего щенка, активно тыкающегося острой мордочкой во все углы необжитого еще дома. Щенок Сашка да черепаха Лёка, они стали отличной парой, сдружившись на первом курсе института, внезапно и на всю жизнь.
Внешне они были совершенно разными, да и внутренне тоже. Статная, крепкая, твердо стоящая на ногах и трезво смотрящая на жизнь Лёка, понимающая, что всего, что ей хочется, придется добиваться самой. И хрупкая, ясноглазая Сашка, которую приходилось опекать и лелеять. В общежитии у нее убегало молоко и пригорала каша, стипендию у нее либо вытаскивали в первый же день, либо «расстреливали» в ближайшую же неделю. Она могла ходить в дырявом носке, из которого трогательно торчал нежный девичий пальчик, трогательно накручивала на палец прядь дивных шелковистых волос, гладких и темных, как вороново крыло. Доверчиво смотрела на всех без исключения огромными глазами, фиалковыми, красиво оттененными длинными пушистыми ресницами, и ничуть не расстраивалась, что люди никогда не оправдывали этого ее доверия. Все, кроме Лёки. Лёка была ее божеством. И, пожалуй, если бы понадобилось, то за нее она вполне могла бы убить.
* * *
Лиля проснулась с улыбкой. Она и сама не знала, чем вызвано ее отличное настроение. Весной, скорее всего. Лиля очень любила весну с ее неизбежным выздоровлением от зимней хандры, кусачей шерсти свитеров, тяжелых ботинок, жарких пуховиков, бесконечного снега, одинаково унылого в белом и черном цвете, засыпанных дорог и власти тьмы. Свет должен побеждать тьму. В этом она была уверена. Весь ее профессиональный опыт лишь подтверждал это.
Должность у Лили называлась серьезно. Старший помощник руководителя следственного управления, это тебе не хухры-мухры. Карьеристкой она не была. Просто искренне любила свою работу, которая за десять лет службы не утратила ни интересности, ни легкого романтического флера, ни остроты ощущений. Ей нравилось быть следователем. Пожалуй, именно к этому она стремилась все пять лет учебы в юридической академии. Ей было обидно, что про эту трудную, в чем-то героическую профессию так мало знают обычные люди, и ей хотелось как-то побороть эту несправедливость.
Еще будучи следователем, Лиля Ветлицкая охотно общалась с прессой, налаживая контакт между управлением и журналистами, пыталась писать пресс-релизы, причем не суконным, а человеческим языком, понятным и способным заинтересовать сначала СМИ, а затем и читателей. Предложение создать и возглавить пресс-службу прозвучало для нее как гром среди ясного неба, но, подумав, она нашла в нем массу плюсов. Теперь Лиля была в курсе всех дел, которые вели ее коллеги, а не только своих собственных, а главное – могла постоянно поставлять в средства массовой информации поток актуального материала, формирующего положительный имидж следствия. Ей было это интересно. У нее это получалось.
Авторитетная должность и звание подполковника юстиции стали приятным дополнением к той работе, которую она искренне считала делом своей жизни. Это был весьма неплохой результат для тридцати двух лет. И этому результату многие завидовали. Шепоток за Лилиной стройной, идеально ровной спиной не смолкал. Карьеру молодой интересной женщины проще объяснить постельными отношениями с руководством, чем умом и работоспособностью. Про сплетни и козни завистников Лиля знала, но внимания на них не обращала. В отличие от работы это ей было неинтересно.
Сегодня с утра она собиралась в дом-интернат, расположенный на окраине города. Несколько дней назад в «ВКонтакте» появилось видео с пьяными воспитанницами интерната, отчаянно пристававшими к случайному прохожему. Несмотря на то что в самом начале весны вечера были еще холодными, девочки на видео щеголяли в сланцах на босу ногу и в легких курточках поверх футболок. Видео вызвало небывалый резонанс на городском интернет-форуме, а так как речь шла о содержании детей-сирот, то руководство поспешило назначить следственную проверку.
Дело поручили одному из следователей, с которым у Лили были очень натянутые отношения. Женщин он не терпел, женщин следователей не признавал, Лилино звание подполковника воспринимал как личное оскорбление, общение с прессой считал несусветной глупостью, поэтому информации Лиле давал самый минимум, особо не разгуляешься.
За десять лет службы Лиля усвоила правило не бороться с ветряными мельницами, поэтому взяла ноги в руки и поехала в интернат сама, чтобы на месте определиться, что к чему. На выезды она выбиралась редко, и без того ни на что не хватало времени. Как правило, сводки ей поставляли дежурные по управлению. Кроме того, она обязательно присутствовала на всех «оперативках», а также запрашивала интересующую ее информацию у следователей и криминалистов, но право самой выезжать на место происшествия у нее было.
В данном случае говорить о преступлении было пока рано, но первый выезд в интернат оставил у нее тяжелое впечатление. Вроде и здание выглядело отремонтированным, и стены внутри оказались выкрашенными в веселенький розовый цвет, и чистота вокруг была, и прогорклыми щами не пахло, но острый привкус сиротства, казалось, был разлит в воздухе. Он был горьким и затхлым. От него першило в горле и щипало глаза.
– Здравствуйте. Вы будете чья-то мама? – Этот вопрос заставил Лилю завертеть головой в поисках задавшего его человека.
Человек, точнее человечек, стоял рядом и внимательно смотрел на нее снизу. Мальчик, маленький и слишком худенький, с огромными глазами какого-то удивительного изумрудного цвета. Лиля никогда не видела, чтобы у людей были такие глаза.
– Привет. Я уже мама, – улыбнулась она. – У меня есть сын, его зовут Гриша, и ему восемь лет. А тебя как зовут?
– Матвей, мне десять. – Мальчик на глазах поскучнел от ее ответа. Лиля вдруг догадалась, что он принял ее за женщину, приехавшую в интернат усыновлять ребенка, и внезапно расстроилась из-за его в очередной раз разбитых надежд. – А вы к нам по делу?
– Да. Я ищу кабинет директора. Ты мне не покажешь где это?
– Покажу. Отчего ж не показать. А вы нашу директрису знаете?
– Нет. Только собираюсь познакомиться. Что ты мне про нее скажешь? Строгая она у вас?
– Не знаю. – Матвей независимо пожал худенькими плечами. – Мы ее не видим почти никогда. Она к нам не ходит.
– Что значит не ходит? – Лиля даже поперхнулась от удивления.
– Ее недавно назначили, меньше года. Ирина Тимофеевна ее зовут. Бывшая директриса на пенсию ушла. Она к нам все время приходила. Вечером читала иногда, проверяла, легли ли мы спать. Расспрашивала, все ли мы в школе понимаем. А эта в спальни никогда не ходит. Мы ей неинтересны.
– Разве ж так может быть? – рассмеялась Лиля. – Она же ваш директор.
– Может. Ей важно, чтобы комиссии всякие довольны были. Чтобы в отчетах порядок. А мы сами по себе ей без надобности. Она нас знаете как называет? Утырками.
– Утырками? – Лиля не верила собственным ушам.
– Ага. У нас уже несколько воспитателей уволилось. Хороших. Она всем зарплату срезает. А на освободившиеся ставки своих родственников берет. Вот люди и бегут.
Мальчишка явно повторял чьи-то слова, но то, что он говорил, Лиле не нравилось категорически. Не случайно пьяные воспитанницы попались на глаза неравнодушному прохожему, ой, не случайно. В интернате творилось что-то нехорошее, но вот что именно? Лиля была уверена, что обязательно в этом разберется, не дав возможности своему коллеге следователю спустить дело на тормозах.
За десять лет она повидала много всякого горя и полного беспредела, к которому у нее даже выработался некий иммунитет, тот самый, сродни врачебному цинизму, который позволяет ему не умирать с каждым своим пациентом. Но она так и не смогла привыкнуть к тому, что обижали детей. Короста, защищающая душу, каждый раз сколупывалась, открытая ранка кровоточила и болела, да так сильно, что Лиля иногда даже поскуливала… Она рыла землю так, что та начинала гореть под ногами у тех, кто посмел обидеть ребенка. Неведомой ей пока Ирине Тимофеевне встреча с Лилией Ветлицкой уже вряд ли сулила что-нибудь хорошее.
С директрисой она, правда, в тот день так и не увиделась. Ирины Тимофеевны Колпиной на месте не оказалось, и секретарша блеяла что-то невразумительное о причинах ее отсутствия, старательно отводя глаза в сторону. Зато Лиля неторопливо и обстоятельно переговорила с преподавателями, которые так же прятали глаза. Эпидемия тут, что ли.
Бедно одетые тетки с химической завивкой на голове бормотали что-то про здоровый психологический климат, налаженный контроль за детьми и слухи, вызванные происками конкурентов. Про конкурентов Лиля, признаться, не поняла. Какие могут быть конкуренты у детского дома? Но учителя и воспитатели, как по шпаргалке, твердили одно и то же, не понимая, что выглядят смешно. Нелепо выглядят. И лишь одна из них, молодая, здоровая, активная девчонка с блеском в карих глазах и лихой неровной челкой, глядя прямо в глаза Лиле, призналась, что «прогнило что-то в датском королевстве»[2], то есть – в детском доме имени композитора Балакирева.
– Хочется надеяться, что наконец-то следственные органы разберутся в том бардаке, который царит в нашем богоугодном заведении, – заявила она.
– Что вы имеете в виду? – уточнила Лиля.
– Да все. Вы документы запросите. Колпина же на работе не бывает практически. Ее личный водитель с утра отвозит в парикмахерскую, потом на маникюр, потом по магазинам. Она в лучшем случае к обеду появляется. А машину отправляет забрать из университета друга ее сына.
– Зачем?
– Что зачем? Это же круто, когда есть служебный автомобиль, который возит всю твою семью, а еще и друзей сына в придачу. Сейчас на дворе у нас что, апрель? А в бухгалтерии говорят, что бензин мы уже октябрьский списываем. Наша царская задница ведь пешком не ходит. Тяжело ей, при ее-то весе.
– Я мальчика встретила в коридоре, он мне сказал, что директор устроила на работу своих родственников. Дети что, в курсе?
– Так они же не в безвоздушном пространстве живут. – Девица пожала плечами. – Устроила. Сына в библиотеку, а еще на полставки педагогом-организатором. В результате библиотека все время закрыта, а он там внутри запирается и в компьютерные игры играет. А воспитательной работы никакой не ведется. Он к детям даже не заходил ни разу. Впрочем, как и сама Ирина Тимофеевна. А старшеклассникам этот сынуля так и говорит: «На хорошую работу меня мать устроила. Делать ничего не нужно, а деньги платят. Тридцать тыщ».
– Немало, – не выдержала Лиля.
– Да уж, конечно. С учетом того, что у обычных педагогов и воспитателей тысяч семнадцать выходит. А еще у нас в штате два психолога. Одна ведет всю работу с трудными детьми в первую очередь. И зарплата у нее меньше двадцатки. А вторая – дочка нашей Ирины Тимофеевны – ведет документооборот. И зарплата у нее тридцать пять. Как вам такой расклад?
– Не нравится мне такой расклад, – честно призналась Лиля. – Думаю, будут вопросы к вашей Колпиной. И весьма неприятные.
– Ну так не одни приятные моменты в этой жизни встречаются. А то как в телевизоре красоваться, про интернат рассказывать, так она первая. А как за свои огрехи отвечать, так ее нет. Несправедливо это.
– А что, Колпина любит в телевизоре красоваться? – Лиля спросила про это совершенно машинально, профессиональное ухо зацепилось за слово «телевизор».
– Ну да. Она любит сюжеты заказывать про праздники, которые у нас проходят. Стоит, лыбится в камеру, детей полными ручками в браслетах обнимает. Патока одна и лицемерие. Вчера, правда, вертелась тут ужом. Съемочная группа городского телеканала приезжала, по поводу видео в «ВКонтакте». Сюжет критический снимали, что у нас дети беспризорными ходят и в стельку пьяными напиваются. Ну, Колпина, конечно, все обвинения опровергла. Мол, происки конкурентов, а в нашем детдоме все тишь, гладь и божья благодать.
– А на самом деле? Напиваются дети? – аккуратно поинтересовалась Лиля.
– Конечно, напиваются. У нас же все опытные воспитатели уволились, потому что эта грымза им зарплату урезала. Остались одни молодые, неопытные, которым идти некуда. А у нас ведь дети с непростой судьбой и, как следствие, характером. Их не каждый удержать может. Вот девочки вечерами и уходят на вольный выгул. А район у нас неблагополучный, сами знаете. Вот им и наливают, где получится. Девчонки еще меньше сумасбродят. Это уж так получилось, что именно они попались. А уж мальчишки чего делают, это же уму непостижимо. И руководство интерната никаких мер не принимает, чтобы это остановить. Ни в полицию не обращается, ни профессионалов не нанимает. Колпиной все равно. Она только бюджет пилит и по карманам распихивает. А до детей ей и дела нет.
– Бюджет пилит? Это деньги ворует? – еще более аккуратно уточнила Лиля.
– Ну да. У нас недавно мальчика усыновили в Италию. А есть такое правило, усыновители на спецсчет некую сумму перечисляют, и эти деньги расходуются именно на ту группу, из которой ребенка усыновили. На ремонт или на игрушки. В этот раз было решено в группу шторы новые купить и развивающие игры, а еще игрушки мягкие. Часть денег успели потратить, а вторая часть лежала, ее на лето оставили. Так вот нет этих денег. Все.
– Куда же делись?
– На ремонт колпинского кабинета. Там стены обклеили обоями за десять тысяч за метр, новую стенку купили и набор мягкой мебели. А в группе кровати разваливаются. А ей все нипочем. Курва.
Сегодня Лиля освободила полдня, чтобы еще раз съездить в интернат и все-таки лично познакомиться с чудо-директором. Образ у нее в голове сложился малоприятный, но первому впечатлению Лиля привыкла не доверять. Ее опыт твердил, что Колпина может на самом деле оказаться прекрасным специалистом и вообще душкой, а вся история, рассказанная девицей с челкой, – плодом больного воображения или результатом личной неприязни.
Заодно Лиле очень хотелось еще раз повидать Матвея. Мальчишка почему-то запал ей в душу. Может быть потому, что чем-то был отчаянно похож на ее Гришку. Внешне они как раз были совсем разные, и все-таки сходство было. Наверное, она и улыбалась, проснувшись, от того, что радовалась предстоящей встрече с ним.
Матвей ей обрадовался тоже.
– Ты ко мне? – немного недоверчиво спросил он. – Или по делу?
– Сначала к тебе, потом по делу. – Даже детям Лиля всегда говорила правду. – Но я же могу заниматься делами и при этом общаться с тобой, правда?
– Правда. Можешь, – Матвей кивнул и его худенькое личико с тонкой, будто просвечивающей изнутри кожей просияло. – А ты в английском разбираешься? А то мне уроки задали, а я там одно упражнение никак сделать не могу.
Лиля призналась, что в английском не сильна. Матвея это, впрочем, не огорчило.
– Ладно, тогда я сам. А в каком предмете ты мне помочь можешь?
Мальчишке очень хотелось, чтобы его новая знакомая помогла ему сделать уроки. Лиля улыбнулась, разгадав его хитрость, впрочем, чуть печально. Матвея ей было жалко.
– В истории, – сказала она. – Хочешь, я тебя в воскресенье возьму к себе домой, мы сходим в музей, а потом реферат напишем.
– Давай. Я знаю, что такое реферат. Нам задают. Иногда, – уточнил мальчишка. – А ты меня правда-правда на выходные возьмешь?
– Возьму, – пообещала Лиля. – Я никогда не обманываю. С Гришкой тебя познакомлю. Вместе и в музей пойдем, а потом в кафе. Мороженое есть.
– Здорово, – восхитился Матвей. – Ты тогда сразу уточни, какие заявления надо написать, чтобы тебе меня отдали. Хотя у нас с этим не очень строго. Если что, я запросто сбегу.
– Нет уж, – решительно заявила Лиля. – Сбегать мы не будем. Я, между прочим, подполковник, форму ношу, погоны, как видишь. Так что закон я никогда не нарушаю и сейчас не буду. Сделаем все так, как положено. Понял?
– Понял, – покладисто согласился Матвей. – Ты не думай, я слушаться буду.
В кабинет к Колпиной Лиля заходила, улыбаясь до ушей. Из-за стола темного дерева поднялась величественная фигура, размера пятьдесят восьмого, не меньше. Прическа у директрисы была уложена волосок к волоску, и Лиля сразу вспомнила рассказ про ежеутреннюю парикмахерскую.
На необъятной груди переливалась стразами блузка леопардовой расцветки, пухлые запястья были перехвачены толстыми серебряными браслетами с северной чернью, сосиски пальцев с нанизанными на них крупными перстнями переплелись под тройным подбородком в жесте, видимо, выражающем крайнее волнение. Ирина Тимофеевна Колпина не понравилась Лиле с первого взгляда и, видимо, навсегда.
– Что же к нам следователи-то зачастили? – низким голосом спросила директриса. – Сначала Егор Валентинович был, теперь вы. Уже второй раз приходите, как я слышала. Что ж вы в первый раз меня в известность о своем визите не поставили. Негоже это, без хозяйки по ее владениям ходить.
– Владениям? – переспросила Лиля, изогнув бровь. Было у нее такое умение. Ее бровь искривлялась, выражая различные чувства – смятение, радость, гнев. Сейчас бровь выдавала свой коронный номер – недоумение, переходящее в легкое, едва заметное презрение. Колпина, видимо, оценила это по достоинству, ее полное лицо покрылось красными пятнами, подбородки заколыхались. – Я, знаете ли, человек государственный. Нахожусь на службе, поэтому на встречи езжу согласно своему графику. А то, что вас в рабочее время нет на месте, так это я, простите, не виновата.
– Я ездила в департамент образования. – Ее контральто перешло в сопрано. – Я положенным образом исполняю свои служебные обязанности, а все остальное – это обвинения клеветников и…
– Конкурентов, – услужливо подсказала Лиля. – Я уже поняла, что среди детских домов процветает недюжинная конкуренция. Много ли ваших ноу-хау уже украли?
– Боже мой, за что мне все эти неприятности? – Колпина начала заламывать руки, а Лиле почему-то вспомнилась фраза из ее любимых Ильфа и Петрова: «Графиня изменившимся лицом бежит пруду»[3]. Колпина именно так сейчас и выглядела, по крайней мере, лицо ее было очень даже изменившимся.
Дверь открылась, и на пороге появилась давешняя запуганная секретарша.
– Что такое? – взвизгнула директриса, нашедшая, на кого выплеснуть негативные эмоции. – Сколько вам говорить, что меня нельзя беспокоить, когда у меня посетители.
– Ирина Тимофеевна, к вам курьер, – растерянно прошептала секретарша.
– Какой курьер?
– Из «Мира цветов».
– Что-о-о? Какой курьер, боже мой, я ничего не понимаю. У меня такие неприятности, а тут еще и это.
Лиля с интересом наблюдала за этой непонятной сценой. В кабинет прошел курьер. Молодой человек в фирменной куртке, на которой красовался известный всему городу логотип фирмы «Мир цветов». В руках он держал горшок с каким-то пышным растением. С первого взгляда Лиле показалось, что это гортензия.
– Вот, у меня заказ. Велено передать лично в руки Колпиной Ирине Тимофеевне, – заглядывая в какую-то бумажку, скороговоркой проговорил он.
– Это я. – Голос директрисы вновь вернулся к глубокому контральто. – А от кого это?
– Не знаю, я просто посыльный. – Курьер пожал плечами. – Велено доставить в дом-интернат имени Балакирева и передать вам лично в руки. Вот, распишитесь, пожалуйста.
Колпина черканула затейливую подпись и растерянно взяла в руки горшок с тремя неземной красоты цветками – розовым, сиреневым и белым. Рассмотрев пышные разноцветные шапки, Лиля убедилась, что это действительно гортензии. В первые дни апреля они смотрелись празднично и даже немного неуместно. Упоительный аромат поплыл по кабинету.
– Я ничего не понимаю. – Колпина проводила глазами ушедшего курьера и секретаршу, посмотрела на цветы, которые держала в руке, а затем на Лилю. – Я понятия не имею, кто мог послать мне эти цветы.
– Благодарные воспитанники, – поддела ее Лиля. – Или страстные воздыхатели, либо тайные поклонники. У вас есть тайные поклонники, а, Ирина Тимофеевна?
– Откуда же я знаю, если они тайные? – В голосе директрисы послышались кокетливые нотки. Происходящее ей явно начинало нравиться. Она водрузила на край стола горшок с благоухающими цветами. – Ну, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Мне нечего скрывать, и, как видите, далеко не все окружающие считают меня плохим человеком.
– Ну что ж, объясните мне, как получилось, что ваши воспитанницы в ночное время оказались за стенами интерната, да еще в нетрезвом виде? – Лиля открыла блокнот и приготовилась записывать. Дурманящий запах цветов щекотал ей ноздри.
Глава вторая. Когда зацветает лайм
Самые горькие слезы над гробом мы проливаем из-за слов, которые так и не были сказаны, и поступков, которые так и не были совершены.
Лавров проснулся внезапно, как от удара. Впрочем, мысль, разбудившая его, и была хлесткой, как удар, бьющий под дых и перекрывающий дыхание. Веры больше нет.
Он вспомнил, как больно ему было, когда эта мысль впервые начала подкарауливать его, выбирая для своего визита самое неподходящее время. Он мог вспомнить, что Веры нет, вкручивая лампочку под потолком или сидя в засаде, или закусывая водку маринованными огурцами, или вот так же, проснувшись под утро минут за сорок до будильника от того, что воздух не проходит в скрученные от непереносимой боли легкие.
Два года прошло с той поры. Смирился ли он с тем, что жена ушла от него, предпочла ему, Лаврову, другого мужчину? Более удачливого, более успешного, более богатого, да и что там греха таить, более красивого.
Мент Лавров с его стандартной зарплатой и непонятными перспективами не мог конкурировать с владельцем крупной IT-компании, разъезжающим по всему миру и легко покупающим Вере оригинальные сумки от Луи Виттон. Пока Вера не сказала ему, что это, оказывается, важно, Лавров и понятия не имел, что существуют сумки такой марки.
Они поженились еще студентами и радовались пустой однушке с собственноручно поклеенными обоями, в которой из мебели был только старенький диван и дребезжащий на разные лады холодильник. Однушка досталась Лаврову от бабушки, и они так радостно вдвоем клеили обои в дурацкий мелкий цветочек и пекли блины, потому что в холодильнике не было ничего, кроме одного яйца и пакета с мукой. Блины были на воде и совсем несладкие, но тогда это казалось чем-то само собой разумеющимся.
Тогда Вера еще не хотела заказывать суши из ресторана, покупать тигровые креветки в супермаркете, смешивать их с травой под названием руккола и заправлять оливковым маслом. Тогда не было ни креветок, ни рукколы, ни супермаркетов, зато счастье, казалось, можно было черпать ложкой, как манную кашу с клубничным вареньем.
Вера тогда была сероглазой, худенькой молодой девчонкой с трогательным хвостиком на голове. Он очень ее любил и твердо знал, что она тоже любит его и гордится тем, что после института он пошел в милицию. Она боялась за него, переживала, когда он дежурил, даже плакала. Но гордилась и любила. Как он пропустил момент, когда из ее надежной защиты и опоры для нее превратился в чемодан без ручки, который и нести тяжело, и выбросить жалко.
Точнее, Вера выбросила его из своей жизни сразу же, как только ее любовник сделал ей предложение. К тридцати годам она сохранила легкую девичью фигуру, черты ее лица стали тяжелее и прекраснее. Если в юности она была хорошенькой, то сейчас оформилась в красавицу, вслед которой хотелось оборачиваться на улице. Ее красота, как драгоценный бриллиант, требовала огранки и соответствующей оправы. Того самого Луи Виттона и прочих Картье с Диорами, которые мент Лавров обеспечить никак не мог, да и не пытался.
Перед разводом Вера все твердила ему, что у него нет внутреннего стержня, что он размазня, которая никогда не состоится, и что ей не хочется всю жизнь тащить за собой ненужный груз в виде лавровской никчемности.
Она считала его ничтожеством, и он повел себя как ничтожество. Не пытался бороться, уговаривать Веру остаться, бить морду ее хахалю. Он вообще ничего не пытался делать, просто пил каждый день, стараясь заглушить водкой ту бескрайнюю тоску, которая поселилась у него внутри, на месте той ямы, в которой до этого, видимо, обитала душа. Он пил каждый раз, когда вспоминал, что Веры у него больше нет. В день выходило бутылки две.
С работы его уволили довольно быстро, месяца через три вроде. Точно он не помнил. Дни тогда вообще слились в какую-то сплошную серую массу, в которой он пил, ел, спал, мычал от боли и думал, что Веры больше нет. Из той пропасти, на дно которой он так стремительно катился, его вытащила мама. Что и говорить, мама у него всегда была женщиной решительной. Из однокомнатной квартирки, где все дышало памятью о Вере и которая всего за полгода пропиталась омерзительным духом запустения, присущим всем квартирам алкоголиков, он переехал жить к маме за город.
У Лаврова вообще были уникальные родители. Его отец много лет проработал на кафедре ботаники. Профессор, разбиравшийся в тычинках и пестиках, все свободное время он проводил на охоте и умер от обширного инфаркта, настигшего его в лесу. А мама, окончившая когда-то факультет прикладной математики, всю жизнь проработала специалистом по вычислительным машинам, а оставшись вдовой в пятьдесят пять лет, скоропостижно вышла на пенсию и открыла собственную фирму по организации и проведению праздников.
Было это десять лет назад. Лавров тогда был уверен, что из материной затеи ничего не выйдет, но фирма набирала обороты: заказы прибывали, от свадеб и юбилеев мать быстро перешла на уровень корпоративов для крупных и очень крупных фирм. Мамуля продала городскую квартиру, купила коттедж в престижном поселке в двадцати километрах от города, переоборудовала там все по своему вкусу, развела множество цветов, которые по ее хитроумному замыслу цвели с апреля по октябрь, сменяясь одни другими (не зря же она тридцать лет прожила с дипломированным ботаником), сдала на права и теперь лихо водила «Тойоту Рав 4», колеся между поселком и городом. Мамой Лавров восхищался и стыдился того, что он у нее такой безуспешный. Старшим сыном – умницей и банкиром – мама по праву могла гордиться, а вот младший, мало того что дорос лишь до звания капитана, так еще оказался слабаком и неудачником.
Спиться мама ему не дала. Из глубокой депрессии вытащила. Вот только возвращаться на службу и каждый день видеть коллег, на глазах которых он так стремительно превратился в кисель только от того, что его бросила жена, ему не хотелось. Деньги ему были не нужны. Веру теперь содержал ее альфа-самец, сам Лавров жил у мамы на полном обеспечении, одних джинсов и свитера, купленных в секонд-хенде, ему вполне хватало на сезон, и работать нужно было лишь для того, чтобы хоть чем-то себя занять.
Лавров и занял, устроившись охранником в том же коттеджном поселке, в котором жила мама. На въезде стоял отдельный домик для охраны, на пульт которого были выведены сигнализации в домах. Дежурили тут попарно, сутки через двое, а Лавров, который жил здесь же, охотно подменял своих коллег и отпускал напарников, спешивших освободиться пораньше. Ему было все равно, где сидеть – дома или в будке для охраны, и свободное время ему было совершенно ни к чему.
Последний год он так и жил – не прикасаясь к бутылке, ходя на работу через две улицы от маминого дома, читая книжки или валяясь перед телевизором тогда, когда был выходной. Пустая жизнь никчемного человека. Что ж, таких много. Не всем же бизнесы строить. В маминых глазах Лавров ловил жалость, но старался об этом не думать. В конце концов, матери всегда жалеют своих детей. Даже если те олигархи.
Лавров если и не привык, то как-то притерпелся к мысли, что Веры больше нет. Думать про это ему стало неинтересно. Но, проснувшись будто от внезапного удара, он понял, что думать все равно придется. Теперь Веры не было вообще. Физически не было. Два дня назад Веру убили. Задушили шелковым шарфом Луи Виттон, и если бы Лавров мог, то по достоинству оценил бы эту насмешку судьбы.
Но Лавров ничего смешного в случившемся не видел. С некоторым изумлением он понял, что считается чуть ли не подозреваемым номер один. Ни у кого, кроме него, не было мотива убивать Веру. Выйдя замуж во второй раз, она первым делом бросила работу. Так что коллег, способных замыслить недоброе, у нее не было. Со вторым мужем она не ссорилась. Подруги, с трудом пережившие ее головокружительное счастье и богатство, все как одна, имели алиби.
Впрочем, у самого Лаврова алиби тоже было. В тот день, когда убили Веру, он как раз дежурил и весь день просидел в своей будке. Вот только теоретический шанс ненадолго отлучиться со своего поста и смотаться в город у него имелся. Дежурил в этот день Лавров один, отпустив напарника, у которого родила жена. Шлагбаум жильцы поселка поднимали и опускали сами, редко прибегая к помощи, и в тот день никто не заходил к нему, чтобы перекинуться парой слов. Большинство жителей поселка считали ниже своего достоинства разговаривать с каким-то там охранником.
Мама в день убийства рано утром уехала в город и вернулась чуть ли не в десять вечера. Ее эвент-агентство выступало организатором общегородского конкурса толстушек, поэтому занята она была под завязку. В общем, Лавров в глазах оперов и следователя выглядел крайне подозрительно, поскольку новый муж Веры, ее подруги, те самые, у которых было алиби, а также бывшие коллеги самого Лаврова в один голос твердили, как убивался он после развода, как пил по-черному и как мрачнел и зверел на глазах, когда речь заходила о Вере. Он сам точно знал, что ее не убивал и даже не собирался, но в глазах всех остальных читалось сомнение. Безоговорочно ему верила только мама.
Для того чтобы обезопасить себя, нужно было найти убийцу Веры. Это было совершенно понятно в теории и совершенно невыполнимо на практике. Когда-то, в прошлой жизни, Лавров считался неплохим опером, но сейчас с горечью понимал, что все его навыки безвозвратно утеряны. Дело Веры он, конечно, раздобыл на десять минут и почитал. Коллега Ванька Бунин, с которым Лавров в прошлом приятельствовал, пошел на должностное преступление и дал посмотреть материалы. Вот только ничего, проливающего свет на случившееся, Лавров там не нашел.