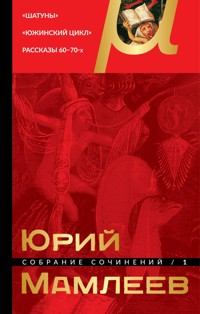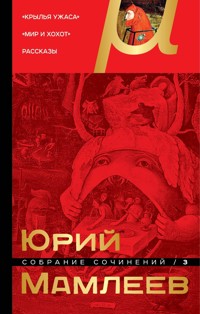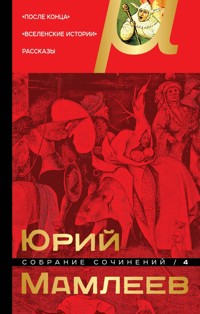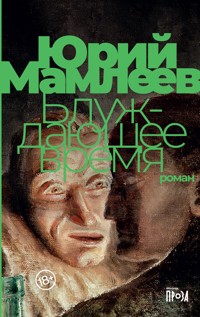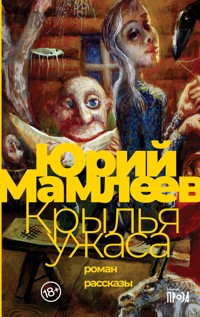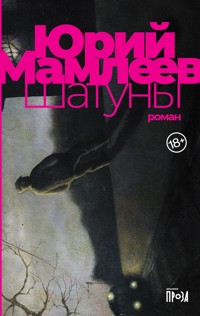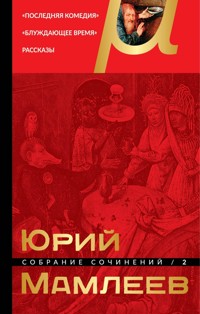
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Юрий Мамлеев — родоначальник жанра метафизического реализма, основатель литературно-философской школы. Сверхзадача метафизика — раскрытие внутренних бездн, которые таятся в душе человека. Самое афористичное определение прозы Мамлеева — Литература конца света. Жизнь довольно кошмарна: она коротка... Настоящая литература обладает эффектом катарсиса – который безусловен в прозе Юрия Мамлеева – ее исход таинственное очищение, даже если жизнь описана в ней как грязь. Главная цель писателя – сохранить или разбудить духовное начало в человеке, осознав существование великой метафизической тайны Бытия. Во 2 том Собрания сочинений включены романы "Последняя комедия", "Блуждающее время", циклы рассказов.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Юрий Витальевич Мамлеев Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
© Мамлеев Ю.В., наследник, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Последняя комедия
Предисловие к роману «Последняя комедия»
В этом романе в каждой главе описывается определённая метафизическая, или «оккультная», ситуация. Так, в первой главе («Небо над адом») рассказывается о человеке, попавшем под воздействие дьявольских сил, последняя глава («Боль № 2») посвящена встрече человека с Великим Неизвестным. В «Эпилоге» дана заключительная картина, которая объединяет все главы.
Особо следует остановиться на третьей главе («Как вверху, так и внизу»). В ней говорится о Мессии, Богочеловеке по имени Панарель, и секте, которая не приняла его. Основной мотив этой главы – трагический разрыв между Богом и миром. В конце концов сектанты убивают Панареля, но убивают потому, что возлюбили его: они не могут вынести этой любви, которая несовместима с их тёмной сущностью («он так прекрасен… Ничего подобного в миру не было»).
Т. Горичева очень точно описала этот момент в своей рецензии: «Одержимые злой волей, сами себя наказывают, не в силах перенести силу более мощную, которая светится на дне сколь угодно глубокого кенозиса, пробивается через последнюю человеческую нелепость».
В целом этот роман – космос встреч человека со сверхъестественным.
Глава I. Небо над адом
Старичок был толстенький, пузатенький, с мертвенно-красным носом и лиловыми подтёками на лице. Взгляд его был мрачен и фантастичен. Он знал, что скоро умрёт. Особенно это знание поразило его, когда он один раз взглянул на себя в огромное, бездонное зеркало, которое висело у него в ванной. «Неужели и моё привидение тоже исчезнет?» – подумал он. Но больше своего привидения ему стало жалко тело, поскольку оно было его, особенно задницу, которая перед смертью распухла у него с добрую лошадь. Вид этой задницы в зеркале холодеюще умилил его. Он дотронулся до неё рукой, как будто она не могла исчезнуть. Однако отражение было потенциально стирающимся. Ещё раз взглянув на своё тело, он завыл. Так и выл посреди полотенцев, мыла и зубного порошка. Было страшно потерять себя – потерять себя после смерти. Он попытался думать, стараясь медленно выпрыгнуть на тот свет. Ему хотелось, чтобы это течение его мыслей продолжалось и в том мире. Тогда бы он сохранил себя.
Но пока он не умирал.
Невозможно было думать всё время, нужно было припасти остаток мыслей на самый конец, чтобы выпрыгнуть, выпрыгнуть, выпрыгнуть!.. Кроме того, своё тело всё время приковывало его внимание. Пухлые ручки. Белые, женственные, которые он поднял вверх, как бы для защиты, так не гармонировали со старчески-твердеющим телом. Взгляд его тупо застыл на собственной заднице. Он стал, словно наездник невидимого.
Вообще, самое главное, что было в прошедшей, многолетней жизни Мироедова (так звали старичка) – это дьявольские плевки, плевки в изображение Бога, которое в виде иконы висело у него в комнате под горшочком с цветами. Правда, последнее время на иконе ему виделась (словно по наваждению) кошачья мордочка, причём с папиросой в зубах. «Приидите ко Мне, труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас».
В сочетании с кошачьей мордочкой эта надпись особенно веселила Мироедова своей наглостью. Не раз он одиноко принимался плясать вокруг этой «иконы», переваливаясь и хрустко давя клопов. Иногда махал невидимому платочком. Вообще, ему казалось странным, что кошки адекватны Творцу. Не раз поэтому он пытался ловить их за хвост. И страшно причитал при этом.
Но сейчас всё это осталось позади. Собственная смерть чудилась ему существенней бытия Бога. Он видел её в провалах окон, в бездне, открывающейся в небе. Волосы шевелились у него на голове. Он чувствовал всем потеющим телом её приближение. Казалось, от страха, который не мог осознаваться полностью, настолько он был ужасен, сперма капала с его языка. Часто, в полусне, он ползал по полу, слизывая пыль, стараясь соотнести свою смерть с чем-нибудь нормальным, вроде пола.
Но исчезающее тело своё он жалел всё больше и больше. Точно его тело стало для него Богом, который сошёл с ума.
Дёргаясь ляжками, он думал о том, что этих токов не будет на том свете. Часто он заворачивался в одеяло. И пытался спать целыми днями. Чем ближе приближался конец, тем более застывал его разум, пытаясь быть вне осознания смерти. Единственное, что Мироедов истерически совершал, было нервное и вместе с тем субстанциональное поглаживание собственной задницы, у которой он словно вымаливал прощение за то, что умирает и расстаётся с телом. Он чуял смрадно-сладострастное воздыхание своей плоти, воздыхание, которое мутило мозг последним чувственным желанием – броситься на себя. Казалось, зелёные миазмы, угрюмо-эротические и в то же время потусторонние, исходят из его постели, в которой он корчился, умирая. Ему хотелось поцеловать собственный зад. Тысячи ощущений он вкладывал в это своё поглаживанье. Здесь роилась и слеза, и страх потерять себя, и прощание с собственным живым куском, и неопределённость конечного итога. В конце концов он гладил потому, чтобы заднице было теплее в могиле. Именно теплоты он жаждал больше всего. Тело становилось для него нежной грелкой, которая согревала его душу, отстраняя внебожеский холод абсолютного одиночества.
И теперь ему приходилось расставаться с этой грелкой. По стуку сердца он чувствовал, что конец рядом. Ощущая себя уже совсем в могиле, он ещё истеричней гладил и согревал зад, пытаясь умилить себя и этим безнадёжным, как слеза засохшего детского трупа, умилением хоть немного смягчить собственную смерть. Не имело смысла вызывать врачей (всё было неотвратимо) и вообще брать нечто несуществующее от ненавистной, тупой и автономной галлюцинации – внешнего мира. В него можно было только мочиться – мочиться неиссякаемой потусторонней струёй, пока потусторонность не зальёт этот идиотически кривляющийся лик.
Старик не успел ни о чём подумать, как умер. Он только судорожно вскинул руку к отекающей заднице, чтобы проститься, но не успел дотянуться. Рука с белыми оттопыренными пальцами дёрнулась и застыла, точно наткнувшись на небытие.
…Потусторонний восход его сознания был дик и сумрачен. Целый свод, целая вселенная виделась ему, но словно в полумраке его залитого отчаяньем духа. Вместе с тем была некоторая инфантильность, странная инфантильность загробного мира. Ему почудился некий дурацкий писк, вроде бормотанья «ну те, ну те», но потом всё смолкло и отодвинулось. И он увидел собственный труп. Ярко, зримо, обыденно, как видят труп лошади на залитой солнцем лужайке. Мир и пространство, казалось, целиком зависели от его сознания, а его сознание метнулось к этому трупу, как к кубку шампанского. Да и всё вокруг было слишком сумрачно и отчуждённо. Однако собственный труп не казался отчуждённым. Наоборот, в нём было что-то бесконечно-умилительное и трогательное, как в трупе собственного ребёнка. Конечно, в конце концов можно было существовать и без плоти. Нет ничего проще, чем абстрагироваться от собственного тела. Но эта жуткая чуждость и потерянность потустороннего! Он даже не пытался понять, что его ждёт в конечном итоге. Был только холод и страх от ощущения, что он не умер, а сошёл с ума, вернее, умер и сошёл с ума одновременно. Чуждость всего, его оторванность и вместе с тем присутствие в его душе казались диким переворотом, поставившем всё вверх дном. В уме зияла мысль, что спасения не существует и впереди ждёт только абсолютная тьма и саморазрушение. Мучительно хотелось на что-то опереться и замкнуться в подлинном самом себе. Вместе с тем прежние бесконечные привязанности клокотали в душе. Это присутствие совершенно неизменного своего сознания посреди целиком изменившегося мира ввергло его в бесконечную дрожь. Одновременно он осознавал, что он – гений.
Внутренне старичок завыл.
И потом, это чувство, чувство к собственному трупу!
«Люблю», – произнёс старичок бесплотными устами, глядя на своё, точно выкинутое из него, тело.
«Люблю», – произнёс он, ужасаясь, и слёзы залили его душу. Но от слёз был уже только холод.
Он ринулся к собственному трупу. «Ведь я теперь невидим для живущих», – почему-то мелькнуло в его уме.
«Люблю-с», – залило его до глубины.
Но неприспособленность к условиям нового мира и бредовость его чуть остановили Мироедова. Он с сумасшедшим любопытством вглядывался в собственное тело, которое он видел, наконец, полностью, но уже не в зеркале.
Труп был удивительно похож. Он даже мысленно сравнивал его со своими фотографиями. Вот и рубец, который он получил в детстве, упав с крыльца. Немного пугающ был нос, который выделялся слепым кукольным клювом, точно в спокойствии ловя невозможное. Старичку захотелось сдёрнуть его с самого себя. Но это было почти кокетство. Мироедов, если только можно называть его так на том свете, даже улыбнулся. В остальном лицо было захолустно, и волна жалости затопила «старичка» (старичка, разумеется, теперь в кавычках).
Оглядевшись ещё раз и ужаснувшись, покойник почувствовал неодолимое желание изнасиловать свой труп. Изнасиловать, разумеется, в лучшем смысле этого слова. От избытка любви. «Мой домик», – возопил он, как потерянный. Необходимо было только приспособиться и осознать, что, хотя он уже на том свете, это ещё не значит, что он не живой-с. И что специфическим способом он может испытывать загробно-эротическое наслаждение, причём связанное с определённым объектом. Его единственный, желанный объект был его собственный труп.
Он видел, как бы в качестве теней, людишек, ещё пребывающих в земном, так сказать, светском мире. Но понимал, что они его теперь не ощущают и не видят и он может спокойно упиться своим трупом. Хотя этот труп видеощущался им уже иным, чем «живым» людям, важно было, что это его труп, и он в стоне решил не упускать свою добычу. Более того, он вдруг почувствовал, что может вступить в контакт со своим трупом и вообще видит его более тайную, неземную и скрытую от плотских людей сторону.
Ему даже показалось, что труп по-особому, понимающе улыбнулся своему бывшему обладателю. Но так, что, безусловно, никто из живущих не мог видеть этой улыбки. Единственное, что его раздражало, так это слезливая привязанность к трупу его бывших друзей. Он почувствовал в этом что-то нехорошее. Правда, его друзья были достаточно странны, особенно в эмоциональном отношении. Он и на земле ждал от них всяческих подвохов. Но теперь, после его смерти, они совсем осатанели.
Пока труп прибирали, пока он находился в своей комнате, все эти старички и старушки (впрочем, было также двое молодых людей) словно вцепились в своего дружка, так странно преобразившегося. У них не было никакого страха перед покойником, и они, как мухи, облепив его, жужжали вокруг. Чего они хотели? Было непонятно. Их извивные руки всё время тянулись к трупу; то ли они старались ущипнуть его, то ли, наоборот, обласкать. Один даже плотоядно похлопал его по животу, как будто труп только что сытно пообедал. Мироедов – с того света – дико ревновал свой труп. «Чего им от меня надо?» – слёзно застревал он. Но старички то ли не признавали труп за труп, то ли ощущением его как предмета пытались доказать бытовую иллюзорность смерти.
Давний друг Мироедова, толстомордый пожилой человек в пенсне, прямо-таки впился в лицо, скорее даже в нос, синий, кукольный нос трупа, и всё время его подёргивал. Родственников у старичка не было, и он весь был во власти своих друзей. Мироедов уже было совсем нашёл тайные пути к контакту со своим трупом, но вид нервных, озабоченных, охваченных какой-то параноидальной извивностью людей отвлекал, раздражал и озадачивал его.
«Кыш, кыш, кыш!» – хотелось крикнуть ему на всю комнату. Неожиданно старички заперлись на ключ. Душа Мироедова похолодела. «Хотят изнасиловать», – подумал он. «Не отдам, не отдам, не отдам!» – завопило в нём всё. Но между тем старички и старушки, извивнувшись и как бы проплясав нелепый танец вокруг трупа, бросились друг на друга в свальном грехе. «Ах, вот оно что!» – изумился Мироедов.
Людишки тем временем, охваченные поˆтом и внезапно появившимся страхом перед трупом, сладострастно впились друг в друга. Комната мгновенно превратилась в сумасшедший дом: полуголенькие, с обнажёнными, старческими, но ещё резвыми задницами люди, визжащие друг в друга; холодный и невозмутимый труп Мироедова с кукольным синим носом, торчащим из гроба наподобие члену; и сам Мироедов, невидимый и неслышный для всех, но «орущий» от ужаса с того света.
Одна старушонка, сцепившаяся с молодым человеком, чуть ли не залезла под стол, на котором покоился гроб, и раза три лягнула труп голой задницей. Мироедов – с того света – готов был убить её в отместку – хотел, но не мог. «А я ещё был влюблён в неё целых полжизни и несколько раз хотел удавиться», – застонал Мироедов, пытаясь укусить свою душу.
Наконец, не дождавшись конца хохотливой оргии, он погрузился в сладостный, смертный сон.
Своим неистовым сладострастием и причастностью к нему трупа старикашки как бы доказывали ненадёжность смерти как ворот, ограждающих от бездны. Кто-то, уходя, опять толкнул труп задницей. Но у всех были очень весёлые и мокрые лица. Одна старушонка даже грызла трость, не в силах успокоиться от внутреннего похотливого визга. Кто-то мокрый от страха унёс сыр вместе с иконой.
Когда Мироедов очнулся, в комнате, по земному определению, было темно. Он видел, что никого рядом с покойником нет. У него возникло желание стать вечным стражем вокруг своего трупа. И, как потусторонняя сова, – одним взглядом – охранять свой покой от сладострастных поползновений. И он действительно застыл около собственного трупа, обратив всё своё существо в загробный взгляд, исполненный ненависти к живущим. «Это моё», – говорило всё его существо. Вдруг в комнате скрипнула дверь. Душа старичка напряглась от чудовищного ожидания. Он судорожно захотел сделать знак, знак, доступный живущим, что он присутствует. Но в комнату вошла одна кошка. Она жалобно мяукнула, словно шла на свидание с необычным котом или просто с трупом. Но, почувствовав неладное, она опрометью – шерсть встала дыбом – выскочила из комнаты…
Наутро Мироедова положено было хоронить. Процессия была весёлая, суматошная, с маханием солнечными зонтиками и со всеми друзьями, которые извивались вечером в свальном грехе. У Мироедова полегчало на душе. «Скоро похоронят, – облегчённо подумал он. – Там, в могиле, никто не помешает». Кроме того, и с самим трупом контакт восстанавливался, правда, весьма необычно и пока односторонним образом. Мироедов чувствовал, что его труп – неслышно для окружающих – истерически, но по-каменному хохотал, пока его несли в гробу к могиле.
Перед исчезновением, когда раздалась страшная и надрывающая душу музыка, одна старушка – из тех, что были вечером – прямо-таки упала в гроб, всем похотливо-слезливым личиком, как будто труп долгие годы был её лучшим любовником; с какой-то безотносительной наглостью она облизала всё лицо мироедовского трупа шершавым, влажным и трясущимся языком. «Пошла вон, стерва!» – прошипел сам Мироедов, уже предвкушая свою победу. Старушке же, наоборот, послышалось «Не уходи!», и она завыла, вцепившись костлявыми руками в волосы трупа. Золотое кольцо нервно блестело на солнце, около трупных волос.
Мироедов при, так сказать, жизни очень не любил эту старушку, но знал, что она была влюблена в него с двадцатилетнего возраста. Он – если бы мог – с удовольствием прогнал бы её со своего трупа пинком ноги, как прогоняют собаку с тела любовницы. Та старушка, которую на протяжении половины жизни любил сам Мироедов и которая вчера лягала его труп голой задницей, не пришла, так как уехала на юг с любовником – близким другом Мироедова.
Итак, нелюбимая старушка выла дурным голосом около трупа, друзья пугливо хмурились, предчувствуя своё будущее, звучала торжественная, мрачная, доводящая до абсурда своей безнадёжностью музыка, труп мелко и невидимо хохотал, мяукал кот, принесённый кем-то в авоське, а сам Мироедов мучился от нетерпения и ждал, когда всё это кончится – и он очутится один в могиле, вместе со своим трупом. На этот раз навсегда. Когда на крышку гроба тяжело и грубо стали бросать комья чёрной и влажной земли весёлые и неповоротливые могильщики, на Мироедова нашло временное затмение. Возможно, он ещё не успел отучиться от земных ассоциаций. Но когда всё опустело, и над могилой покойника чирикали только птички, Мироедов, осознав, что земля и гроб для него теперь не препятствие, радостно завыл и злобно, но мысленно харкнув по адресу удаляющейся нелюбимой старушки, быстро юркнул в могилу. И тут случилось нечто совсем несусветное. Труп тоже завыл – разумеется, по-загробному – и как бы простёр к Мироедову свои непонятные пустеющие руки. Мироедову даже показалось, что труп по-настоящему оживает; что щёчки его порозовели и глаза наполнились слезами, что животик колышется; потом ему почудилось, что труп, ринувшись навстречу, стал поедать его, Мироедова, поедать без остатка, содрогаясь и стараясь вобрать его – своего бывшего владельца – целиком в себя. Только впоследствии, уже очнувшись в собственном трупе, Мироедов понял суть того, что с ним происходило. Труп подмигивал и хохотал, пока его несли, а потом и пожирал собственную душу, именно потому, что и сам Мироедов, из любви к своему трупу, фактически присутствовал в нём частью своего сознания, хотя в основном был уже отделёный от него. И, таким образом, он хохотал и перемигивался сам с собою. Поэтому живущие на земле и не могли слышать хохот хоронимого ими трупа, так как в физической сфере труп был мёртв, а хохот раздавался в сознании Мироедова, частично спроецированном в собственный труп. Который он тем самым оживлял, однако же, главным образом, для своего восприятия или уж для восприятия нечеловеческих существ.
И, наконец, очнувшись в трупе, Мироедов понял, что он не воскресил этим своё тело, а просто душа его присутствует в нём как во внешнем для неё месте, как, скажем, человек присутствует в лесу, и, с точки зрения земного мира, труп его по-прежнему мёртв и недвижим.
Но это нисколько не разочаровало его. Пожалуй, наоборот. Возможность ощущать свой труп как объект или, во всяком случае, как полу-объект (потому что некоторые мутные и непонятные, но живые и потусторонние связи между душой и разлагающимся телом всё-таки возникали) позволила Мироедову и привычней, и адекватней выразить свои любовные чувства к трупу. Он даже захохотал от восторга, и его хохот, распугав гномов, отдался странным эхом в его мёртвом мозгу. И началась восхитительная любовная поэма. Мироедов, находясь в собственном трупе и никем не встревоженный, обнаглел и стремился до конца обнажить свою страсть. Какие-то странные токи связали его с трупом, и вместе с тем он, находясь там, был отделён от него.
Небо – бездонное небо ада – открылось ему. Где были души других людей? Может быть, он опять общался только с самим собой? Или они превратились для него в символы? Он чувствовал это небо краем своего сознания и, страшась потонуть в нём, ещё судорожней впивался в своего разлагающегося любовника. Он испытывал нечто похожее на земной оргазм, но только в холоде и в духе. Труп, оживлённый его присутствием, подобно Лауре, воссозданной воображением Петрарки, очаровывал его. Воспоминания, как змеи, влекли старичка в каждый уголок его тела. Вот член, мёртвый, бессильный, с мухой внутри, но какой же он, голубчик, с того света! Вот брови, которые столько раз изгибались от страха перед смертью; вот глаза, которые с ужасом смотрели на мир; а вот кровь, кровь, запёкшаяся во рту, который когда-то пожирал живое, содрогаясь в вампирической страсти; рот, который был орудием убийства и пожирания – для себя, для себя! – но ведь и теперь, мёртвый, холодный, он также достоин нечеловеческой ласки, хотя бы за то, что там, на земле, он был одним из самых совершенных кругов наслаждения – наслаждения для себя. Старичок силою духа пытался внести жизнь в пустующий рот своего трупа; чтобы хоть на мгновение увидеть его сладострастное шевеление в гробу – чтобы проглотить, проглотить хотя бы формально, хоть толстого червя, ползающего по родному личику. Личику, которое так любило нежиться в пуховой постельке! Ах, ему самому в своём гниющем трупе было так хорошо и уютно, как в постельке!
Но мёртвые токи будили трагические ощущения. Иногда он добивался еле чувствуемого содрогания мёртвой задницы – содрогания, которое вводило его в потусторонний оргазм. И это подрагивание заменяло ему музыку сфер – музыку, ставшую столь чуждой его изломанному и ставшему на дыбы сознанию. Мёртвый зад распухал, заслоняя собой Бога. Он не мог не наслаждаться им – наслаждаться со всем неистовством потустороннего. Ему казалось, что он ощущает даже трупный пот, как будто бы выделяющийся на заднице, и этот пот был ему сладок, как слёзы Абсолюта. И он выл, выл из родимого трупа, заслоняя своим вознесённым существованием исчезающий мир.
Между тем в трупе оживали картины его прошлого. Вся его жизнь, как во сне, проходила мимо него. Но он впивался в каждую клеточку своего трупа – точно в ней, в этой разлагающейся клетке, было заложено бессмертие. Разговаривал с ней, выжимал слюну, и каждое ощущение, каждый мысленный акт был погружён в вечность. «Ха-ха! Люблю! Ха-ха! Люблю!» – кричал старичок, брыкаясь в самом себе (иногда на него находили шизофренические капризы!).
Иногда труп для него принимал форму девы – девы с его чертами лица (точно он сам раньше был девой), но с некоторой идеальностью, идеальностью небесной эротики, незримо присутствующей на её сизом трупном лице. «Мой труп – дева! Мой труп – дева!» – орал Мироедов из своего гроба. Но даже птички не слышали его. Но и ему было не до этих галлюцинативных птичек.
Впрочем, он уже не мог отличить свой труп как труп и свой труп как деву. Его бесчисленные поцелуи – поцелуи в чёрный рот собственного трупа – убаюкивали его, как верующего самой древней и странной религии. Этот нарциссизм небытия, тем не менее, был причастен Абсолюту. Почему труп не разлагался до конца? Несомненно, страстные поцелуи его бывшего обладателя сохраняли его на физическом плане. Старичку даже показалось, что труп приоткрыл глаз и этим чёрным, точно провалившимся в бездну глазом смотрел на то, что абсолютно непонятно. Мёртвый зад выделял духовные испарения, испарения, в которых было столько теплоты, нежности и секса и вместе с тем потустороннего ужаса, что старичок, постанывая, прямо-таки купал свой дух в этих испарениях. Он плыл в них, как в облаках, окружающих мысль Бога. И вместе с тем сознание, что эти испарения исходят из его собственной, пусть мёртвой, но всё-таки его задницы, придавало душе Мироедова дьявольское, бесконечное умиление. Старичок даже облизывался в духе. Созерцая свой мёртвый зад с небесной высоты, он лил сладострастные слёзы, и ему казалось, что его задница оживает, пламенеет и, как вечерняя звезда, восходит над пустым миром – восходит из земли, из могилы, из мрака! – подобно сокровенному спасению. Иногда он даже впадал в квази-слабоумие от нечеловеческого восторга. «Господи, какая она стала розовенькая, как поросёночек! – хихикал он, извиваясь. – В ней столько же самосознания, как и в духе… Это только с виду она телесна! Я вижу в ней бесконечность и свои лики, свои бесчисленные, родные лики! И потом, эти изгибы, эти линии, которыми я так упивался при жизни! От неё шло столько токов! Больше, чем от сердца! Даже когда я садился на стульчак!»
Он помнил, как раз – при жизни – задница спасла его от гибели. Потому что именно ею он, один, в поле, почувствовал за пять вёрст присутствие убийцы и побежал, стремительно побежал, спасая свою жизнь. «Даже обычная интуиция тут бы не помогла», – говорил он потом друзьям.
«Не поминай имя Властителя всуе!» – покрикивал он на себя, когда слишком часто вспоминал о своей заднице.
И тогда успокаивался. Мёртвый мир окружал его. Он не знал, что уже не принадлежит теперь к человеческому роду, что он вошёл в новую, странную форму бытия; а он всё наслаждался и наслаждался своим трупом и, казалось, этому наслаждению не будет конца, как не будет конца самому Богу. Только небо – чёрное, бездонное небо ада с его прозреваемыми в высоте провалами, провалами, которые уходили в высшую тьму и втягивали даже богов – простёрлось над ним.
Это было небо над адом – над вечным, непостижимым адом, терзающим всё живое, и божественная чернота этого неба, которая поглощала все страдания, исходящие из адской тверди, была непроницаема, как улыбка Бога.
Глава II. Шиши
Объявилось лето. Марья Ивановна Доилкина со своей подругой Катюшей шла по глухому парку. Марья Ивановна представляла себя толстой бочкой, наполненной веселием. Но отчего только дрожат листья на деревьях? Доилкина объясняла это тем, что за веселием скрывалась пустота, о которой она всегда боялась думать. Катюша была тоже раздута, как арбуз, но с дурцой во взгляде и даже в некотором роде в лице; лоб и правда нависал на глаза твердокаменной задницей, а подбородок выделялся жирно-острым углом, так что промежду лба и подбородка была впадина, в которой и произрастало само лицо с бегающими, затуманенными небесной грязью глазками. Соблазняла также лохматость всей головы в целом. Зад напоминал отвислую, непомерно большую физиономию, прикрытую, однако ж, платочками.
Воздух был напоён невидимым мраком. Солнце так нежило похотливые тела женщин, что они готовы были броситься сквозь это невидимое. Марья Ивановна вслух учила геометрию. «Хо-хо-хо!» – кричала иной раз Катюша. Всё было поразительно нормально.
Подруги подошли к огромному деревянному клозету, стоявшему у пыльной дороги наподобие дворца. Он был разделён на две половины, мужскую и женскую, и был так грязен и в полутьме, что как только подруги вошли, им показалось, что на них что-то опустилось. Катюша тоскливо осматривалась, пока Марья Ивановна гадила. Стояла угрюмая тишина.
– Бумажки вот, жаль, нету, – вздохнула Марья Ивановна на толчке.
В это время в дыру, которая светилась между досок, отделяющих мужскую половину от женской, просунулась огромная мужичья рука с ворохом бумаг в кулаке. Кулак был сер, самодовлеющ и в чёрных, гривистых, как у хорошего льва, волосах. Человечьего голоса, однако, не раздалось. Рука же, точно оторванная от её обладателя, застыла с комком листов. Впрочем, чувствовалось дыхание чьей-то мёртвой любезности – там, за перегородкой.
Марья Ивановна вскочила с толчка. В глазах её выражался непомерный ужас. Путаясь в белье, одёргиваясь на ходу, она побежала по дороге. Быстро, быстро, не оглядываясь и покрикивая в кошмаре. Катюша трусила за ней.
Из мужского клозета, однако, никто не выходил, и дверь в него была до мертвенности неподвижна.
Марья Ивановна бежала и вопила; потом начала бежать молча, но в этом было уже что-то угрюмое и бесповоротное, точно нарушилось равновесие в мире и вылезло нечто ужасное, тёмное и липкое.
– Да погоди же ты, трусоватая, – задыхаясь от быстрого бега, останавливала её Катюша, дёргая за руку. – Давай вернёмся… Может, мужик-то хороший… Ну, чего ты испугалась? Давай вернёмся и познакомимся.
Марья Ивановна остановилась. Неподалёку были уже дома, и уборной за лесом не было видно. Но лицо Марьи Ивановны было скошено в какой-то беспричинной бесповоротности.
– Катя, никогда, понимаешь, никогда не говори мне об этом случае, – сурово, по-мужски, оборвала она.
– Тьфу ты! Да может, я счастье своё там потеряла, твоему страху поддамшись, – скуксилась Катюша и топнула слоновьей ножкой.
Лицо её сдвинулось в том смысле, что лоб ещё больше округлился и лицо провалилось под него. Только глазки по-лохматому блистали из телесной бездны.
– Ох, какая ты недотрога, – вздохнула она. – Я вот иная птаха.
До дому шли молча. Молча открывали дверь, ведущую в узкий проходной коридор. Домик был одноэтажен, деревянно-старенький, с оконцами-глазками, и делился на две половины: в одной, как всё равно две сестры, жили подруги. На подокошках стояли цветочки, прикрытые от внешних взоров уютными занавесками.
Марья Ивановна начала драить комоды. Сама по себе – внутренне – она ещё больше пыталась раздуться, словно хотела допрыгнуть до солнца. Только боялась тихого шелеста занавесок за своей спиной. Катюша же совсем сморщилась: глазки глядели внутрь себя, а голос – словно из души – говорил:
– Недоглядели мы чего-то, недоглядели… Ох, озорницы…
Она бродила по комнате, как вслепую, швыряла ногой попадающееся и всё бормотала. Что потеряла своё счастье. При слове «счастье» она улыбалась так, что становилось жутко.
Кириллов между тем одиноко сидел – во тьме, у клозета. Когда дамы ушли, он не понял. Спустя вышел на свет, в лес. Потянулся и сделал вокруг себя гимнастическое упражнение. Был он приземист, весь в чёрном, словно и тело его было чёрное, но лицо, однако ж, выглядело бледным, как обычно; правда, само оно было маловыразительно: как будто что-то в нём было чересчур и потому спряталось. Когда прыгал он вокруг себя, порой головой вниз, то был похож на прыгающую чёрную точку. Опростившись и как-то съёжившись, пошёл вниз по дороге. Шёл медленно, где-то застревая. Когда же вышел к городу, где дома, оживился. Бойким и точным глазом, как говорят, интуитивно, нашёл дом, где прятались подруги. Крякнув, пошёл туда…
Марья Ивановна и Катюша пили чай вприкуску. Тихо мурлыкал кот, сквозь сон видевший демонов. Горела древняя, притемнённая лампа: для уюта. Манила к себе пухлая, большая кровать с пятью подушками: подруги были духовными лесбиянками (правда, на сие время разведёнными).
Вдруг раздался стук в дверь. Марья Ивановна выглянула в окно: солнце уже садилось. «Кого это несёт», – подумала она.
– Кто? – спросила она у двери.
– Из Госстраху, – раздался надтреснутый, словно его разрубили топором, голос.
«И вправду, кругом пожары, – подумала Марья Ивановна. – Как бы совсем не сгореть».
И открыла дверь.
Перед ней стоял улыбающийся, весь в чёрном, приземистый человек в полувозрасте. Руку он поднял вверх, как бы приветствуя Марью Ивановну.
– Проходите, – сказала она.
Человечек увёртливо проскочил вперёд. Оказавшись перед Катюшей, он даже руки расставил от радостного изумления.
«Из Госстраха, – подумала Марья Ивановна. – То-то мне дети снились; значит, и взаправду к диву».
Пришлось зажигать верхний свет. Кот, недовольный, поплёлся в другую комнату.
«Господи, до чего же оне грязны, словно у меня в заднице, – неприязненно прошипела про себя Марья Ивановна, оглядев незнакомца. – Как это я сразу не заметила. И ширинка не застёгнута, тоже мне агент. Впрочем, всё бывает».
Катюша же, присмотревшись к неизвестному, глядела на него волком.
Кириллов вёл себя тихо, словно летел. Чёрный макинтош его распахнулся, и он чего-то деловито вертелся, ничего не делая.
– Ну? – тупо спросила Марья Ивановна, прислонившись животом к обеденному столу.
Бледное, протяжённое лицо незнакомца поворачивалось из стороны в сторону.
– Вещички осмотреть бы надо, – пробормотал он.
И, не дожидаясь согласия, подошёл к шкапу, в котором хранилось обычно что-то неопределённое. Подошёл и вдруг стал обнюхивать его, обнюхивать каждую щель, поводя своим, вдруг оказавшимся длинным и пропито-безжизненным, носом. Нос на глазах у подруг стал всё больше и больше синеть. Глаза Катюши смягчились; только поглядывали чуть вкось, на какие-то паутинки.
«Ненормальный какой-то», – спокойно подумала Марья Ивановна.
Человечек всё более удалялся в сторону, искоса бросая взгляды на стены и потолок, может быть, на лампу. Ощупывал занавески.
Оказавшись на полукухне, полузакутке, который, однако, был хорошо виден подругам, он, открыв крышку, заглянул в кастрюлю с супом. Улыбнувшись, оставил всё как есть.
«Да он голодный, – догадалась Марья Ивановна. – То-то такой оборванный. Небось недавно работает».
Катюша почесала зад.
– А это что? – вдруг воскликнул Кириллов, доставая из-под кровати пыльную галошу. – А это что?
Он поднял её наверх, на уровень лица, и подмигнул Марье Ивановне.
– Галоша, – ответила она.
– Да ну??? – съязвил Кириллов, швыряя галошу обратно под кровать.
– Да она недорого стоит теперь; совсем копейки, – вздохнула Марья Ивановна, и её женственный взгляд вдруг затвердел, словно она не видела вокруг ничего.
– Ну да ладно, пустяки, – бросил на ходу Кириллов. – Не будем.
Марья Ивановна огляделась. Всё шло своим чередом. Катюша стояла у окна и чесала, рукой внутрь, свою жирную спину. Лицо её было отсутствующее и как бы в синеве, которая, впрочем, пропадала у самого интимного места: у впадающих внутрь тела глаз.
Кириллов лихо подскочил к столу. Скинул макинтош.
«Сейчас будем оформлять», – подумала Марья Ивановна.
Кириллов сел и виделся ей со спины; вдруг она заметила, что из кармана его брюк (из того, что находился на какой-то необжитой его заднице) торчит пучок тех самых бумаг, которые предлагала ей огромная рука в земляном клозете.
Как небом поражённая, Марья Ивановна воскликнула:
– Это он!
Человечек, однако, не обратил на её слова никакого внимания; он словно ворошился в пустоте.
Марья Ивановна глазами указала Катюше на торчащий пучок бумаг и повторила:
– Это он.
Лицо Катюши засветилось в смрадной полуулыбке; свет пронзил её изнутри до самой кожи; она взвизгнула, но внутрь себя, так что крик был не слышен. Взгляд её упал на огромные руки приземистого гостя: они были в точности схожи с той.
Наступило молчание.
– Оформилось, – вдруг бодро произнёс Кириллов, подавая Марье Ивановне пустой листок бумаги. – Подпишите.
Марья Ивановна остолбенело заглянула в чистый лист, словно в зеркало, и скованно-грубым, словно не её движением руки поставила подпись: «хуй».
Кириллов удовлетворённо кивнул головой.
Марью Ивановну объял такой ужас, что ей почудилось: её тело почернело, и волосы на голове и внизу стали, как проволока. Она хотела было встряхнуться, да не могла; душа словно заледенела, и мысли в ней поникли, как на похоронах. «Да ну», – всё хотела она вскрикнуть, но крик гас в самом начале. Катюша же, напротив, выглядела веселей; глаза её светились из-под нависшего лба, как лихие демонические точки; рот кривлялся, и только что не срывались весёлые, матерно-богохульные словечки. Пальчики её извивались и теребили свой живот.
Кириллов вдруг стал непомерно угрюм и мрачен; Марье Ивановне показалось, что волосы его стали дыбом, в то время как именно он навевал на всех страх, а не его пугали, спина сгорбилась, и глаза строго осматривали пространство.
«Господи, до чего же он строг!» – подумала Марья Ивановна механически, но так, что по коже прошёл мороз.
Катенька невпопад сделала слабую попытку заигрывания: она вдруг подошла к Кириллову и похлопала его по спине, заранее, в улыбке ожидая кокетливый ответ; однако ответа не последовало, а от пиджака Кириллова поднялась такая пыль, что на минуту в комнате ничего не стало видно: ни Кириллова, ни Марьи Ивановны, ни мебели. Когда пыль рассеялась, Марья Ивановна стояла посреди с приподнятыми руками, как будто в молитве; Кириллов же угрюмо сидел в кресле у книжного шкапа и читал рваный старый журнал; мрак исходил от его фигуры.
Катенька долго не могла очухаться от пыли: она забилась ей в нос, в глаза, в маленькие уродливые ушки; она тряслась, чихала и размахивала ручками; в шёпоте всё же приговаривала: «До чего же оне грязны! Словно ему тыща лет, и он с того света».
Наконец Марья Ивановна почувствовала, что ещё одна минута, и она не выдержит: закричит, забьётся в истерике, запрыгает вверх ногами; собственно, это сделать было уже давно пора, но Марью Ивановну сковывало появление какого-то нового мира.
В эту минуту Кириллов вдруг резко приподнялся с кресла, так, словно встал не только он один, но с ним ещё кто-то, невидимый (хотя в действительности второго не было) и, подойдя к Марье Ивановне, вежливо и осторожно похлопал её по плечу, проговорив:
– Всё в порядке.
Глянул на неё птичьим, вымершим взором.
– Листочек я возьму с собой, а копию вам пришлю или принесу, – продолжил он, направляясь к выходу.
Катюша чихнула.
– Куда же вы… Апчхи… Не скрывайтесь, – замахала она ручками.
Но Кириллов между тем уже был во дворе. Марья Ивановна, захлопнув дверь, быстро вернулась в комнату, и тут с ней произошло что-то совсем непонятное и дикое: ей показалось (или это было во всех сферах также?), что она начала танцевать вверх ногами, вниз головой, на руках, причём очень бойко, истерично и подпрыгивая чуть ли не до потолка. Кастрюли сыпались ей в матку. А Катюша стояла в стороне и, сморщенно улыбаясь, аплодировала.
Когда Марья Ивановна как бы очухалась, то испугалась: везде, во всех ли мирах происходил этот танец или в земном было спокойно? Она тревожно заглянула в лицо Катюши: оно было расщеплено, разорвано в хищной улыбке, но по прятавшимся глазкам было непонятно, видела она этот танец или нет.
– Продолжим чаёк? – уютно спросила Катюша.
Внутренне взвыв, Марья Ивановна присела к столу.
– Сахарку, сахарку подложи, Мария, – подмигнув, отозвалась Катенька. – Нехорошо.
Было темно. Марья Ивановна взглянула в окно. Там виднелись зимние узоры, и стекло наполовину было окутано льдом, словно на улице посреди лета стоял лютый мороз.
– Как изменилась погода, – вздохнула Марья Ивановна.
– Почему же; по-моему, очень жарко, как всегда, – равнодушно ответила Катюша.
– Как теперь жить-то будем? – надрывно спросила Марья Ивановна. – А?.. А?..
– А вот посмотри, – Катюша кивнула своей круглой, нечеловеческой головой на угол стола.
Там, одинокие, лежали сложенные листы бумаги, те самые, которые предлагала огромная рука в лесном клозете.
– Он придёт, он придёт! – завопила Марья Ивановна, не помня себя, в чёрном страхе. На ум ей пришла знаменитая любезность Кириллова. – Теперь мы от этого никуда не уйдём, – добавила она шёпотом.
– А я тебе не дам сжечь эти листы, – сурово пригрозила ей Катенька. – И не дам ими подтираться. Не для того они были даны.
– А для чего, для чего же? – закричала Марья Ивановна, словно превращаясь в воющее чёрное облако на своём стуле.
Впрочем, ей и в голову не приходило их сжигать, и крик «для чего?» скорее вопрошал об определённости, чем о реальности, которая и так вошла в дом с этими листами. Марья Ивановна боялась к ним даже прикасаться. Кот сбёг из дому; он предпочитал бродить по улице и спокойно видеть людей, огни, демонов, фантомы, находясь между тем и этим миром, никого не трогая и ничего не касаясь, только испытывая лёгкий кайф от такого положения и от своего бытия.
Дома же стало непонятно и вместе с тем торжественно. Точно все комнаты залил свет, прорвавшийся из иного. Катюша так прямо и купалась в этом свете. Впрочем, она его принимала за другое, за своё. Марья Ивановна же бесилась, хотя ужас не позволял особенно раздрызгиваться. Листы по-прежнему лежали на столе. Марья Ивановна не ставила рядом даже чашек и тянулась обедать в стороне, на полу, рядом с собственной тенью. Катюша же была весела и всё бормотала, что скоро, скоро придёт агент из Госстраху. И сурово грозилась куда-то в пустоту. Марья Ивановна чувствовала, что долгого ожидания она не вынесет, что терпение её вот-вот лопнет, но тем не менее сделать было ничего нельзя, тем более что Кириллов о себе напоминал: то какая-нибудь пташка залетала в окно, то в ночи верещал в стене голос, то хлопал что-то у трубы, то приходила молочница.
Так шли дни. Наконец звуки и явления начали исчезать, но от этого стало ещё страшнее, потому что нахлынула тишина. И Кириллов присутствовал в ней ещё резче, чем прежде, так как его присутствие было теперь полностью невидимым. А может быть, таился не Кириллов и не какое-нибудь существо, а что-то совсем нечеловеческое, протяжённое, не связанное с Кирилловым. Ушки Катеньки поэтому были навострены теперь на глубь вещей, точно их одинокость уже не зависела от её сознания. «И-гу-гу!» – тихо улюлюкала она, глядя на стену. Марья Ивановна, остолбенев, ходила из угла в угол. Больше всего она боялась, что разорвётся сердце. Был отпуск, и не надо было ходить на работу.
Вдруг пришло письмо. Принёс его светлый растрёпанный мальчик с остановившимися глазами. В конверте лежал большой белый лист. Когда Марья Ивановна развернула, там было всего два слова, крупными буквами: «Приду сам».
Катюшенька, искоса заглянув в письмо, подпрыгнула от радости, но тут же злобно посмотрела на Марью Ивановну. Та потаённо, как-то не по-своему урчала: словно в её брюхе появился железный ребёнок, который передавал свои звуки через её гортань. Тело её оформилось и стало как-то крепче. Казалось, что отворились все чёрные двери в невидимое, и непостижимость входила в мир, принимая вид обычного, чтобы не раздавить аборигенов; но та, самая страшная дверь, в которую могло пройти то, от чего немедленно разорвётся сердце, была пока ещё прикрыта.
Поэтому Марья Ивановна и могла жить. Но тьма охватывала горло. Наконец, ночью, при свете звёзд, нечеловечьи дрыгнув голой ногой, она соскочила с постели. На босу ногу, с распущенными волосами, в белой длинной рубашке она подбежала к Катюше, грезившей в полусне, полуоскале. В руках Марии был крест с распятым Люцифером; этот крест в своё первое посещение принесла ей молочница.
Сурово она толкнула съёжившуюся Катюшу.
– Я выйду за него замуж, – проговорила Мария, и её глаза на уже изменённом лице загорелись. – Выйду за его замуж, вот в чём выход.
Кирилов, который проживал в доме № 21 по улице Чехова, в коммунальной квартире № 8, отдыхал в своей комнате.
– Лексей Никитич, – громко окликнула его из коридора соседка, Капитолина Петровна, – в кипяточке не нуждаетесь, я могу отлить, а то у нас воду сейчас отключат.
– Нет, нет, спасибо, – отозвался из комнаты Кириллов. Он отдыхал в кресле, у окна, выходящего в чёрное. Два члена его, обнажённые, покоились по бокам на брючинах, словно Кириллов их просушивал. Один, поменьше, был бирюзовый, небесно-голубого оттенка, другой, огромный, был неприятно красного цвета, до того кровяной, что напоминал нездешнюю вытянутую геморроидальную шишку. В руках у Кириллова была гитара, протяжённое лицо плыло в полуулыбке, а знаменитые волосатые пальцы так и ходили по гитаре, выбивая мелодичные, нечеловеческие звуки.
Вдруг Кириллов вскочил. И быстро-быстро, с недоступной юркостью поскакал вдоль стен, срывая обои. Когда на стенах остались лохмотья (всё произошло за какие-нибудь две-три минуты), он опять присел и углубился в чтение. Волосы его чуть-чуть встали дыбом, впрочем, было впечатление, что просто поднялась какая-то тёмная полоса. Два члена опять выпали из брюк, но Кириллов взглядывал на них чересчур строго, так что они были как в химере. Очень, до неприятности, странны были глаза, которые глядели в разные стороны, точно Кириллов мог видеть два оторванных друг от друга пространства.
Смрадный, но тихий кашель шёл от его спины. Гитара валялась на полу. Книга в руке слегка дрожала. Было такое впечатление, что читал он наоборот, но тем не менее от смысла прочитанного в его душе поднимался холод. Тусклые глаза, вдруг объединившись в одно выражение, иногда подымались вверх, к окну, где виделось чёрное провальное небо с бессмысленными звёздами. Кириллов тогда улыбался и гладил себя за ухом. Неслышный смех рассыпался от его существа по всей комнате.
А между тем у подруг всё пошло невпопад. Чашки падали из рук, надоедали птахи, залетавшие в окно. Но самое истеричное (истеричное посреди мрака!!) было то, что Катюша стала дико ревновать Марию к незнакомцу. Ещё раньше ужас Марии перед Кирилловым она принимала за любовь. Теперь же, когда Мария решила сама броситься в омут, прежде чем он её поглотит, и обозначила себя, воскликнув: «Я выйду за него замуж!», Катюша совсем осатанела. Она точно не хотела знать, что решающее слово остаётся за Кирилловым.
Незаметно подкравшись, со сморщенным, уходящим в непонятное личиком, она щипала Марию за жирные ляжки, как будто в её ляжках была заключена вся жизнь. Мария страдала, но молча, словно ушла в остолбенение.
Катюша кусала её нежный, матовый платок в цветах и сумрачно старалась вызвать её на контакт. Но Мария упорно молчала; её глаза заледенели, и сердце, видимо, было погружено в мертво-водяное ожидание, ожидание прихода Кириллова. Знаки опять разгорались. Но были ли это знаки?! Чем больше становился её ужас, тем ярче чувствовала Катенька, что это не ужас – а любовь. (Впрочем, ужас, после согласия выйти замуж, стал уже другим, скорее это был уже за-ужас и относился он не столько к Кириллову, сколько, главным образом, к некоему миру, который становился тождественным её сознанию). Глядя в холодно-мерцающие, с пустыми льдинками вместо мыслей глаза Марии, Катюша сжималась, лже-чувствуя в них огонь любви, всё время пускала слюну и пыталась укусить Марию.
Наконец её терпение, подтачиваемое молчанием Марии, кончилось. Ночью Катюня оголилась. Голая она была особенно, до непомерности безобразна: голова с сократовским лбом и маленькими, истинно вонючими глазками была точно приставлена к отчуждённому туловищу, которое – по высшему ощущению – всё было в каких-то ямочках, каракулях и отростах. Ноги болтались, как будто приставленные из страха. А маленький, но юркий животик свисал к гениталиям каким-то асексуальным комком. В глазах же, напротив, выражался непомерный эротизм. Оголившись, Катюша с хриплым воем бросилась к кровати Марии (после развода они спали отдельно) и сдёрнула с неё одеяло. Мария изумлённо уставилась на неё.
– Пусти, – прошипела Катюша. – Я к тебе, я хочу любви.
И она ринулась, головой вниз, как потусторонняя крыса, к животу Марии. Та своими белыми, мощными руками обхватила её голову, не давая Катюше проникнуть глубже, к самому похотливому нутру. Впрочем, её губы коснулись живого, мягкого живота Марии, и Катюша несколько раз лизнула языком эту плоть. Зад же Катеньки томно выделялся на фоне этой безобразной картины.
– Ты что? – спросила Мария, не выпуская из своих цепких рук её головы.
– Я хочу с тобой поговорить, – прошипела Катюша из-под рыхлого брюха Марии.
– И всё?? И зачем же надо лезть целоваться??
– А ты молчи побольше.
– Как у тебя распух зад, – вздохнула Мария, слегка обмякнув, но не выпуская головы Катюши.
– Ты так любишь его, что не даёшь мне куснуть тебя как следовать, – пробормотала Катюша в темноте. – Отпусти голову… Ты мне не нужна, я только хотела проверить твою любовь к нему и поговорить с тобой по душам, молчунка…
– Не пущу, – угрюмо проговорила Мария. – Врёшь ты всё.
– Ты любишь его! – взвизгнула Катюша. – И всегда любила, ещё начиная со знакомства в клозете… Я это поняла потом, по твоим глазам.
– Не говори мне о нём, – завыла Мария нечеловеческим голосом, – не говори мне о нём… Лучше кусай моё нутро… – она со слезами отпустила голову Катюши.
Голова со зловещими глазками тут же оказалась рядом, супротив лица Марии.
– Так вот как ты любишь его, – прошептала Катюша, хрустнув зубами.
– Не говори мне о нём, – отшатнулась Мария в угол кровати, – не говори мне о нём. Я его не люблю, я за него выхожу замуж.
– Ты отнимаешь у меня моё счастье, – лицо у Кати сморщилось, как у развратницы при виде Бога. – Не отнимай.
Ручки её сжались в самоё себя.
– Ты мечтательница и психопатка, Катюша, – вдруг спокойно ответила Мария. – Как можно в таком человеке, как он, видеть счастье?
– Дура! – вырвалось у Катюши.
Разговор закончился в криках, бормотании, в начинающемся бледном рассвете, в полушёпоте, с выкатываньем глаз. Мария стояла на своём.
А вскоре появился Кириллов.
– Из Госстраху, – опять раздался хрипловатый, с дурцой, голос из-за двери.
Кириллов влетел, словно сумасшедший. Хватался за голову, рвал обои. Мария никак не могла на чём-нибудь остановиться. Катюша ползала за ним чуть ли не на четвереньках, иногда совсем опускалась на пол; шипы от корявого, разбитого пола ранили её в нижние губы, и её верхнее лицо вздрагивало и томилось тогда в сладострастной улыбке. «Кириллов, Кириллов!» – вдруг вспомнила она своим за-подсознанием обозначение незнакомца и закричала. Потом опять поползла и протянула к нему смятые, пугливые руки. Кириллов совсем обалдел от неё, фыркал, сверкал своими невыразительными глазками и, казалось, ничего не понимал в Катюше. Впрочем, он несколько раз отпихнул её ногой. Наконец Мария, опомнившись, собралась с духом. Похолодев, точно ей на спину опустилась чья-то огромная, но невидимая рука, она посмотрела в глаза Кириллову и сказала:
– Я хочу выйти за тебя замуж. Навсегда.
Кириллов вдруг посерьёзнел, опустил глаза. В комнате стало душно от невидимого потока. Волосы на голове Кириллова опять встали дыбом, и он успокоился.
– Хорошо, – ответил он. – Завтра в семь часов утра у остановки «Бор» шестого трамвая.
Хлопнув дверью, он вышел. Мария на крыльце проводила его долгим, холодным взглядом. «Точно в наш дом опустилась небесная родина», – подумала она.
Катюня, забившись в угол и сжимая пухлые ручки, чернела от мыслей. Но вместе с тем возникал в её душе свет, от которого мысли исчезали и рыдания томно превращались в лёд, и кружилось в голове, как на танце.
Когда Мария, к вечеру, взглянула на неё, Катюша совсем примирилась. Губы только по-чёрному дрожали в оторванной злобе, но глаза улыбались.
– Я знаю свою судьбу, – сказала она занавеске.
Всю ночь Мария не спала, но в то же время видела сны. К шести часам утра пришла небывалая трезвость. Убралась, умылась, сухо попила чайку. Катюша наблюдала за ней выдолбленным, осторожным взором.
– Я пойду туда пешком, – кивнув ей, сказала Мария.
Катюша осталась одна. Быстро мелькали в голове непонятные линии, она прямо подпрыгивала от света внутри себя. Говорила со стульями, но трезво, с расчётом. Просто хотелось петь. Дверь в комнате слегка качалась от ветра. «Ну-ну», – говорила Катюша. Душа словно разлилась в пространстве, и от этого ей было больно, как листьям. Слёзы возвращали душу к себе, но это были уже не просто слёзы, но чёрненькие бесноватые существа, вернее, стихии. За спиной обливали водой, хохотал ветер, игриво гоготала смерть в заднице. Себя не было. Не было и тела. Но в то же время было так страшно за себя, что Катюша разучилась думать. Появилось своё, непомерное, весёлое, похожее на божество в шаманской пляске. Прошло всего несколько минут. И Катюша, одна, заплясала, заходила по всей оголённой комнате. Опухлившиеся плечики вздрагивали, тело становилось змеевидным, зад расширялся, как смачное облако, а знаменитая сократовская голова на бездушной шее покачивалась из стороны в сторону. Катюня пела, но про себя. По углам ходили вещи. На кресле лениво облизывался приблудший кот. Вдруг Катюня взглянула на время. Часы на стене бились по-прежнему тяжело, неумолимо. «Отчего в нашей комнате нет зеркал?» – подумала Катя. «Надо, надо бежать… бежать к ним, к Марии… от себя и от смерти… к ним… Ах уж эта наша небесная родина!» – встрепенулась она, заплакав. Холодно одевшись, вышла из дому.
На улицах было пусто, как после пришествия Христа. Багровое солнце поднималось вдалеке. «Смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа?» – подумала она.
Никого не было. Пошла в одиночестве по прямой.
– Я ещё успею их опередить, – усмехнулась она, садясь в одинокий трамвай. – …Марию и Кириллова.
На остановке «Бор» было пустынно. Мария, подходя, вглядывалась в одинокие фигуры. Несмотря на вставшее летнее утро, было холодно и даже как-то сумрачно, хотя отчуждённое красное солнце быстро поднималось вверх. В душе Марии был лёд и беснование; а внутри, в бездне, чернело так, как будто непознаваемое сорвалось с цепи. Рот кривлялся, хотя взор был строг и спокоен; но, приблизившись к остановке, она захохотала. По этому хохоту можно было предсказывать будущее. Юркая старушонка, вздрогнув, бросилась от неё наутёк.
Невдалеке стоял Кириллов и приветливо махал Марии рукой. Лицо его выглядело обычным, даже слегка вялым.
– Пошли, – коротко сказал он.
И указал на огромный раскинувшийся пруд в стороне от домов, но также и от всего, что можно назвать вечным. Как это Марья его сразу не заметила! Он серел, серебрился не так уж далеко, всего в шести минутах ходьбы по пустой, безлюдной дороге.
Цепкие, выжженные глаза Кати наблюдали за ними из тьмы своих впадин.
Она стояла невдалеке, незаметно, под деревом, и смеялась. Тьма не сходила с её глаз, но из уст лился улюлюкающий дикий смех. Нехорошим, тайным бугром вздымались груди… Катюша смотрит. Вот Мария и Кириллов стоят совсем близко друг от друга, вот вместе идут к пруду. Почему солнце опускается вниз, к горизонту, на востоке? Или это потому, что видимость? Вот они медленно, почти касаясь друг друга, идут. Одни.
– Я буду прислуживать им… в их протяжённом и безличном браке, – бормочет Катя.
Мария и Кириллов, как чёрная, устремлённая нелюдь, подходят к самому пруду. Медленно идут вперёд. Скоро вода коснётся их ног.
– Через минуту их не станет, – вздохнула Катюша.
Глава III. Как вверху, так и внизу
1
– Он жив?! – истерически спросила мужа красивая, вычурная женщина в ободранном платье, остановившись посреди чёрного двора.
– Лиза, ты каждый раз спрашиваешь о его здоровье. Это неприлично, особенно при мне. Уверяю тебя, что это ещё молодой, здоровый кот лет трёх-четырёх, не больше.
Муж даже строго схватил женщину за рукав. Кругом были деревья, летнее ночное небо, сумрачные облака в нём, и домишки, точно хоронившие богов.
Лиза всплакнула и, размахивая руками вдаль, бросилась в тёмную дыру своего подъезда. Мокрый пёс выскочил из дыры ей навстречу. Муж – его звали Костя – нервно поспешил вперёд. Дом был двухэтажен, но по внутреннему ощущению огромен. Казалось, в нём могли бы разместиться сонмы чудовищ. Но и так там жило достаточное количество существ. Пёс, лизнув пустоту, поднял морду вверх, на облака, словно видел там миски с пропахшим мясом мамонта. Тьма облизывала дома, и в ответ кто-то деревянно хохотал в окнах. Редкие огоньки за тихими занавесками были неподвижны.
Лиза, в такт луне, тяжело поднималась по деревянной лестнице на второй этаж. «Легка она не той лёгкостью, – думал внизу Костя, глядя на неё. – А так тяжела». Скрипнул потолок.
– Почему, почему ты не ревнуешь меня к коту?! – нечеловечьи визгливо закричала Лиза с высоты на мужа.
– Сначала не зови его Господь, – ответил Костя, поправив шляпу. – У него и так есть красивое имя: Аврелий.
Растворилась дверь в узкий, чёрный, как мысль Дьявола, коридор с бесчисленными дверцами по бокам. Вместо статуй – по сторонам – стояли вещи: комоды, тюки, чемоданы с ночными горшками и картинами. Звонко запела где-то кровать.
– Проходи, проходи, – не глядя, сказал Костя.
– Всё равно я тебе этого не прощу, – прошипела Лиза и попыталась что-то ущипнуть.
Стукнул какой-то котелок.
– Я опять забыл, где клозет, – сказал Костя.
– Но ты живёшь здесь пять лет, – прошептала Лиза. – Пойдём, пойдём скорее… к себе.
– Так и знала, знала, знала! – раздался вдруг дикий вопль из клозета.
Клозетная дверь распахнулась. Изнутри, как из мешка, вылетели полуголые, уже в летах, супруги Мамоновы – Ефим и Натали. Натали, бушуя грудью, двинулась на отчуждённо-сжавшегося Костю.
– Сколько раз я вам говорила, – заорала она, – что мы не можем иметься у себя в комнате: нет места, кругом вещи и дети!
– Предупреждали ведь: не лезьте в клозет, а стучите! – завыл Ефим и упал на пол.
– Сколько мук, сколько мук, – завизжала Натали, схватившись за волосы. – Ночью спишь, усталая… Днём невозможно полюбиться: стучатся в клозет, как крысы… Так и ночью, ночью в кои раз соберёшься, не дают покоя… Покоя, покоя! – закричала она, точно зовя на помощь.
– Я не виноват, – посерел Костя, – в коридоре двадцать пять человек…
– А мы объявление для кого вывешиваем?! – злобно зарыдала Натали. Она рванула Костю на себя. – Читайте: «Занято». Занято, занято было! – неестественным, плотски металлическим голосом закричала она. – Чорт образованный, читай: «Занято»!
Из комнат стали молча выходить соседи. В перерывах между криками Натали стояла мёртвая тишина. Вышел малоухий, серый мужик – Лепёхин – и, призрачно посмотрев на Мамоновых, погрозил кулаком в открытый, пустой клозет. Старушка Низадова выползла с зеркальцем. Зевнул появившийся пёс.
«Где Лиза? – тоскливо подумал Костя. – Где Лиза?»
Лизы нигде не было.
«Наверное, ушла к коту… Теперь всё», – ужаснулся он.
– Будьте вы прокляты, – прохрипел вставший на ноги Ефим.
Он схватил Натали за обширную талию и швырнул жену обратно в клозет.
– Хоть рож ваших никогда не увидим! – крикнул он, захлопнув клозетную кровать.
Костя у себя в комнате долго не мог найти подходящий сосуд для мочеиспускания. Как лунатик, в полутьме он бродил от буфета к кровати и к столу. Тень от взъерошенной головы пучком росла на стене. Плюнув, помочился в футляр от охотничьего ружья. Лиза не возвращалась.
Луна взглянула в тёмное окно. Наконец стукнуло в дверь, и Лиза вошла. Костя уже лежал в постели, скуксившись, словно покойник, которого не так положили в гроб.
Лизонька быстро разделась и нырнула в холодную постель, рядом с Костей… Ей казалось, что муж отключён и расписывает картины чужого воображения. Но неожиданно, с лёгким гортанным криком, он потребовал любви. Лизонька, распластавшись, покраснела: в уме виделся образ кота.
– Прости, прости, прости! – почти закричала она этому образу.
Без прощения у кота она не смогла бы даже кончить.
Но сейчас было особенно тяжело. Несмотря на внутренний визг «прости», чёрная морда Аврелия с укором смотрела на неё из глубин. Костя, как чемодан, болтыхался наверху. Но даже чувственно наслаждение не было наслаждением – всё снимали униженность и стыд за соитие перед котом. Даже кожа трепыхалась от безобразия.
«Ну, прости же, прости!» – чуть не закричала она, дрыгнув ногой, и конец был вял и безразличен, как осеннее сморкание в носовой платок. «Лучше уж так, чем так», – подумала она облегчённо.
Костя, отпыхтев, опять помолодел и был бледен, как труп водяного.
– Ты слишком много приписываешь ему, – сухо сказал он, надев очки.
При упоминании о коте Лизу бросило в жар.
– Но прежде всего не называй его Господь; это вредит нашим отношениям, – проговорил Костя. – …Подумай о том, что на самом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик. Кричал сосед Савелий по прозванию «лохмотун» – кричал просто так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало тяжёлое, пасмурное, ещё более мрачное, чем ночь, именно потому, что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, всё-таки увидел, что Савелий не просто орёт, но ещё, по обыкновению, сбирает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная привычка, на которую никто не обращал внимания.) Но Панченков, однако же, взвился.
– Безобразие! Безобразие! – заголосил он. – Почему Савелий здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! Я буду жаловаться милиции!! Мне жить осталось совсем ничего! – неожиданно, тонким голоском, взвыл он. – Не потерплю! Обманщики!! Кругом надувательство!! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начинался, как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из клозета совсем захмурённый и пошёл на кухню: спать. Костя ещё дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в руках. Оно прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно: там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками и много котов, собак среди странных, монстровидных людей, теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец-то повеяло чем-то лёгким. Голова её стала твёрже, как чугун, наполненный мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На странный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рёв посыпались все – поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий – на полу – дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под самоё себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно подмигивала себе, молодой, квази-виднеющейся там, в зеркале. Пришёл и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал. Он сел на пол и закурил. Только деловое существо – Семёнкина – хлопотала возле ведра. Она рада была бы всех прогнать, но любила, когда её видели в деле.
– Грустно поёте, Лизонька, – сказала одинокая жирная дама, Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
– Мне жить осталось немного! – прокричал он высоким, бабьим голосом.
«Где Аврелий, – тоскливо подумала Лизонька, – красота моя предвечная, где ты?» Она отдыхала от стыда перед ночным соитием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове, и луна точно входила в сердце.
– Лиза, Лиза! – вдруг раздался крик, и появился Костя в одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
– Уходи, уходи! – пробормотал он, вдруг сконфузившись. – Ведь сейчас Сыроедов принесёт твоего, то есть своего, кота – кормить…
Соседи переглянулись. У Лизы появились слёзы на глазах. Костя, пожав плечами, мгновенно исчез. И правда, вдали, из соседского коридора, дверь в который была полуоткрыта, послышался хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собственный кот, и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая сжимала своё старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на кого не обращала внимания; высшая цель её была – выжать из своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую сперму, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она – эта сперма – потекла масляной, жирной струёй из корявого носа, из больных ушей, из жизненных, с истерией, глаз. Это было бы пределом её мечтаний; иными словами, своё личико Низадова рассматривала, как думающий член. Такое своеобразное извращение прямо-таки убаюкивало её, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов по утрам своими огромными красными лапищами кормил кота, похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она принимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют. Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизонька плакала и говорила, что Бога – нельзя, а возлюбленного – можно, а этот, кот шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе. Однако ещё больше возможной смерти она страшилась отчуждённости кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. «Он опять не смотрел на меня, – говорила она про себя. – Как тяжко быть оторванным от собственной красоты».
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, – даже когда он был обычным – она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство, исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для её души. Что они столь огненны и сладчайши, что её душа сгорает в этом свете, только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли. «Недоступно, недоступно!» – кричала она тогда и билась в забытьи.
Сыроедов, между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев. Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Небесного Света, запела. Вообще, у неё бывали состояния, когда она пела, глядя на кота. И глаза её горели тогда любовью, пред которой стушевались бы любовники-люди.
Наконец Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на всё из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках сзади Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро, было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия, всё совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Лизонька с размётанными волосами сидела на подоконнике и грубо-пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из своего личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив задом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голову, посмотрел в окно.
– Никак Мессия опять во дворе, Мессия! – прокричал он, обращаясь к спящему Савелию.
2
Мессия, или, как он сам себя иначе называл, Панарель, появился здесь недавно, поздней весной. Откуда Он пришёл и кто Он такой – никто даже формально не знал. Жители вышеописанного дома № 7 вообще не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о Мессии: он был высок, худ, с женственно-мужественным лицом и глубокими, не из мира сего, глазами. Общее впечатление было как от стремительного, но величественного существа. Он утверждал, что учит как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного Отца, его пославшего. Проповедовал он религию любви и обещал не более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Укусов, садист-эзотерик, который был склонен причислять самого себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожёвывая крупу, покачивал головой: «Да ведь Он идёт против мирового порядка, который не есть любовь… И что это у Него за Папенька, который противопоставил Себя Творцу». Но соблазн, однако же, был велик. Тем более что Панарель обещал «давать воду жизни даром». Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая, брёл на проповеди Панареля.
«Не так, как мир даёт, Я даю… Но человек возлюбил тьму…» – доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извращённым гностиком, первое время не был озабочен действиями Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома № 7. Он не раз приходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного эротического акта Единого, а самих тварей, таким образом, – феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди, например, – по Грелолюбову – существуя, как и весь мир, в уме Единого Бога, быди игрушками, персонажами Его трансвоображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравномерности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными словами, все существа в равной степени возбуждали Единого, и ценность неповторимость каждой личности зависела от её способности пробудить трансцендентное «вожделение» и вызвать его на себя. Тем более что в какой-то степени все разумные существа были автономны, и свобода воли не нарушалась.