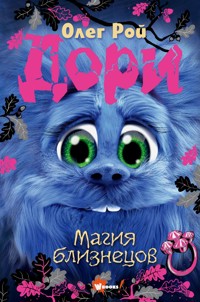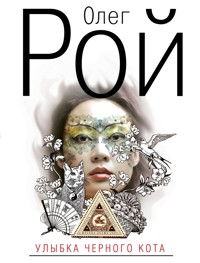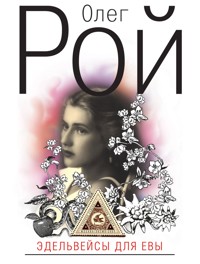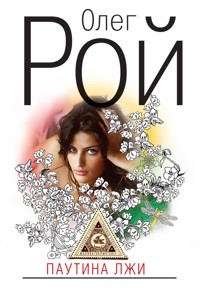Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Мистика судьбы. Проза О.Роя
- Sprache: Russisch
В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и все добро в мире, происходит от рук людей, от их помыслов и деяний. Словом, от того, какую роль для себя они выбрали — дьявола или Бога. Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман, блистательный ученый, всегдашний конкурент Алекса Кмоторовича? Лев предложил решить проблему деторождения, создав специальный аппарат по вынашиванию детей. Множество семей оказались благодаря нему счастливы. И не важно, что каждое вынашивание оборачивалось для женщин потерей конечности! Жертвенность – безусловная черта всякой матери! Феликсу Заряничу и его друзьям удалось выяснить, с чем связана генетическая мутация, охватившая весь мир, и понять, какова главная идея Льва Ройзельмана.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Олег Рой Страх. Книга вторая. Числа зверя и человека
© Резепкин О., 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Памяти моего сына Женечки посвящается
Глава 1. Дорогие люди
15.12.2042. Город.
ЖК «Европа». Валентин
Я счастлив, моя жизнь наконец-то вошла в правильную колею. Все хорошо, и я счастлив.
Счастлив?
Еще неделю назад это было правдой, еще неделю назад я был счастлив целиком и полностью – я точно это знаю. А с тех пор, кажется, ничего не изменилось. Кажется! Только кажется, и только потому, что я – человек спокойный, по крайней мере – неконфликтный. Всего неделю назад я был счастлив. Но сейчас… сейчас меня словно лихорадит. Трясет. Я и сам не знаю, чего хочу. Чувствую себя полностью потерянным и опустошенным.
На первый взгляд все как раньше, все хорошо. У нас с Жанной прекрасная семья. Комфорт, покой и все радости жизни. Но место, которое занимала в моей душе Ника, не занято. Возможно, я поступаю глупо, ищу добра от добра, вот только мне действительно не хватает того, что было при ней.
И… я больше не пишу музыку. Ноты разбегаются, воображение не желает отправляться в свободный полет, мелодии, даже если и рождаются, тут же исчезают, не задерживаясь у меня в памяти. Я совершенно пуст творчески. Может, поэтому меня так и бросает в крайности? Просто лихорадит, швыряет из огня в полымя. Я мучаю себя, мучаю окружающих и никак не могу успокоиться.
Вероника не отпускает меня. Просто наваждение какое-то. Она снится мне, ее образ чудится среди набросков и записей на компьютере, иногда она просто возникает перед моим внутренним взором возле рояля в гостиной, на тахте в позе одалиски, даже на кухне. Я долго сдерживал себя, но потом, не выдержав, начал пересматривать ее концерты. Она играла то, что я написал. Боже мой, внезапно понял я, когда мы еще не были близки, она смотрела на меня с тем же обожанием, что и Жанна. Вот только для Жанны мне не хочется писать ничего, даже простой струнный квартет.
Да и характер Жанны всего за неделю изменился разительно. Нет-нет, она по-прежнему корректна со мной и не закатывает истерики – она не Ника. Но теперь она чувствует себя полновластной хозяйкой положения. А я со всей ясностью вижу, что я для нее пустое место. Обстоятельство, с которым ничего нельзя поделать, только терпеть. Не знаю даже, что хуже – обратившаяся в ненависть любовь Вероники или нынешнее небрежное равнодушие Жанны.
Я, как могу, стараюсь бороться с собой, но могу плохо, ничего не выходит. Я убеждаю себя, что Жанна беззащитна, что она доверилась мне, что ей сейчас очень трудно. Но тут же понимаю, что все гораздо проще и страшнее. Жанна просто использует меня, считая при этом, что отрабатывает свой долг – детьми, постелью, вкусной домашней пищей. Парадоксально, но Ника никогда так меня не использовала до того, как забеременела. Да и тогда не использовала. Срывала на мне свое раздражение – да, но не использовала. Вероятно, и в раздражении ее, в ее агрессивности виноват я сам, ведь я проигнорировал ее мнение. Наверное, нам надо было действительно повременить с этой беременностью…
И что же мне теперь делать? Я сам погубил свою жизнь, сам стал могильщиком своего счастья. Можно все валить на Нику, на комету, на разные обстоятельства, хоть на черта с рогами – но от этого не легче, этим ничего не исправишь. Самообман никогда не срабатывает, не приближает к желаемому, потому что, обманывая себя, ты все равно прекрасно знаешь, что это обман. Я оказался распятым между двумя женщинами и не был уверен, что хоть одна из них меня любит.
С какого-то момента это стало просто невыносимо. Порой я ловлю себя на том, что чувствую отвращение к Жанне и ее громоздким АР[1]. Да, я знал, что там растут наши дети, но…
Я ведь видел ее отношение ко всему этому, и оно было совершенно не таким, как ко мне. К этим уродливым стальным тубусам Жанна относилась с настоящей нежностью. С настоящей любовью, это точно. А ко мне отправлялась лишь их имитация. Я – слепец! Почему я не видел этого притворства с самого начала?
И вдобавок Вероника, которая, кажется, остается везде, мне некуда от нее деться. Наверно, я действительно был слеп, а теперь прозрел, другого объяснения у меня просто нет.
Постепенно я, как это ни ужасно, стал обращаться к Жанне холодно, почти грубо, что никогда не позволил бы себе по отношению к Нике. И… и ничего не изменилось. Жанна не взбунтовалась, не встала на дыбы, не обиделась. Она приняла мою грубость с обычной покорностью. Но эта покорность страшно далека от любви. Жанне просто все равно. Я стал чувствовать себя квартирантом в собственном доме. И тогда я уходил, и до изнеможения слушал игру Вероники, и плакал. Плакал о том, что я, быть может, в своей жизни имел не слишком много, но потерял – все. Все. Ничего не осталось. Со стороны кажется, что я многое обрел – почтительную жену, например, а в скором времени буду отцом двух детей. Но я-то знаю, что не получил ничего. Потому что ничего этого мне не нужно.
Вероника с какого-то момента превратилась в навязчивую идею, от которой я никак не мог избавиться.
Да и хотел ли?
15.12.2042. Город.
Дом Анны. Феликс
Надо мной висело хмурое небо. Такое, какое бывает только поздней осенью или даже, скорее, зимой. Такой, как в наших краях, – практически бесснежной. И одинокая колокольня, подпиравшая низкие свинцовые тучи, была совершенно черная. И совершенно незнакомая. Никогда ее не видел. Ни в жизни, ни в кино, ни на картинках. Классическая готика: щедро украшенные горгульями и химерами фасады, углы подперты массивными контрфорсами и увенчаны навесными бойницами-машикулями, напоминающими грибы-паразиты на древесном стволе. Торчащая почти над моей головой крыша просела, даже, кажется, провалилась. Колокол там, однако, был – одинокий, даже с виду тяжелый, очень крупный. Я никогда такого большого колокола не видел. Он казался большим даже отсюда, снизу, хотя до него было метров с полсотни. Небось вблизи вообще монстр в три человеческих роста и весь, наверное, разукрашен литыми надписями и узорами. Но карабкаться с риском свернуть шею на ветхую башню для изучения старинного артефакта совсем не хотелось. Не стоит того этот артефакт. Я не историк, извините.
Пока я, задрав голову, пялился на мрачную черную башню, колокол внезапно принялся медленно и тяжко раскачиваться, несмотря на полное, казалось бы, безветрие. Или это внизу тихо, а наверху дует? Но какой ветер смог бы раскачать такую громадину? Ураган, не меньше. Вверху ураган, а внизу штиль? Так не бывает. Колокол, однако, продолжал раскачиваться – мерно и словно бы с неохотой.
– Все правильно, – решил я. – В такой башне звонарем может быть только призрак, – и тут, поверх моего невнятного бормотания, раздался первый удар. Низкий, тяжелый…
БОМ!
Голова отозвалась болью, я инстинктивно зажал уши ладонями, хотя это, разумеется, не помогло. Зажмешь тут!
БОМ!
Да что же это за напасть?!
Перед глазами поплыли, качаясь в такт колоколу, радужные пятна. Я выругался и хотел было подальше уйти от черной башни, но не тут-то было. Ноги не то вросли в землю, не то вовсе окаменели.
БОМ!
Господи, пусть это прекратится, пожалуйста! Ну, пожалуйста!..
Я сделал над собой усилие, пытаясь сдвинуться с места, и… открыл глаза. И тут же закрыл – так больно резанул по ним блеклый свет ночника.
БОМ!
Вот черт, а сон-то продолжался! Я вновь открыл глаза, на сей раз окончательно. Голова казалась тем самым колоколом, во рту… черт его знает, будто верблюжью колючку жевал, тело ломило и крутило. В общем, хотелось только одного: закрыть опять глаза и умереть.
БОМ!
Проснувшись (но не очнувшись) окончательно, я уставился на источник убивающего меня звука. Им, разумеется, оказался мой собственный коммуникатор, который из всех доступных ему в облаках рингтонов с какого-то перепугу выбрал пожарный набат. Выругавшись сквозь зубы, я схватил трубку.
– Феликс Зарянич? – спросил незнакомый и чрезвычайно официальный голос. Спросил слишком громко для моей бедной больной головы.
Определенно, вчера мы с Максом подошли к отдыху максимально серьезно. Я попытался улыбнуться невзначай выскочившему каламбуру, но лучше бы я этого не делал. О ч-ч-черт! И ведь сам-то Макс, этот вечный счастливчик, наверняка сейчас себя чувствует превосходно. Не бывает у него похмелья. Ненавижу!
– Говорите тише, – невольно вырвалось у меня. – Да, я Феликс. Кто вы?
– Дежурный реанимационного отделения городской клиники.
Меня прошиб холодный пот. И уже не от похмелья. Я даже про головную боль забыл. Словно этот дурацкий кошмарный сон был не дурацким, а вещим.
– Вам знакома Рита Залинская? – чуть тише спросил голос.
– Да, – выдавил я. – Это моя девушка, – сказал я, холодея. – Что с ней?
В голосе прорезалось профессиональное сочувствие. Плевать ему было и на Риту, и на меня, но их так тренируют: с близкими разговаривать мягко. Хотя, может, мне все мерещится.
– Ее доставили вчера вечером после автомобильной аварии.
Это что, выходит, когда мы с Максом пили пиво, Рита истекала кровью?!
В моем больном мозгу пронесся бешеным галопом эскадрон виноватых мыслей, и каждая успевала стегнуть меня нагайкой. Ты скотина, Феликс! Бездушная, равнодушная скотина! А что, если Рита попала в аварию из-за меня? Ведь именно из-за меня она вчера вспылила. Разве можно было в таком состоянии за руль садиться?
Секундная самоэкзекуция заставила меня выдавить главный вопрос:
– Как она?
– Состояние стабильно-тяжелое, жизнь сейчас вне опасности. Но есть некоторые нюансы, которые нам следует обсудить. И чем быстрее, тем лучше.
Нет, никакого сочувствия в голосе не было, ни профессионального, ни тем более обычного человеческого. Человек просто на работе.
– Как вас най… – начал было я и осекся. – Тьфу, я же знаю, это первая реанимация, да?
– Именно. Подойдете в регистратуру и…
– Я знаю. Я работаю у профессора Кмоторовича, коллега. Скоро буду.
– Удачно добраться, – ответил коллега, прежде чем я нажал отбой.
Вот зачем я ему стал докладывать про то, что у Алекса работаю? Разве это имеет сейчас хоть какое-то значение? Значение имеет то, как я туда добираться стану. И побыстрее. Я посмотрел на часы – начало шестого. По такому случаю можно было бы растолкать Макса, но сейчас у него в крови алкоголь, а мне совершенно не хотелось бы конфликтов с дорожной полицией. По той же причине не мог воспользоваться его «кубиком» я сам.
Я достал портмоне и пересчитал наличность. Негусто. Нет, пивом меня вчера угощал Макс, так что особо сильно я не тратился, но что толку. Все равно на такси хватало только в один конец. Да и ладно – обратно как-нибудь доберусь. Не первый раз с работы домой пешком хожу. Или вообще заночую в лаборатории, кстати, у меня там еще вчерашние бутерброды лежат…
О чем ты думаешь, скотина бездушная, мысленно одернул я себя. Там Рита кровью истекает, а ты о жратве. Меня замутило.
Я прекрасно понимал, что такое реанимация, так что никакой кровью, положим, Рита уже не истекала, да и доставили ее еще вчера. Господи, только бы у нее не было чего-то такого… такого… В аварии ведь можно обгореть, лишиться рук, ног, глаз…
Тогда я ее точно не брошу, почему-то подумал я, хотя речь о совместной жизни у нас с Ритой никогда не заходила. Ни за что не брошу, что бы с ней ни случилось, в каком бы состоянии она ни была.
На ходу натягивая старенькое, купленное еще в университетские времена пальто, заматывая шею кашне, я спустился на первый этаж. Ни Анны, ни Макса не было видно. Анна в последнее время почти не выходила из своей комнаты – видно, чувствовала себя не лучшим образом. Ну а Макс, вероятно, беззаботно дрых после нашего вчерашнего «заплыва».
Выскочив из дома (хорошо хоть, ботинки надеть не забыл и дверь входную запер, вот какой молодец), я торопливо побежал к стоянке такси, чтобы не платить дополнительно за вызов.
То, что нужно было что-то делать – одеваться, обуваться, бежать, ловить такси, – немного разгоняло ледяной холод, стягивавший внутренности, немного помогало справиться с тяжелым давящим страхом. Но помогало не слишком успешно.
15.12.2042. Город.
Дом Анны. Макс
Разбудил меня Феликс, которому с утра пораньше приспичило куда-то усвистать. Возможно, ему самому казалось, что он двигается тише мыши, но на самом деле шума он производил вполне достаточно, чтобы перебудить весь квартал. Ну ладно, не квартал, но мне точно хватило.
Взглянув на часы, я лениво потянулся. Рань несусветная. А у меня, между прочим, выходной. Второй подряд, перед этим я больше недели работал без продыху. Причем неделька выдалась та еще, каждый день по два-три происшествия. Не мелких вроде застрявших на дереве кошек или тлеющих мусорных баков, а вполне серьезных.
Но, надо сказать, в нашем-то городе еще по сути тишь да гладь. Если смотреть на общем фоне. Мир, по-моему, сошел с ума: только и слышишь про пожары, взрывы на химических производствах (страшный сон любого спасателя), захват заложников. А уж похищение детей и женщин начинает превращаться во всепланетную эпидемию, права вчера была Рита.
Я потянулся поосновательнее, чтоб все мышцы и косточки захрустели. Куда, в самом деле, Феликса понесло? Небось, побежал в свою лабораторию, проверять осенившую его во сне очередную гениальную идею по спасению человечества. Признаться, я не слишком верю в его чаяния. Надежды Феликса кажутся мне воздушными замками. Не то чтобы я сомневался в его личных способностях, нет-нет, Феликс очень талантлив, только сам себя недооценивает. Просто мне думается, что никто не способен единолично повернуть маховик истории. Когда завершилась эпоха глобальных завоеваний, тогда же закончилось и время гениальных одиночек. Да-да, именно так я и думаю, несмотря на то что из каждого утюга несется осанна Великому Ройзельману, Спасителю Человечества. Ну-ну. Во-первых, за этим чертовым Ройзельманом стоит вся финансовая (и черт знает какая еще) мощь корпорации Фишера. Во-вторых, вся эта история кажется мне какой-то мутной. Сомнительной. Ну в самом деле: человечеству грозит вымирание, и вдруг является гений, у которого в кармане спасительный рецепт. Прямо рояль в кустах. Все, конечно, бывает, но не просто же так мама ненавидит всю эту компашку. Да и моя профессия отучает верить в чудеса. Спасатель – человек сугубо практический. Так что сам я, разумеется, и в мыслях ни на какие спасения человечества не замахиваюсь, я до глубины души счастлив, когда удается спасти хотя бы одну человеческую жизнь. Это, поверьте, очень много – человеческая жизнь. Каждая.
За окном серели по-зимнему мрачные предутренние сумерки. Может, еще подремать? Спешить-то все равно некуда. Но, с другой стороны, раз уж проснулся (а пока размышлял о судьбах человечества, проснулся окончательно), надо, пожалуй, подниматься.
Принимая душ, я раздумывал над тем, куда же все-таки в такую-то рань понесло Феликса. Все-таки вчера он, как ни крути, перебрал, должен бы дрыхнуть без задних ног, а не в лабораторию бежать. Но других вариантов вроде нет, значит – туда, наверстывать упущенное вчера. Он же фанат-трудоголик! Еще один вариант – ранний звонок Риты, внезапно осознавшей, что… Ну что-нибудь осознавшей и решившей с утра пораньше помириться. Но это маловероятный вариант, практически из разряда ненаучной фантастики. Понаблюдав вчера за этой парочкой, я не заметил там никаких особенно высоких чувств. А жаль, кстати. Мне бы хотелось, чтобы Феликс, наконец, нашел свое счастье, обрел родного человека. Он этого заслуживает. Особенно если вспомнить его детство, о котором он не очень-то любит распространяться. Хорошо бы ему – как бы в компенсацию – толику человеческого тепла. А то сплошная работа у парня и никакой личной жизни.
На себя посмотри, ехидно фыркнул внутренний скептик. Велев ему заткнуться, ибо нечего чушь молоть, я решил сегодня же позвонить Терезе из клиники. А пока недурственно было бы перекусить или хотя бы выпить кофе. Организм-то действительно проснулся и настоятельно требовал калорий.
Неторопливо спустившись на кухню, я полез в холодильник… и насторожился.
Вчера, перед тем как ехать на встречу с Феликсом, я сделал лазанью – чтобы утром не возиться. И, естественно, сунул в холодильник. И кулинарный мой шедевр так и стоял там нетронутый. Ну Феликс умчался, не позавтракав, – это нормально. А вот мама, похоже, вчера опять не ужинала – это уже хуже. Она вообще хуже есть стала в последнее время. Пора брать дело в свои руки. Если не удастся запихать ее в клинику на предмет обследоваться (а в идеале – подлечиться), то хотя бы проконтролировать ее рацион. Нет аппетита – это, знаете ли, не довод. Как маленькая, честное слово. Придется, похоже, стоять над душой и требовать, чтобы ела как следует.
Я включил кофейник и разогрел два куска лазаньи. Свою порцию я с аппетитом приговорил, пока грелась вторая, потом налил кофе и, загрузив завтрак на поднос, отправился к маме…
Она лежала на кровати как-то криво, неловко, бессильно свесив руку…
Но дышала! Дышала! Тяжело – так что от двери было слышно, но – дышала!
Сунув на столик ненужный уже поднос, я кинулся к кровати.
Моих познаний хватило на предварительный диагноз – вероятнее всего, инсульт, и, похоже, обширный.
Вызвав «Скорую», я переложил маму так, как предписывала инструкция по оказанию первой помощи. В некотором смысле ей повезло, что она не поужинала.
Ну где же эти чертовы медики?! Я клял нерасторопность «Скорой» (тоже мне, скорая, черепахи они, а не скорые!), клял дорожные пробки (хотя в последнее время их стало гораздо меньше, да и время еще не пиковое) и уж вовсе на чем свет стоит клял себя за нашу с Феликсом вчерашнюю вечеринку. Но разве угадаешь… Оставалось надеяться, что еще не слишком поздно.
Реанимационная бригада приехала быстро (это только мне казалось, что прошло какое-то безумное количество времени), оснащенная всем необходимым, включая портативный томограф, так что клиническая картина стала ясна уже по дороге в больницу.
Проблемы с давлением вообще и головными болями в частности у мамы были всегда, сколько себя помню. Она говорила, что это последствия той аварии (наверное, так оно и было), а я просто принимал ситуацию как данность. Ну радовался, что мама старается вести здоровый образ жизни – при сосудистых проблемах первое дело. Иначе, конечно, все могло случиться гораздо раньше. Но… могло не могло, а сегодня есть сегодня.
В машине мама пришла в себя. Она даже попыталась заговорить, но язык ее почти не слушался. Равно как и тело. В общем, картина вырисовывалась совсем невеселая.
Пожилой реаниматолог, увы, лишь подтвердил мне мои собственные умозаключения:
– Мы, конечно, по максимуму восстановим кровообращение, но, как видите, серьезно поражены двигательные центры, и не только они. Счастье, что до дыхательных не дошло. Пока не дошло. При таком масштабе и локализации поражений оперативное вмешательство бессмысленно, нейрохирургия тут ничего не сделает. Только терапевтические методы. Ну, посмотрим… Лишнего веса нет – это огромный плюс. И сердце практически здоровое. Ваша мама, очевидно, тщательно следила за собой. Но… Инсульт может случиться даже у двадцатилетних здоровяков, а в этом случае… Старая травма – она ведь, судя по записям, тяжело пострадала в автомобильной аварии? – старая травма головы может проявить себя спустя десятилетия. Даже прогноз сейчас не берусь давать. Конечно, всегда надо надеяться на лучшее и, если произойдет чудо, впоследствии придется постоянно держать ее на жестком гемостатическом курсе. Ну и реабилитационная терапия, само собой.
Усевшись на подоконник напротив двери в мамину палату (там обнадеживающе светились мониторы и мигали датчики системы жизнеобеспечения), я – впервые в жизни – почувствовал себя бессильным. Я не мог помочь. Я ничего не мог. Как налысо остриженный Самсон.
Мама… Это как воздух, наверное: пока дышишь, не замечаешь, что он есть. Но когда становится нечего вдохнуть… Я всегда был очень самостоятельным, даже когда был ребенком. Я, казалось бы, никогда не нуждался ни в какой поддержке. Но теперь мой мир – я никогда, никогда не задумывался, какую роль в нем играет мама, – мой мир внезапно начал превращаться в безвоздушное пространство. Дышать еще было можно, но я словно бы видел, как воздуха в мире становится все меньше и меньше…
Разве можно жить, если нечем дышать?
«Но Феликс ведь как-то живет, – отстраненно подумал я. – А он вообще не помнит своей матери, словно ее никогда не было. И живет. Вроде бы я всегда это знал, но сейчас осознание было острым, как…»
…как внезапный телефонный звонок.
Феликс – сияло на экране коммуникатора над привычным предложением: принять вызов?
15.12.2042.
Городок Корпорации. Ойген
С утра меня вызвал к себе Ройзельман.
После нашего маленького и, не скрою, весьма приятного приключения с Эдит мы не застали шефа на месте. Куда-то его унесло. Очень странно: обычно Ройзельман находится в городке практически безвыездно. Я понимал, что его передвижения – вне моей компетенции, он сам себе хозяин, а я только слуга, слугам не докладывают. Но все же встревожился. Как встревожился бы от любого нарушения привычного хода вещей. Только почему-то сильнее.
Моя же свежеобретенная любовница уехала домой, ничуть, похоже, не переживая. Я поймал себя на мысли, что совсем ничего о ней не знаю, хотя знакомы мы уже давно. В Корпорации с этим было строго. Ничего личного, только служебные контакты. У Эдит могло быть трое мужей и пятеро детей – или наоборот, – но я мог лишь строить на этот счет предположения разной степени правдоподобности. Спросить? Ну-ну. Все равно ведь ничего не скажет, зато уж язвить будет непременно.
Ну да черт с ней, с Эдит, она-то в любом случае выкрутится. О себе нужно думать. Мало мне внезапного отсутствия Ройзельмана на месте (не к добру это, ох, не к добру), так еще этот вызов с утра пораньше. И вряд ли – чтобы наградить орденом. Наоборот – куда вероятнее.
В общем, направляясь к шефу, я понимал, что в меня полетят все на свете шишки, а зная Ройзельмана, мог быть заранее уверен, что каждая из этих шишек будет начинена не менее чем полутысячей фунтов напалма. Ну или гексогена. Если все обойдется банальным навозом, я могу считать, что мне повезло. Отмоюсь, не привыкать.
Шеф сидел в кабинете, в неизменном строгом костюме. На столе стояла чашечка кофе, к которой, по всей вероятности, не притрагивались. Смотрел он на меня, но казалось – сквозь меня.
– Ойген, – начал он, привычно проигнорировав приветствие. – У меня есть своя методика работы с людьми. Я даю человеку раскрыться, проявить себя. Я не вмешиваюсь, только смотрю, пока не увижу все, что можно. И только тогда выношу суждение.
Начало было столь многообещающим, что у меня спина словно покрылась ледяной коркой. Продолжение было еще лучше:
– Я очень не люблю менять своего суждения о человеке, потому что, как правило, мало что может изменить его. Но бывают и исключения. Откровенно говоря, исключения мне не нравятся. Видишь ли, я могу позволить себе слабость привязываться к некоторым людям, делать их своими фаворитами и в некотором смысле доверять им.
Первая моя мысль была панической – он узнал о моих приключениях с его конкубиной. Вторая странной: такое доверие, пожалуй, страшнее любой опалы. В голосе Ройзельмана не было ни гнева, ни раздражения, ни даже презрения. Полное равнодушие. Почему-то вспомнилась старинная китайская казнь, о которой я где-то когда-то читал, – перепиливание тупой пилой. Помню, читая, я очень хорошо представил себе эту пилу – гнутая, с обломанными зубьями и непременно ржавая.
– Возможно, тебе кажется, – все тем же равнодушным голосом продолжал Ройзельман, – что твое недавнее перемещение в нашей иерархии было понижением. Формально – да, фактически же я доверил тебе даже больше, чем раньше. Ты отвечаешь за брюхо нашей корпорации. Не прикрытое ничем нежное, беззащитное брюхо. Поэтому я хочу пояснить тебе одну вещь. Возможно, ты и сам ее прекрасно знаешь, но…
Шеф все-таки взял чашечку.
У него были длинные тонкие пальцы с ровными, почти овальными ногтями. Кажется, такие ногти называют миндалевидными. Господи, о чем я думаю?!
Едва пригубив кофе, Ройзельман поставил чашечку на стол. Все его движения были безукоризненно точными, как у автомата. Это внушало безотчетный, атавистический страх, гораздо более сильный, чем если бы вместо шефа в кабинете оказался вдруг голодный саблезубый тигр.
Пауза казалась бесконечной.
– …но твои действия заставляют меня сомневаться в этом.
Тон шефа оставался ровным, в словах тоже не было ничего угрожающего. Наверное, таким тоном японские сёгуны беседуют с проштрафившимися самураями, прежде чем отдать приказ о совершении сеппуку.
Скорей бы уж. Страх, как ни глупо это звучит, страшная вещь. Он сам по себе гораздо страшнее того, что его вызывает. Вот сейчас, к примеру. Боюсь ли я, что шеф меня уничтожит? Да. Но еще хуже – ожидание этого. Кажется, я сейчас даже сеппуку не смог бы совершить – просто не хватило бы сил шевельнуться, все тело превратилось в какое-то безвольное, дрожащее желе.
– Формально я подчиняюсь Фишеру, – с тем же безразличием говорил Ройзельман. – Он уже давно витает в облаках, не вникает ни во что и лишь снимает сливки с наших операций. Поэтому он считает, что наличие денег и тот факт, что он формально мой наниматель, ибо платит за мои услуги, что эти обстоятельства делают его хозяином положения. Но настоящим хозяином… – Ройзельман встал.
Я редко видел его стоящим. Быть может, потому что он слегка сутулился и то ли вертикальное положение было для него неудобным, то ли он стеснялся своей согнутости. Хотя мне трудно представить, чтобы Ройзельман чего-то стеснялся.
– …настоящим хозяином человека делают не деньги и даже не власть. – Он медленно подходил ко мне, и казалось, в кабинете становится темнее, хотя за окном было все то же по-зимнему пасмурное утро. – Ты боишься, Ойген. – Он остановился в паре шагов и смотрел на меня с искренним любопытством, как ребенок, впервые увидевший ползущего жука.
Я кивнул – было бы глупо отрицать очевидное.
– Ничего, все люди боятся. Именно страх делает человека человеком. Перефразируя Рене Декарта, человек боится – значит, человек существует. Страх и жизнь практически неразделимы. Вернее, жизнь – это и есть страх. Чего ты боишься?
Его вопрос прозвучал как удар хлыста, хотя тон не изменился ни на йоту. И ответил я предельно откровенно:
– Боюсь утратить ваше доверие.
Он улыбнулся. Как обычно – едва заметно.
– Правильно. Но к этому мы еще вернемся. Ты читал Библию?
Наверно, если бы этот же вопрос мне задала умирающая от СПИДа порнозвезда, я удивился бы не меньше.
– Нет. Мой отец считал, что это – пустое занятие для баб и тупиц. А в институте у меня были другие интересы. Да и после как-то не пришлось.
– Напрасно. Чтобы читать Библию, не обязательно быть истовым святошей. То же я могу сказать и про Коран, Веду, черную книгу Шандора Лавея. Чтение этих книг – способ понять человека и человечество. Жаль. Значит, ты не знаешь истины: кто чем побежден, тот тому и раб. Пьяница – раб бутылки, развратник – раб женской плоти и собственного вожделения, а человек – раб страха.
Он отступил на шаг и снова пристально уставился на меня.
Так художник рассматривает модель, подумал я совсем некстати. Или – скорее – так палач глядит на жертву, прикидывая, как точнее отделить голову от тела.
– Ты не можешь не бояться, – констатировал Ройзельман. – И страх дает власть над тобой. Религия, государство, рыночная экономика, армия, полиция – ни одно из человеческих учреждений не устояло бы, не будь оно сковано цементом животного страха. Помни об этом. Страх – это поводок, за который тебя держат.
– Кто? – Мой вопрос прозвучал наивно и глупо.
– Я, например. – Уголок его рта чуть дернулся в усмешке. – И для тебя же будет лучше, если этот поводок буду держать только я. «Да не будет у тебя других богов», как сказано все в той же Библии. И не потому, что я такой уж ревнитель и собственник, а ради тебя самого же.
Кажется, я понял, о чем он говорил.
– Не забывай об этом никогда. – Его тон чуть изменился, предвещая, что экзекуция движется к своему финалу. – Не забывай. Ни когда, попивая на террасе кафе кофе по-ирландски, беседуешь с отставной балериной, ни когда ведешь машину, ни когда в извращенной форме трахаешь нашего координационного директора. – На его губах на миг вновь появилась улыбка, но тон был столь ровен, словно он не в посягательстве на его собственную любовницу меня обвинял (когда он успел узнать?), а таблицу умножения читал. – Если уж бояться, то выбирай себе достойный объект для страха.
Я кивнул. Ройзельман вернулся наконец в свое кресло.
– Следивший за вами офицер полиции выжил, – сообщил он спокойно. – Это девушка, молодая и очень амбициозная. И можно допустить, что она взяла горячий след. Пока оснований для беспокойства нет, дело сейчас находится под моим контролем. Но если тебе захочется устранить эту проблему, я не возражаю. Прекрасно понимаю, каково это – жить с нависшим над тобой дамокловым мечом.
Устранить? Интересно, в каком это смысле?
– Только прошу тебя, будь предельно аккуратен. Никаких осечек. Подставляя себя, ты и меня подставляешь. Незаменимых людей нет, но лучше обходиться без замен. Ты понимаешь?
Я тупо кивнул.
– И что ты понимаешь?
Вопрос был очень непростым. Вопреки словам Ройзельмана, я не верил в тот пассаж про наблюдение, суждение и последующее доверие. Не верил ни на йоту. Не такой он человек, чтобы доверять кому-нибудь. А он видел, что я в это не верю.
– Что я должен оправдать ваше доверие, – сказал я, ибо никакого другого ответа придумать не сумел, а затем, осмелев, добавил: – Поскольку вы и только вы мой начальник и, смею думать, мой наставник. Подставляя себя, я подставляю вас. И поэтому я должен быть чист: никаких следов, никаких свидетелей, никаких зацепок.
– Ты говоришь слишком красиво, – усмехнулся он. – Но суть уловил верно. Скажу откровенно – в тебе меня устраивает все. Кроме сказанного выше. Пока устраивает.
Я вновь кивнул, как китайский болванчик, но на душе слегка отлегло. Когда начальство вызывает тебя «на ковер» и дает взбучку, многие начинают тешить себя идеями мести, строить коварные планы шантажа, мечтать, что когда-нибудь они перепрыгнут выскочку-шефа и уж тогда… Так устроена жизнь любой компании. Почти любой. Ройзельману невозможно противостоять, его нереально шантажировать, и уж точно никто не мог бы его перепрыгнуть.
– И еще. – Он слегка нахмурился. – Умерь, пожалуйста, свои аппетиты. Слишком большое количество пропавших женщин вызывает подозрения. Ты подвергаешь себя ненужному риску. К тому же заработала наконец пенитенциарная часть нашей программы, и теперь у нас уже нет столь острой нужды в донорах. А мне бы не хотелось, чтобы твоей службой занялись всерьез правоохранительные органы. Так что пока надо не делать лишних движений. Скоро, кстати, у тебя будет полно работы в спецблоке.
Он сделал небольшую паузу. Я молчал.
– Пока мы не имеем всей полноты власти, – сказал он, и его взгляд стал каким-то рассеянным, словно он говорил не со мной, а с каким-то невидимым собеседником. – Но мы захватываем ее, как раковая опухоль захватывает организм. Извини за сравнение, но точнее не выдумать. Наши метастазы уже везде. Они пожирают общество, клетка за клеткой, ткань за тканью, орган за органом. Только в отличие от канцера наше распространение несет жизнь и свободу. Немного терпения.
Он говорил и едва заметно улыбался.
– И какова же наша конечная цель? – отважился спросить я.
– Если искать конечную цель во всем, – сказал он, словно продолжая разговор со своим невидимым собеседником, – то конечной целью любого человека будет могила. Есть нечто большее, чем конечная цель. Хотя мало кто это понимает.
Он посмотрел прямо на меня, и я вновь почувствовал себя жуком, которого разглядывает любознательный ребенок. Сейчас мне оторвут лапки. Не со злобы, а просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Дурацкая мысль, но, зная моего шефа… вообще-то с него бы сталось оторвать кому-нибудь «лапки», просто чтобы поглядеть, что из этого выйдет. Кстати, за последние пару месяцев уже тысячи женщин сами принесли ему свои «лапки» на «отрывание». Я поежился от собственного сравнения.
– Мы все умрем, – сказал Ройзельман с каким-то мрачным удовлетворением в голосе. – Я умру, ты умрешь, наша с тобой любовница умрет, и все ее достоинства съедят могильные черви. Но пока мы живы. И пока этот прекрасный процесс не завершился, жизнь – это и есть цель. Жизнь и свобода от страха.
Холодея от собственной наглости, я едва слышно спросил:
– А чего боитесь вы?
И тут он впервые улыбнулся по-настоящему. Что это была за улыбка! Убийственная! Буквально. Если бы я был Альбрехтом Дюрером (единственный художник, чьи рисунки мне по-настоящему нравятся), я бы рисовал смерть только с лицом Ройзельмана. И смерть улыбалась бы.
– Ничего, – сообщил он с этой самой убийственной улыбкой. – Уже ничего, Ойген. Впрочем, это не имеет значения.
Уже?
Выходит, было время, когда Ройзельман чего-то боялся?
Было и прошло?
И – главный вопрос – зачем Ройзельман меня сегодня вызывал? Сообщить о том, что полицейский выжил (собственно, выжила, но это совершенно не важно), можно было и по телефону. Это полминуты. Зачем нужно было терзать меня еще час? Чтобы в очередной раз продемонстрировать почти божественное (или дьявольское) всевидение? Или просто для подкрепления условного рефлекса: хозяин – здесь? Или шефом двигало еще что-то, вовсе не доступное моему пониманию?
15.12.2042. Город.
Городская клиника. Феликс
Врач Риты – молодой, лет, может, на пять старше меня, шатен с водянисто-серыми глазами и совершенно не идущей ему козлиной бородкой – не понравился мне сразу. Может, потому что из-под халата посверкивал значок Корпорации на лацкане пиджака? Или усталый взгляд показался мне слишком равнодушным? Или желтые от табака пальцы раздражали?
– Ваша девушка была прекрасным водителем, – сказал он, закуривая какую-то крепкую дрянь вроде той, которой травится Рита.
– Была? – испуганно переспросил я.
– Вряд ли она когда-нибудь еще сядет за руль, – он пожал плечами, – даже при самом благоприятном исходе. Но в данном случае ее умение и реакция спасли ей жизнь.
– Что с ней? – нетерпеливо спросил я.
– В момент удара она успела сбросить ремень безопасности и открыть дверь машины с противоположной стороны. Это спасло ей жизнь и могло спасти ее вообще: удар вышвырнул ее на дорогу, так что она отделалась ушибами, ссадинами и несколькими не особо серьезными трещинами. Но при этом она сильно ударилась головой – то ли об дверь машины, то ли о землю, она сейчас мерзлая.
Я молчал, не в силах вымолвить хоть одно слово.
– В общем – посттравматический инсульт со сложной клинической картиной. Показана нейрохирургическая операция. Дело, в общем, плохо, но не безнадежно.
– Почему же ее не оперируют? – не понял я.
– Это деликатный вопрос. – Врач выжидательно и оценивающе глядел на меня.
Я взорвался:
– Да говорите уже как есть!
– Именно поэтому я вас и вызвал, – абсолютно спокойно сообщил он. – Видите ли, у нее нет общей страховки. Только профессиональная. Страховое общество уже заявило, что данный случай не входит в рамки контракта, – госпожа Залинская находилась не на службе.
– И что это значит?
Он вздохнул:
– Это значит, что у вашей девушки нет денег, чтобы оплатить свое лечение. Стоимость операции довольно значительна. – Он назвал сумму, от которой у меня потемнело в глазах. – Плюс сопутствующие расходы: стоимость палаты, обслуживания, медикаментов, аппаратуры. Это тоже немалые деньги. И сумма все растет.
– И что же делать? – Я по-прежнему не понимал, зачем он мне все это рассказывает. Поиздеваться, что ли? Ясно же, что у меня нет таких денег. И знакомых миллионеров – тоже нет.
– Нужную сумму, – равнодушно сообщил мой визави, – может обеспечить участие госпожи Залинской в Программе. В качестве донора.
Господи! У меня перехватило горло.
– На текущий момент однократное донорство покрывает стоимость и операции, и уже сопутствующих расходов. Но сумма постоянно растет, поэтому не советую вам тянуть с решением. Через сутки с небольшим сумма пересечет эту планку, и придется искать дополнительные средства. Это не считая того, что успех такого рода операций напрямую зависит от того, насколько быстро проведено вмешательство.
У меня все тело стало ватным, а голову словно набили колючим сеном. Что делать?! У меня же ничего нет! Совсем!
– Скажите, а если я выступлю донором?
Доктор скептически посмотрел на меня:
– Вообще-то мужской организм, как известно, для участия в Программе непригоден.
– Нет-нет, не в этом смысле. Я могу пожертвовать каким-нибудь органом…
– Органы сейчас успешно воспроизводят на 3D-принтерах, – сухо заметил мой собеседник, – а люди, потерявшие конечности, и вовсе предпочитают прекрасные киберпротезы корпорации Фишера. Зачем возиться с приживлением чужой, эстетически несовершенной конечности, если можно заказать почти такую же, как была, но более надежную, пусть и неживую? Нет, господин Зарянич, вы здесь ничем не сможете помочь.
Я чувствовал себя так, словно сорвался с горы и лечу в пропасть. Но еще не упал, не разбился, значит…
– Я понимаю, вам надо подумать. Но не тяните с этим, повторяю, – сказал он, уходя. – Времени не так уж много, и оно идет.
Он ушел, а я остался торчать у дверей клиники. Без малейшей идеи в голове.
Я все еще крутил в руках коммуникатор. Коммуникатор? Но кому звонить? Максу? Да, Максу. У него, конечно, таких денег тоже нет, но, может, он что-нибудь придумает, посоветует?
Однако уже по голосу Макса стало ясно, что все еще хуже, что беда одна не ходит.
– У мамы инсульт, – сказал он вместо приветствия.
У меня в душе оборвалась последняя ниточка надежды. Теперь точно помощи не будет ниоткуда. Я один в этом мире, совершенно один.
– Макс, ты где?
– В клинике, в первой реанимации.
– Я тоже в клинике. Где точно?
– Третий этаж, бокс триста пять.
Когда я поднялся наверх, Макс сидел в палате, возле матери. Усталый, подавленный, практически раздавленный человек. Его трудно было узнать. Наверное, я просто сообразил. Не был готов к тому, что могу увидеть, слишком привык считать его неуязвимым Суперменом, которого ничто не может вышибить из седла.
– Это конец. – Голос Макса был едва слышен.
Я посмотрел на мониторы, безжалостно фиксирующие жизненные (по сути – предсмертные, томограф не обманешь) показатели Анны, и на мгновение вспомнил Алекса: кажется, я впервые почувствовал, что именно пережил мой учитель пятнадцать лет тому назад.
– Зачем ты звонил, что случилось? – Макс справлялся с эмоциями быстрее меня. Спасатель.
Думаю, меня подтолкнула именно эта мысль. Да, ясно, что грузить его еще и своей (Ритиной!) бедой было сущим эгоизмом. Но – ведь, несмотря на собственную трагедию, он вспомнил о моем звонке и…
И я выложил все, включая стоимость операции и предложенный «выход». Услышав о предложении доктора, Макс присвистнул:
– Совсем зарвались, гады. Все им мало. Любую женщину готовы искалечить, чтобы побольше хапнуть. Черт! Нейрохирургия – да, это дорого, сумму за операцию он тебе, скорее всего, правильную назвал. Черт, черт, черт! Феликс, я не знаю, где можно взять такие деньги. Мне, конечно, неплохо платят, но это несопоставимые суммы. Можно было бы продать дом, но с такой срочностью… нет. Не знаю.
– Вот и я не знаю, – прошептал я, теряя последнюю надежду.
Любая идея разбивалась об очередное «но».
– Позвоню Ойгену, – решительно заявил Макс. – Может, он что-нибудь придумает, он же на эту чертову Корпорацию работает.
Душа восставала против этого решения, но что еще остается? Обратиться к Алексу? Несмотря на всю его заботу, кто ему я?
Но я позвоню и ему. Только соберусь с мыслями. Потому что это будет уже действительно последняя – самая последняя надежда. Которая тоже наверняка разобьется об очередное – последнее – «но».
15.12.2042. Город.
Мария
После смерти родителей больше всего я боялась, что сначала однажды ночью Рита не придет ночевать (такое случалось часто, и я к этому уже привыкла, как и к тому, что время от времени до нее невозможно было дозвониться), а утром мне позвонят и скажут…
Позвонили мне не утром, а только в обед, точнее, после третьего урока. То есть звонили мне с девяти утра, но мой телефон лежал в сумочке, а сумочка, как всегда, – в учительской. А поскольку первый урок был спаренный, а после второго я забежала в столовую перекусить, к телефону я подошла только на третьей перемене.
– Мария Залинская? – холодно осведомился незнакомый голос. – Я из городской клиники, первое отделение реанимации.
Правду говорят, что с человеком всегда случается именно то, чего он в жизни боится больше всего. Я увидела все так ясно, как бывает при вспышке молнии.
– Она жива? Она будет жить?
– Да, но…
– Что «но»? Говорите же! – Я практически кричала в трубку.
– Нужно кое-что обсудить. Не по телефону. Подъезжайте сюда. И, пожалуйста, как можно быстрее.
– Что именно обсудить? – Я ничего не соображала, говорила по телефону вместо того, чтобы уже мчаться в клинику.
Но мой собеседник уже отключился.
Кажется, меня еще хватило на то, чтобы отпроситься у сестры Валентины – дети ведь не виноваты, урок нельзя отменять. Да, точно, я отпросилась, потому что она велела нашему завхозу подвезти меня до клиники, напутствовав печальной улыбкой:
– Бог пусть поможет вашей сестре и вам.
Наш завхоз, пожилой, но еще крепкий мужчина с морщинистым лицом и черными цыганскими глазами под густыми, как осенние тучи, бровями, молча завел старенький приютский микроавтобус и жестом пригласил меня занять место рядом с собой. Всю дорогу перед моим внутренним взором безжалостно крутились кадры из полицейской хроники: изломанные, изуродованные, обожженные жертвы автокатастроф.
Боже мой! Рита, моя сильная, моя отважная сестра! Что мне отдать, чтобы ты жила?
Когда мужчина в наброшенном на плечи белом халате (наверное, это был лечащий врач Риты) назвал мне стоимость операции, на меня словно рухнуло небо. Как же это?!
У нас с Ритой не было никаких сбережений, все, что оставалось от родителей, было потрачено на учебу. Машина после аварии не подлежала ремонту, а на квартире висел недовыплаченый кредит – пусть и небольшой, но перезаложить ее просто не получится. Тем более у меня.
Вот будь на моем месте Рита, она как-нибудь бы справилась, но я – не она. Я непрактичная, я…
Когда врач в наброшенном халате предложил мне донорство в Программе, я возблагодарила небеса. Ну, подумаешь, рука (или нога)! Ради Риты? Чтобы она жила? Да сколько угодно!
Да, сколько угодно…
Доктор одобрительно кивнул, быстро набрал какой-то номер, обменялся с кем-то несколькими короткими, деловыми, односложными фразами.
– За вами вышлют машину, – сообщил он. – К счастью, у меня на примете как раз есть семья, которая давно хотела иметь ребенка. Вы спасете свою сестру ценой потери одной конечности. – Он вздохнул. – Если бы можно было обойтись без этого. – Это прозвучало довольно фальшиво, но мне было все равно. Главное – Рита выживет. – Клиника пойдет вам навстречу, – объяснял он, пока мы ждали машину. – Пока вы оформляете документы и реализуете контракт, мы будем проводить поддерживающую терапию за свой счет. Но не тяните с этим.
Как будто я собиралась тянуть! Быстрее, быстрее, где там эти чертовы документы на донорство, где там этот ваш аппарат?!
У выхода из отделения доктор усадил меня в новенький «Роллс-Ройс».
Когда я садилась в машину, над нами пролетели два ворона. Они летели совсем низко и зловеще скрежетали. Наверное, это были те самые… Провожали…
Глава 2. Жертвоприношение: донация[2]
15.12.2042. Город.
Клиника. Анна
Боль была всеобъемлющей и бесконечной.
Она плескалась в моей голове тяжелым багровым морем, и от нее некуда было бежать. Я сама врач и прекрасно понимала, что это значит. Никаких иллюзий у меня не было.
Собрав волю в кулак, я открыла глаза. Передо мной словно плыл туман, но усилием воли я разогнала и его. На самом деле это просто. Я сказала бы, адски просто – надо только смириться с тем, что твоя боль больше никуда не уйдет. И действовать, не обращая внимания ни на что.
Как тогда, в то бесконечно далекое время, когда у моей кровати в совсем другой клинике появился змий-искуситель. Лишенный каких бы то ни было человеческих чувств, с холодными змеиными глазами.
Искоса (голова не поворачивалась) я бросила беглый взгляд на мониторы. Да уж, убедительно. На томографе была прекрасно видна картина разрушений – алые пятна кровоизлияний растекались по мозгу, проникали вглубь, поражая его слой за слоем. И каждое мое усилие – мыслить ли, двигаться ли – усугубляло и без того безрадостную картину. Все-таки человек – удивительное существо: мне казалось, что я все чувствую и понимаю совершенно ясно, хотя, судя по показаниям приборов, конец меня как личности приближался стремительно и неотвратимо. И я его, похоже, еще ускоряла.
Неподалеку от меня, но глухо, как сквозь подушку, слышались голоса Макса и Феликса.
– Я сейчас позвоню Ойгену, – говорил мой сын. – Может, он что-нибудь придумает, он же на эту чертову Корпорацию работает.
Как страшно было это слышать! Как же я хотела остановить его! Сказать, что Корпорация – это чудовища, в которых нет ничего человеческого, и Ойген – такое же чудовище. Враг.
Нужно рассказать Максу правду, до которой он даже сейчас, когда везде кричат про АР, так и не додумался.
Но я не могла, я не могла произнести ни слова.