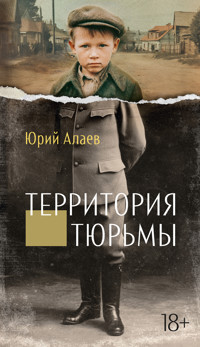
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Азбука. Голоса
- Sprache: Russisch
В 1952 году маленький Горка с родителями наконец переезжает в отдельное жилье. Квартира — на самом деле сдвоенное стойло в конюшне женского монастыря на окраине Бугульмы. Монастырь переделали в тюрьму, а стойла прилегавшей конюшни — в квартиры. Бугульма становится для Горки прообразом большого мира. Здесь он будет взрослеть, заводить друзей, влюбляться, делать глупости и совершать благородные поступки. «Территория тюрьмы» — именно так называют этот дом сами жители — в действительности становится для ребенка, а затем молодого взрослого местом, где он учится быть по-настоящему свободным. Этот роман — история взросления на фоне важных событий: смерть Сталина, разоблачение культа личности, полет Гагарина в космос, шестидесятничество. В этой книге удивительным образом сочетается размеренное дыхание большой истории, как в романе «Ложится мгла на старые ступени», и обаяние «пацанской» романтики, как в «Слове пацана».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Оформление обложки Ильи Кучмы
Алаев Ю.
Территория тюрьмы : роман, рассказы / Юрий Алаев. — СПб. : Азбука, Издательство АЗБУКА, 2025. — (Азбука. Голоса).
ISBN 978-5-389-30226-6
18+
В 1952 году маленький Горка с родителями наконец переезжает в отдельное жилье. Квартира — на самом деле сдвоенное стойло в конюшне женского монастыря на окраине Бугульмы. Монастырь переделали в тюрьму, а стойла прилегавшей конюшни — в квартиры. Бугульма становится для Горки прообразом большого мира. Здесь он будет взрослеть, заводить друзей, влюбляться, делать глупости и совершать благородные поступки. «Территория тюрьмы» — именно так называют этот дом сами жители — в действительности становится для ребенка, а затем молодого взрослого местом, где он учится быть по-настоящему свободным. Этот роман — история взросления на фоне важных событий: смерть Сталина, разоблачение культа личности, полет Гагарина в космос, шестидесятничество. В этой книге удивительным образом сочетается размеренное дыхание большой истории, как в романе «Ложится мгла на старые ступени», и обаяние «пацанской» романтики, как в «Слове пацана».
© Ю. П. Алаев, 2025© Оформление.ООО «Издательство АЗБУКА», 2025Издательство Азбука®
Моим дочерям Ане и Даше: сами того не зная, они помогли мне преодолеть мою леностьОсобая признательность Шамилю Идиатуллину: если бы не его морально-волевая поддержка, эта книга, скорее всего, не увидела бы свет
Конюшня
В 1952 году Горкиному отцу, как прилежному коммунисту, дали отдельное жилье. Это было сдвоенное стойло в конюшне женского монастыря на окраине городка под названием Бугульма. Монастырь там был до революции, а после его переделали в тюрьму; стойла прилегавшей конюшни вычистили, прорубили окошки, приделали крыльца. Теперь в этих помещениях селились граждане нового мира. Новоявленному дому о девяти квартирах присвоили № 2 по улице Казанской, но так его не называли даже почтальоны, — место было известно как «территория тюрьмы»: от увитых колючей проволокой стен бывшего монастыря конюшню отделяли каких-то пара десятков метров. При желании в укоренившемся названии можно было усмотреть некий символизм, но местным ничего такого не приходило в голову, — территория и территория. Тем более что и сам город в предуральской лесостепи возник из воинской заставы на каторжном Сибирском тракте. Как считают образованные горожане, отсюда произошло и название: в переводе с татарского «бэгелма» значило «не сгибайся»; якобы этим возгласом местные жители подбадривали бредущих мимо кандальных, поднося им хлеб и воду.
Квартира, доставшаяся Горкиной семье, была хорошей. Предыдущие хозяева сложили здесь добротную русскую печь, выгородили кухоньку, стены оклеили дешевенькими, но свежими обоями. Вдобавок в квартире имелись просторные сени, которые в теплое время года легко превращались в летнюю кухню, и вместительный чулан. Мать с отцом в один заезд на полуторке перетащили из угловой комнатенки, которую они снимали в доме отцова брата (мать упорно называла ее хлевом), весь свой скарб. Отец уехал на работу, а мать принялась осматриваться, соображая, с чего начать обустройство.
Первое, что она сделала, — укрепила в простенке между окнами наклонное зеркало. И встала перед ним, оглядывая себя и оглаживая на бедрах веселенькое крепдешиновое платье. Тридцатидвухлетняя крепко сбитая женщина, способная и коня, и в избу, оттрубившая три года на войне, не чаявшая дождаться иной, чем в казарме или коммуналке, жизни, наконец стала хозяйкой чего-то своего — отдельной квартиры. Так! — пристукнула она каблучком по бурому от въевшейся грязи полу и пошла к колонке за водой — отскабливать-отмывать.
Зеркало
Для своих трех с небольшим Горка был весьма смышленым мальчишкой. Он, например, понимал, что его мама — красивая, она ему нравилась, хоть была строга, и он также понимал, что мама себе тоже нравится, и то, что она первым делом повесила зеркало, — правильно и хорошо. Правда, Горка не сразу сообразил, зачем надо было крепить верхнюю часть зеркала с отступом от стены, но сообразил-таки: при относительно маленьком размере оно, наклонное, позволяло даже взрослому человеку видеть себя в полный рост. А вскоре Горка открыл и другое свойство этого зеркала: если подойти к нему сбоку, можно увидеть ту часть квартиры, которая была с другого края.
Обнаружив это явление, Горка взял за правило каждое утро совершать обход зеркала, точнее — обеденного стола, который поставили к стенке под ним, и рассматривать жилище. Почему-то так оно выглядело ярче и объемнее, чем на самом деле. Слева в зеркале был виден угол казавшейся огромной беленой печи, а следом — трехстворчатый шифоньер (там на средней створке тоже должно было быть зеркало, но мать решила сэкономить при покупке). За ним — вход в кухню, где, помимо крашенного зеленым серванта и стола с табуретками, стояла мамина кровать; а если подойти к зеркалу с другой стороны, то справа были видны две кровати — отца и Горки, — их расположили вдоль стены, под коврами (отцовский — с оленем, Горкин — с парой лебедей на лесном озере). А выход в сени был невидим под углом, тут надо было встать прямо перед зеркалом. Но тогда перед Горкой возникал бледный мальчик с темными кругами под глазами, и этот вид его пугал. Он и это уже понимал: с ним что-то не так.
Круги под глазами были следствием ночных кошмаров, когда он просыпался оттого, что кровать под ним начинала раскачиваться и кружиться, а следом раскачивались в полутьме стены и потолок; Горка кричал, захлебываясь слезами, мать соскакивала с кровати, отпаивала его, потом ложилась к нему в постель, укрывая собой от напастей, и Горка засыпал. До следующего кошмара через день или два.
Интересно, что при всей своей анемичности Горка был не дурак поесть, но мать кормила его в основном кашками, супчиками, гоголями-моголями, он ел все это через силу и ждал, когда у отца будет аванс, а через две недели — и получка, как это родители называли. В такие дни к ним приходили гости, отцовы сослуживцы, и тогда мать меняла клеенку на льняную скатерть и зеркало отражало тарелки и миски с солеными груздями, огурцами, квашеной капустой, докторской колбасой и селедкой, чугунки с кусками тушеной свинины и — отдельно — с исходившей паром вареной картошкой. И кувшин бражки, и пара бутылок «белоголовой» тоже непременно отражались в зеркале, куда же без них. Такой фламандский натюрморт а-ля рюс в темно-коричневой раме, оживленный гаммой сытных пряных запахов и звяканьем посуды и рюмок, когда мужчины — большие, как шкафы, красномордые — чокались, выпивая за общее здоровье. Горке тоже наливали — клюквенного морса или кваса в маленькую граненую рюмку на ножке, и гости поощрительно смеялись, когда он залихватски опрокидывал ее и с серьезным видом принимался закусывать, хрустя капустой и руками раздергивая на волокна мясо.
Горка усвоил, что к отцу в гости приходили однополчане, все где-то там воевали с «фрицами» и часто вспоминали, удивляясь и радуясь, как удалось остаться в живых. Еще говорили о каких-то колорадских жуках, которых с самолетов разбрасывают над нашими полями американцы и которые потом «жрут картошку» (услышав об этом в первый раз, Горка опасливо посмотрел на чугунок), о дусте (ДДТ, поправлял кто-то), которым надо посыпать всходы, чтобы уберечься от жуков, о каких-то «студерах», которые американцы погрузили на корабли, вывезли в море и затопили, только чтобы нам не остались (много позже, повзрослев, Горка узнал, что имелись в виду «студебекеры», поставлявшиеся во время войны из США по ленд-лизу), — о разном разговаривали, но все равно как-то все сворачивало на войну — на прошедшую и, кажется, на будущую.
Однажды из разговора выплыла фамилия Жуков, — мол, вот как без него? — и все посерьезнели, а потом один произнес сокрушенно: «он же прям в ложу к Самому спустился по трубе! И говорит: „товарищ Сталин, как же?!“ А тот...» Что «тот», осталось невыясненным, потому что тут в разговор вмешалась мать, сказав негромко, но внятно: «заткнись, Паша». И все замолчали, ковыряясь в тарелках.
Вообще, мать с трудом переносила все эти посиделки. Горка чувствовал: она не уважает отцовых дружков (пяток лет спустя он понял, что она и отца не уважает). «Фронтовики, — фыркала она, выговаривая отцу на следующее утро, — однополчане! Какие они тебе однополчане, кто где воевал? Яйца Рузвельта в обозах уминали, — (это Горка понимал, речь шла о яичном порошке, опять американском), — теперь к тебе присосались, а ты и рад перед ними куражиться! Солдат с раной!» Последнее определение звучало погрубее, обиднее, отец багровел, но сдерживался. Может, потому, что понимал — жена кое в чем права, — фронтовиками в те годы норовили записаться все, а уж как там и где кто был на самом деле — не в застольях проверялось. Да и рана отцовская, о которой он, подпив, не уставал рассказывать, была, конечно, предметом подшучиваний. «Такой чирьяк вскочил на шее, — говорил отец, — вот с Горкин кулак, наверное, — голову не повернуть! Температура поднялась, аж мотает всего, а тут „фокке-вульфы“ эти налетели, гвоздят почем зря, и — жжик, потекло у меня под воротник. И так легко стало — ни температуры, ничего. Сел, — думаю, капец, артерию пробило. А это гной был! Чирей!» Гости понимающе кивали, посмеиваясь, но и завидуя: надо же, за всю войну один раз чикнуло, и то по чирью!
Мать слушала эти рассказы, горестно поджав губы: муж всю войну прослужил наводчиком расчета зенитного орудия, не тыловик, конечно, но все же чуть в стороне от пекла, а она успела побывать в нем самом — горела в Ил-4 в воздухе (экипаж чудом посадил бомбардировщик на своей территории), полгода провалялась в госпитале, борясь со слепотой, была списана из бортмехаников в наземные механики по вооружениям, цепляла 250-килограммовые бомбы... А тут осколком чирей срезало, и разговоров на всю жизнь!
Тем не менее она старалась быть правильной женой, знать, как говорится, свое место и безропотно стряпала к приходу гостей, ухаживала за ними, следя, чтобы тарелки были у всех полны и вовремя поменяны, подливала напитки...
Все оборвалось в один субботний вечер, когда в компании появился новенький (командированный, скупо пояснил отец, из главка) — сухощавый, среднего роста мужичонка с жидкими, зачесанными на прямой пробор волосами. Заявившись, он первым делом сунулся целовать матери руку. Горка в изумлении раскрыл рот, а мать, выдернув руку, проговорила невесть откуда взявшимся ледяным тоном: «Товарищ из господ? Должен знать тогда, что к руке склоняются, а не тянут к губам, как стакан». Эта сцена вызвала в компании секундное замешательство, но гость быстро нашелся, с улыбочкой прочастив что-то извиняющееся насчет «хондроза», и уселся в торце стола, рекомендуясь направо и налево: «Пегенякин, вот, к Прохору Семеновичу с дружеской ревизией, Пегенякин, рад». По такому поводу первую выпили за нового знакомого, затеялся общий разговор, мало-помалу все оживились, расслабились, но Горка чувствовал, что мать непривычно напряжена и старается не смотреть в сторону этого Пегенякина.
Первый раз заискрило, когда Пегенякин, подпивший уже до развязности, улучил момент и елейно спросил мать: «вот вы культурные, я вижу, с Прошей, а пиджак некуда повесить, напольных плечиков нет разве у вас?» Мать не нашлась что ответить, вспыхнула и выскочила в сени, загромыхав там ведрами, а отец принял у гостя пиджак и аккуратно повесил на спинку стула, заметив с улыбкой: «ничего, и тут не помнется». И опять все вроде успокоились, продолжили про свое. А потом разговор свернул на то, кто где квартировал в Германии после победы, перед отправкой домой, и Пегенякин принялся рассказывать про какую-то немку, все больше вдаваясь в подробности. «Ну, я ей завернул как след, — воодушевляясь до блеска в глазах, говорил Пегенякин, — а она руками плещет и — „битте, битте“, а больше и слов у нее нет!» он засмеялся было, но тут что-то свистнуло в воздухе и с грохотом рухнуло за зеркало. Все онемели, глядя на Горкину мать, которая, тяжело дыша, стояла за спиной пригнувшегося к столу Пегенякина с черенком ухвата в руках. Горка перевел взгляд с нее на зеркало и с ужасом увидел, как оно прямо на глазах принялось чернеть, ничего уже не отражая.
...Из обморока его вывели, дав понюхать уксуса. Гостей уже не было, Горка лежал в постели и смотрел, как отец пытается приладить ухват к черенку и бурчит в сторону жены: «а ты — „закрепи гвоздем“ да „закрепи“, закрепил бы, так ты башку бы человеку снесла». Тут до Горки дошло, что же это свистнуло в воздухе и улетело за зеркало: ухват слетел, когда мать замахнулась. Горка попытался представить, как он летел, но так и не понял. И уснул. Утром он пошел к зеркалу с опаской, но все было нормально: оно отражало их жилище, как обычно.
Отец
Прохор Семенович Вершков служил директором Горпромкомбината, который и приехал ревизовать Пегенякин, то есть был, что называется, не последним в городе человеком, и слухи о скандале быстро разнеслись по Бугульме, как и то, что ревизор нашел больше, чем мог бы; стали даже поговаривать, что недолго Вершкову осталось директорствовать, а как бы и не посадили. Сами собой сошли на нет многолюдные застолья в его квартире, круг друзей сузился до того, что им хватало на «посидеть» кабинета в местном ресторане. Но Вершков к своим пятидесяти успел повоевать в гражданскую, вступить в партию, худо-бедно не только школу окончил, но и кооперативный техникум, да так, что его оставили преподавать, а перед самой войной дослужился до назначения начальником швейного цеха Горпромкомбината, в одночасье выросшего на завершающем этапе индустриализации из артели «Кустарь». К тому времени он был уже дважды женат, имел от второй жены трех дочерей, жил у нее примаком... Повидал, короче, всякого, так что к несложившемуся визиту ревизора отнесся стоически и даже загордился про себя, поняв, что после случившегося жену его в городе зауважали по-особому.
На отечественную войну Прохор попал при не вполне ясных обстоятельствах: тридцать девять лет, какой-никакой, а начальник, номенклатура, дети на руках — не должны были призывать, но в октябре 42-го он как-то внезапно собрался, поцеловал в лоб суженую, хмыкнув неизвестно чему, потискал задумчиво старших дочерей, посмотрел на валявшуюся в люльке младшенькую и уехал на попутке в Куйбышев, на сборный пункт. Бывшего в ладах с математикой, Прохора Семеновича определили, как вскоре узнала многочисленная родня, в наводчики зенитного орудия, при нем он и прослужил до Победы, заставшей их батарею под Кенигсбергом.
Вернулся Прохор в Бугульму с орденом Красного Знамени (самым «мутным» по статусу и причинам для награждения из советских орденов), пятком медалей «за освобождение» и «за взятие», а также и «За отвагу» и кое-каким скарбом. Точнее, бо́льшая часть скарба уже была дома у старшего брата Василия: в 45-м воинам армии-победительницы официально было разрешено отправлять домой посылки из «заимствованного» у бюргеров добра; рядовым — до пяти килограммов в месяц, офицерам — до десяти, а генералам, поговаривали, и вообще без меры. Сержант Вершков натаскал немного: патефон, кофр с пластинками, комплект льняных салфеток с надписями по краям красным по белому «Tischtuch» (то ли «платок на стол», то ли «тряпка для стола», понимай как хочешь), двухкомфорочный керогаз с асбестовыми фильтрами, длинное кожаное пальто, габардиновый плащ и отрез тонкого сукна.
Трофеи эти оказались у брата потому, что под новый, 1945 год Прохор Семенович оказался вдовцом: жена скончалась от заражения крови. Что за заражение, откуда — никто и не разобрался толком, мало ли людей умирало в войну. Детей Василий с женой приютили, конечно, но когда Прохор вернулся в Бугульму, к «октябрьским», то тут же возник вопрос о хозяйке: куда отцу-одиночке с тремя дочерями?
Стали с родней присматривать, и выбор пал на статную шатенку Наталью, служившую кассиршей в местном «Заготзерне». Прохора она привлекла контрастом между темной «мастью» и холодным огнем голубых глаз, а также набором трофейных кокетливых шляпок и вуалей, которые Наталья надевала на танцы в городском ДК и смотревшихся на ней не хуже, чем на Любови Орловой. Деловитой жене Василия Луше Наталья понравилась тем, что была круглой сиротой. «За ней никто не встанет, а она за тебя, если возьмешь в жены, живот положит, — припечатала как-то за ужином Лукерья и добавила: — и к труду сызмальства привычная, что тебе тягловая лошадь». Последний аргумент диссонировал, конечно, с образом Любови Орловой, но произвел на Прохора впечатление. Наутро он запряг служебный тарантас и поехал в «Заготзерно» делать предложение.
Тут надо пояснить, что, демобилизовавшись, Прохор Семенович времени не терял: чуть ли не в день приезда явился в горком партии, доложился, встал на учет и после короткого разговора с «первым» получил направление на руководящую работу — в тот же Горпромкомбинат, только уже начальником не швейного цеха, а всего предприятия, в котором были еще кирпичный и столярный цеха, шорная и сапожная мастерские, а также парк гужевого транспорта, состоявший из десятка лошадей, телег и начальственного тарантаса на резиновом ходу и с рессорами от «опель-капитана». Это наследство досталось Вершкову от предшественника с неприличной фамилией Бляденков, внезапно уехавшего куда-то на Украину. Так что Прохор Семенович в самом деле был не последним в городе человеком и завидным женихом, чего экс-бортмеханик Таманского бомбардировочного гвардейского полка, а теперь просто кассир в затрапезной конторе Наталья Абрамова не могла не оценить. И оценила, утихомирив свою гордыню.
Поженились они в первых числах марта 47-го года, очень скромно, по-деловому можно сказать: днем расписались в ЗАГСе, а вечером отметили событие в пятистенке Василия на окраине Бугульмы.
Из гостей, помимо Василия с Лукерьей и двух их сыновей, были только свидетели брака: горпромкомбинатовский закройщик Лева Гируцкий, сосредоточенный еврей лет сорока с небольшим, и курчанка Клава, кладовщица конторы «Заготзерно». «Горько» не кричали (Прохор Семенович строго наказал обойтись «без детства» еще до того, как сели за стол), а песни, захмелев, пели, конечно, — и «Шумел камыш», и «Мороз, мороз»... Лева, хлебнув как следует браги, грянул было «Артиллеристам Сталин дал приказ», но был остановлен внезапной репликой Натальи: «Орел! Любишь начальникам лизать?» Она, надо думать, имела в виду, что Прохор Семенович был артиллеристом, но сказалось как-то не так, и над столом повисла тишина. На Наталью при этом не смотрели, смотрели на Леву. Он постоял, опустив голову, потом встряхнулся, взял стакан и предложил, усмехнувшись виновато: «Ну, тогда за молодую! Счастья тебе, Наталья!» Зашумели, задвигались, чокаясь, старший сын Василия, тоже Вася, кинулся заводить патефон для танцев, но воздух из застолья вышел, и вскоре свадьбу свернули.
Глубокой ночью, намесившись с женой под ватным одеялом, Прохор Семенович осторожно спросил, обтираясь простыней: «Наташка, а ты не троцкистка, случаем?» — «Идиот, — хрипло откликнулась Наталья, укладываясь лицом к стене, — ты лучше думай, где мы жить будем». Ну, он и надумал — в стойле. Правда, пришлось подождать, походить по кабинетам, и получил он жилье чуть ли не как награду к пятидесятилетнему юбилею.
Бычья кровь
Горку Наталья родила в двадцать девять, по тем временам поздно, и мальчик принялся умирать, едва родившись. Неизвестно, что тут сказалось — возраст матери, скудное питание, а скорее всего — трагедия, случившаяся в их семье, когда Наталья уже была на сносях: внезапно и необъяснимо умер ее первенец, полуторагодовалый Валерка, — сгорел за сутки, заходясь в крике и хрипах. Наталья слегла с сильнейшим нервным потрясением и родила Горку на девятый день после смерти его старшего брата.
Роды проходили тяжело, у нее почти не было сил (а может, желания) исторгнуть на свет божий еще одного ребенка, но пацан вылез в итоге и вполне себе ничего — под четыре двести весом и пятьдесят три сантиметра в длину. Вопреки опасениям врачей, у Горкиной матери не пропало молоко, и когда он первый раз вцепился губами в материнский сосок, она вздохнула глубоко, тайком перекрестилась и решила, что надо жить дальше.
Однако спустя два месяца молоко иссякло, ребенка перевели на искусственное вскармливание, начались запоры, стал стремительно развиваться рахит, Горка исхудал, а в годик с небольшим у него случилось двустороннее воспаление легких.
Наталья буквально обезумела. Лежа с Горкой в больнице и ловя хмурые взгляды врачей и медсестер, все чаще думала, что все это с ее ребенком неспроста, как неспроста умер и первый. «Сгубили, губят, — шептала она своей подружке Клаве тоже уже почти в горячечном бреду, — это его отродье мне мстит, сволочи!» Клава отводила глаза и сморкалась в платок.
«Отродьем» Наталья называла дочерей Горкиного отца от предыдущего брака. Собственно, с ними жила только одна, младшая Римма, две другие дочери Прохора Семеновича обособились сразу, как только отец обзавелся новой женой. Старшая, Нина, как раз окончив институт в Куйбышеве, получила распределение на радиозавод во Львов, за ней увязалась и средняя, старшеклассница Галя. Брак отца с Натальей старшие дочери не одобрили, но Римма, которой в год рождения Горки исполнилось семь лет, просто и без принуждения звала Наталью мамой, послушно делала, что велели, по дому и охотно тетешкалась с Валеркой. Ей и досталось.
Наталья Римму терпела, но и только: морщилась, чуя, как ей казалось, фальшь, когда слышала «мама», с молчаливым осуждением смотрела, как Римма чистит картошку — как карандаш точит (пыталась показать, как надо, чтобы тонкая шкурка змеилась под ножиком, да без толку, белоручка, что с нее возьмешь), и едва сдерживалась, чтобы не отнять, когда Римма принималась играть со сводным братиком. Однажды и вправду заигралась: поднесла Валерку к дверце печки-голландки, открыла кочережкой, чтобы тот на огонь полюбовался, а малыш качнулся, да и схватился за раскаленный металл. Сильно обожгло Валерке ладошку, до мяса, и заживала она как-то нехотя, но обошлось вроде. Этот случай не то чтобы забылся Наталье, а затушевался со временем, но вспомнился до мельчайших деталей, когда Валерка внезапно умер. И теперь напасти валились одна за другой на нее и ее второго сына, она уже другими глазами смотрела на то, что случилось тогда, особо отмечая, как тихо, молча стояла среди плача Римма. Отродье.
С пневмонией Горкин организм все-таки справился, но перед выпиской из больницы Наталью «осчастливили» новым диагнозом: малокровие у вашего мальчика, мамаша.
Когда это обнаружилось, седенький, дореволюционного образца, доктор Земляникин прописал Горке лечение с довольно экзотическим оттенком: наряду с типовым гематогеном, куриными бульонами и гоголем-моголем по утрам, велел давать по десертной ложке кагора перед сном. Отец, узнав об этом, только хмыкнул: «не спился́ бы», а мать, для которой доктор Земляникин был запредельным авторитетом («он городского голову лечил, что ты ржешь!»), восприняла все очень серьезно и побежала делать запасы — и гематогена, и кагора, который — что было для Натальи тоже важно — слыл церковным вином.
Какое-то время диета от доктора Земляникина делала, казалось, свое дело: Горка заметно поправился, порозовел, стали выправляться ножки (может, сказалось и то, что мать туго их пеленала с шести месяцев), но потом начались ночные кошмары с раскачивающимися стенами и потолком, Горка снова начал худеть, попутно перенося одну за другой все детские болезни по списку, от кори до скарлатины, и мать опять потихоньку начала сходить с ума.
Главным виновником всех бедствий стал муж, который не смог достать для сына путевку в санаторий, который думает только о себе (там было о чем подумать — Прохор Семенович вернулся с войны туберкулезником), который только свою Римку любит, а их — нет, который только жрет и пьет, который...
Отец уходил от скандалов как мог — засиживался допоздна в своей конторе, уезжал в выходной на рыбалку, стал заметно чаще выпивать, дошло до того, что он отослал жить к брату родную дочь (Римма и это снесла безропотно), но ничего не менялось — ни в отношениях с женой, ни с Горкиными хворями. На помощь пришел случай.
Среди отцовых приятелей был директор местного мясокомбината Карпухин, и, когда Прохор Семенович однажды поделился с ним проблемой, этот Карпухин, выслушав и подумав, сказал: «Кровь плохая, говоришь? Так надо хорошей добавить, бычьей — сам как бычок станет». И засмеялся. Прохору Семеновичу было не до смеха, но, выслушав аргументы приятеля, он решил, что хуже не будет, и согласился с карпухинским планом. Осталось сделать так, чтобы о нем не узнала жена (Вершков даже представить не решался, что бы тогда было), и Прохор Семенович придумал, что по субботам у них на комбинате бывает объезд лошадей, и он будет брать сына с собой, чтобы побольше бывал на свежем воздухе. Как ни странно, Наталья на это повелась (хотя, если подумать, какие там могли быть объезды тягловых кляч?), и так однажды Горка узнал вкус крови.
Карпухин Горке не понравился, едва они вошли в его кабинет, — такой насупленный боров, и посмотрел на него, как на щенка какого, — но сам кабинет — да: весь в темных («под дуб», — шепнул отец) панелях, с развернутым бордовым знаменем в углу... Пока Горка оглядывался, усаженный за приставной стол, «боров» снял трубку и буркнул: «с бойней соедини». И еще что-то буркнул потом. Через некоторое время в кабинет, толкнув дверь ногой, вошел такой же сумрачный дядька, только похудее, с тяжелой даже на вид стеклянной колбой в руках, поставил ее перед начальником на стол и, ни слова не сказав, вышел. Колба была до краев наполнена чем-то ярко-алым. «Ну вот, мужики, — сказал, доставая стаканы, хозяин, — давай, как заведено, махнем на троих».
— Это... кровь? — как-то догадался Горка, глядя на чуть вспенившуюся жидкость в своем стакане. — Пап, я не могу.
— Надо, сынок, — сказал отец, — давай, за твое здоровье, до дна! — И, не отводя от сына глаз, принялся пить, подавая пример.
Кровь была еще теплой, сладковатой и одновременно будто чуть подсоленой, у Горки стало сводить живот, но он пил и пил. Пока не выпил. «Ну вот, — удовлетворенно хрюкнул „боров“, отирая губы, — лиха беда начало, как грится. А теперь давайте, мужики, у меня дел тут еще... Жду через неделю».
Они ездили на мясокомбинат еще раза три, может, четыре — Горка не запомнил, — и удивительное дело — ночные кошмары прекратились! Горка нормально спал, просыпался бодрым, с удовольствием играл с соседскими пацанами... Мать не удержалась однажды — вскользь заметила мужу за ужином: «вот, Римки-то нет, и вот», но Прохор Семенович только отмахнулся с досадой: он-то точно знал, что дело в бычьей крови (хотя понимал, что кровь была коровьей, так-то быков не напасешься).
...Кошмар догнал Горку несколько месяцев спустя, но не такой, как обычно. Он проснулся среди ночи оттого, что начало что-то светить в глаза, все ярче и ярче, белым раскаляющимся светом. Свет шел из проема на кухне между стеной и печкой-голландкой, Горка смотрел туда, немея, и вдруг увидел, как в этом сиянии появляется что-то еще более сияющее — человек в белоснежном кителе и фуражке. Он стоял к Горке спиной, а потом начал медленно поворачиваться, взглянул на Горку — и усмехнулся в усы.
Горкин вопль услышали, наверное, и соседи. Мать с отцом кинулись к нему, но он продолжал пронзительно кричать, а потом забился в судорогах. Уснул Горка только под утро, а днем его снова начало колотить. Вызвали врача, приехал какой-то, кого мать не знала, послушал, пощупал, пожал плечами — да нет, вроде ничего, переволновался просто — и уехал, дав каких-то порошков. Горка уснул, а вечером снова начались корчи. Соседка Галя Лях, жившая за стенкой, пришла (значит, услышала все-таки ночной вопль), посмотрела и отозвала Наталью в сторонку. Переговорили, соседка ушла, а ночью Горка проснулся оттого, что ему в лицо брызнула вода, как при глажке белья фыркают. Открыв глаза, Горка увидел над собой старушечье лицо и глиняный стаканчик, в котором что-то булькало и шипело — уголья. Старуха опять набрала оттуда в рот и фыркнула в Горкино лицо, побормотала невнятно, набрала — фыркнула. Под это фырканье и бормотание Горка забылся, а утром проснулся без ломоты в теле и с нормальной температурой. Что называется, сняло как рукой.
За ужином мать, переглянувшись с отцом, осторожно спросила Горку, что́ ему приснилось. Горка напрягся, но, помявшись, рассказал как мог. После долгого молчания — мать с каменным лицом смотрела в тарелку — отец, кашлянув, сказал: «Забудь. Было и нет. Обещаешь?»
Забыть не получилось: через день все радиостанции Советского Союза сообщили, что умер Сталин, а еще через пару недель пошли слухи, что это случилось не 5 марта, как сообщили, а 3-го, как раз в ночь Горкиного кошмара.
Ликбез
Кошмар со Сталиным отразился на Горке самым неожиданным образом: он как-то внезапно начал читать. Ну, то есть картинки с какими-то буковками и сопутствующими рисунками мать ему и до этого подсовывала, заставляя повторять буквы; он послушно повторял, но не более, а тут как прорвало.
Все началось с того, что Горка откопал в отцовой тумбочке букварь для взрослых, потертую брошюру с черно-белыми рисунками — какой-то взлохмаченный бородатый дядька на одной ножке посреди клочка земли, трактора, луга и пажити — и короткими текстами, и сначала робко, а через пару дней уже вполне уверенно принялся их проговаривать. Мать, услышав, опешила, потом кинулась его тискать-целовать, потом притащила нормальный букварь, для детей, но тот, потертый черно-белый, Горке нравился больше. Он не понимал, конечно, что значит «землю — крестьянам», «фордзон-путиловец», и «рабы — не мы» тоже понимал не вполне (хотя по поводу второй половины фразы задал матери обескураживающий вопрос: «рабы немы» — это что, они не могут говорить?), ему нравился сам звук собственного голоса и то, что мелкие черные буковки теперь получили свое значение, смысл.
В общем, когда Горке исполнилось четыре года, родители поняли, что книжек у них в доме очень мало, почти что и нет — не считая дюжины бордовых тяжелых томов сочинений Сталина, которые отец на всякий случай отнес после смерти вождя в чулан (но выкидывать не стал — тоже на всякий случай). К счастью, книгочейкой оказалась одна из соседок — Клавдия Николаевна, сухопарая, в годах, женщина, эвакуированная из Ленинграда с началом блокады. Удивительным образом она умудрилась привезти с собой целую библиотеку — стены в ее крохотной, в одно стойло, комнатке были сплошь в книгах, — и Клавдия Николаевна охотно давала их почитать дворовой ребятне. Ребятня обращалась с книжками не всегда бережно, бывало, что и теряли, а то обливали чем-нибудь, и Клавдия Николаевна, поговорив с родителями (может, семьи четыре были в конюшне с детьми, охочими до чтения) и заручившись их обещаниями, завела журнал учета, в котором тщательно записывала, кому выдала книжку, какую и до какого срока.
Одной из первых, если не самой первой книжкой, которые Горке дала Клавдия Николаевна, был сборник стихов, брошюра в мягком переплете. Там было что-то про позднюю осень и несжатую полоску (Горка не понимал, о чем это), про «колокольчики мои, цветики степные» («о, — сказала мать обрадованно, когда сын принялся с выражением про них читать, — это я знаю!»), про доброго дядю Степу, — Горке нравилось, что слова аукаются друг с другом, он чувствовал ритм, но подолгу стихи читать не мог, этот самый ритм и утомлял. Из того, что было почитать у них дома, Горке нравилось читать взятые в рамочку слова в правом верхнем углу газет «Правда» и «Известия», они тоже были ритмически построены и легко поддавались декламированию. Что Горка и делал, не вникая и не понимая, что эти слова значат, — к удовольствию отца и неудовольствию матери.
А еще был журнал «Корея», который отец иногда приносил с работы. Горка забирался с этим журналом на печку и подолгу рассматривал красочные фотографии с какими-то огненными печами («это заводские цеха, сынок, чугун льют», — пояснил однажды отец), с пронзительно-голубыми озерами и ярко-зелеными деревьями вокруг. На лежанке было тепло и уютно, в углу чуть слышно попискивала, стравливая из-под пробки давление, двадцатилитровая бутыль созревавшей бражки, исходивший от нее слабый кисловатый запах мешался с густым запахом типографской краски, — Горка, насмотревшись и нанюхавшись, мирно засыпал.
Взрыв мозга, как теперь говорят, произошел примерно год спустя, когда Клавдия Николаевна, поколебавшись — мальчишке и шести еще нет, — дала ему почитать «Приключения Тома Сойера», с задорным пацаном в коротких штанах, шляпе и с котомкой за плечом на обложке. Горка проглотил роман в два дня и побежал к Клавдии Николаевне за ответами на то, что не понял. Полдня они листали книжку вместе, Горка слушал, впитывал, переспрашивал, а прибежав домой, взялся перечитывать «приключения» заново. Огромный, захватывающий, чужой и одновременно совершенно свой мир открылся перед ним. Том стал для него другом навсегда. Да, потом были и д’Артаньян, и капитан Грант, и капитан Сорви-голова, много восхищавших героев, но Том... и Бекки...
Клавдия Николаевна давала ему еще какие-то непонятные книжки, где были луддиты и чартисты, пилигримы и крестовые походы, Горка раз за разом возвращался за разъяснениями, и так Клавдия Николаевна исподволь стала для Горки и учителем литературы, и учителем истории. Ему невероятно повезло.
Их отношения прервались самым дурацким образом. На пятилетие отец подарил Горке собаку — щенка овчарки, а через год этот Рекс (тогда всех более-менее породистых собак называли рексами или джульбарсами) вымахал в юного кобеля и покусился на болонку Клавдии Николаевны. На самом деле у нее была не только болонка, а еще и мопс, и обычно Клавдия Николаевна гуляла с ними по вечерам, не спуская с поводка, но в тот весенний день не углядела, болонка вытрусила во двор и нарвалась на Рекса. И Рекс попытался ее изнасиловать. На визг собачонки сбежались соседи, Рекса пинками отогнали, болонку отнесли хозяйке, и они обе слегли от потрясения.
Отец, узнав о скандале, наутро пошел к тюремному начальству, а потом отвел Рекса в тюрьму: овчарки, тем более молодые, еще поддающиеся дрессуре, там были нужны. Дворовые мужики с неделю потешались как могли, покуривая на завалинках или забивая «козла»: надо же, у Вершковых пса посадили за изнасилование!
Клавдия Николаевна была умной и благовоспитанной дамой, но что-то в ней после инцидента надломилось в отношении к Горкиной семье — и к Горке тоже. А может, она просто устала быть для Горки наставником. В любом случае Горка почувствовал холодок (да он и вину чувствовал, честно говоря, хотя за что, казалось бы?) и перестал ходить к Клавдии Николаевне за книжками.
Отец, поняв, что произошло, отвел Горку в городскую библиотеку. Там, разумеется, категорически отказались (мальчику нет еще семи, вот пойдет в школу, милости просим), но Прохор Семенович пообещал отремонтировать трухлявую лестницу в читальный зал на втором этаже, и завбиблиотекой сдалась. Правда, только по поводу читального зала: на дом книжки Горке не выдавали, пока он не стал первоклассником. Это привело к новым неприятностям для матери: Горка принялся каждодневно просиживать в читалке до закрытия, и ей приходилось чуть не за шиворот вытаскивать мальчика, чтобы пообедал и — как она считала — отдохнул.
...Да, а та черно-белая брошюра — это, как пояснил отец, стесняясь, букварь для взрослых, их выпускали в двадцатые в рамках программы ликвидации безграмотности, ликбеза то есть.
Каватина Розины
Смерть вождя Горкина семья пережила... да никак. Горка, выходя во двор, видел заплаканные лица теток, кутавшихся в платки, мрачные лица мужчин, отец тоже ходил мрачный, но разговоров насчет «как же, да что же теперь» в семье не было. Много позже, вспоминая те дни, Горка с удивлением отметил, что мать вообще не произносила фамилии Сталин ни до, ни после — ни разу; Ленин — да, она часто говорила сыну, а перед школой — особенно, что Горка должен быть как Ленин — умным, прилежным (не знала, наверное, каким прилежным Володя Ульянов был в Горкины годы), лучше всех, словом, а Сталин... Как будто его не существовало.
Мать вообще была — и осталась — загадкой для Горки. Она часто вместо баек на сон грядущий рассказывала ему всякие истории из той поры, когда она сама была маленькой, как Горка. Горка не мог понять, как это мама могла быть такой, и он думал, что на самом деле мама рассказывает о какой-то девочке, которую знала и жалела.
У этой девочки, когда ей было столько же, сколько Горке, годика три-четыре, один за другим умерли от голода родители (Горка не понимал и косился на тарелку с пряниками, мать поясняла — нечего было есть совсем), и девочка стала сиротой и пошла из дому куда глаза глядят.
Эта девочка жила в деревне, прилепившейся к холму в десятке верст от Бугульмы, и когда в их краях, в Поволжье, начался мор, в деревнях с едой стало хуже, чем в городе («еще же война была до этого, — поясняла, вздыхая, мать, — мужчин мало осталось»), люди, чтобы не пропасть, стали есть лебеду, варить березовую кору, а потом все равно умирали. Но девочка, о которой рассказывала мать, не умерла, она дошла до Бугульмы, и там ее подобрала одна богатая семья, и так она в этой семье и выросла.
Горка внимательно слушал, переспрашивая про лебеду и как можно варить кору (чуть позже сам узнает, когда с пацанами будет делать из березовой коры белую жвачку, куда лучше черной из гудрона), он слушал и представлял себе крохотную девочку, бредущую по пыльной жаркой дороге (ему хотелось думать, что именно по жаркой, не зимой) с каким-то узелком в руках, чуть живую от голода; на глаза его наворачивались слезы, он начинал судорожно вздыхать, и мать останавливалась. Но ей было почему-то очень важно рассказать Горке, как она росла, и через день-два сумеречные посиделки возобновлялись.
Так Горка узнал, почему в городе было сытнее, чем в деревне («там заводы были, рабочие, — строго говорила мать, — им правительство давало пайки»), и как могли быть богатые, когда кругом все голодные («правительство, — опять строго поясняла мать, — меня прокурор приютил, у них все было»). А как-то раз мама вдруг упомянула о «чертовых американцах» — и осеклась, отказываясь пояснить, что за американцы и почему чертовы. Много позже, уже студентом, Горка узнал о миссии Нансена, об АРА — словом, о том, что в США собрали миллионы долларов на продукты и одежду для пораженного голодом Поволжья Советской России, и это поразило его, заставив вспыхнуть детскую память и окрасив рассказы матери.
Масса людей в чужой и враждебной стране каким-то образом узнали, что за тридевять земель, в непонятной большевистской России люди мрут от голода, собрали пожертвования, организовали доставку продуктов и спасли жизни сотням тысяч русских, татар, чувашей — всех, кто там жил. Что им за дело было, «чертовым американцам», до чьих-то бед на другом краю Земли? Может, мать потому их так и назвала, что не понимала, и это злило ее? Она гордая была.
...Рассказы о голодном и нищем детстве прекратились разом, когда однажды мать, поглаживая Горку по голове, спросила утвердительно: «вот ты вырастешь большой, будешь кормильцем для мамы». а он ответил подслушанным у кого-то: «уж корочку хлеба найдем как-нибудь». Мать окаменела на мгновение, потом стряхнула Горку с колен и ушла на кухню.
Этот эпизод вряд ли бы отложился в Горкиной памяти, но мать раз за разом возвращалась к нему — и когда Горке исполнилось пятнадцать и он пошел работать, и когда вернулся из армии, и когда окончил университет; совершенно детская глубокая обида на оброненные ребенком слова жила в ней все это время, не затихая. И страх, наверное, что на старости лет она снова останется без куска хлеба.
Горку же больше всего из материных рассказов интриговало упоминание о прокурорской семье, которая приютила ее и спасла, возможно, от голодной смерти. Позже, уже школьником, он с любопытством наблюдал, как мама накрывает на стол — раскладывает приборы, выстраивает у тарелок тяжелые стальные ножи, вилки, разнокалиберные ложки, щипчики для колки сахара, расставляет расписанный в китайских мотивах фарфоровый чайный сервиз... Откуда все это взялось в их доме, откуда мама, которой ее опекуны дали окончить только начальную школу, чуть ли не церковно-приходскую, знает что-то об этикете, откуда у нее такая чистая, правильная речь и манеры, совсем не вязавшиеся с образом деревенской девочки, выросшей в прислугах?
Она эти манеры прятала, кстати, чаще бывая на людях грубоватой и простоватой, но иногда проскальзывало. В усмешке, когда отцовы гости — и он сам — принимались пить чай из блюдечек, в тоскливой реплике, когда отец, заказав в ресторане коньяку, заел его сметаной («идиот» — любимая характеристика для мужа), да даже вот в той реплике Пегенякину о том, как дамам до́лжно целовать ручки, и в самой интонации сказанного. И стирка. Мать стирала белье под каватину Розины.
Вообще, музыки в их конюшне было много: охотно пели гости, собираясь «под рюмочку», целыми днями пел репродуктор, черная тарелка в углу под притолокой, и Горке все это страшно нравилось, а особенно — угадывать, как разовьется мелодия, и петь вместе с хорами, переливчато выводящими «ох, недаром, ох, недаром, ох, недаром славится-я-я-а русская красавица-а-а-а-а», или с Бунчиковым и Нечаевым — про поющую волну и гитару и про майскую Москву. И каватина Розины тоже нравилась, и Лемешев, нежно стонущий: «Я люблю вас, Ольга...»
Отец, не очень, кажется, разбиравшийся в музыке, Горку поощрял к пению в принципе, приговаривая: «подбирай, сынок, подбирай», что бы ни звучало, а у матери были какие-то предпочтения. Она, например, терпеть не могла того же Лемешева, презрительно называя его засахаренным (ей безоговорочно нравился Козловский), и не могла слушать скрипичные ансамбли — у нее начинались головные боли. Но Розина и стирка... Это было что-то невообразимое.
Мать шла на колонку, притаскивала четыре ведра воды, заливала чан для кипячения, оставляя ведро холодной, а после кипячения пристраивала на табуретках корыто, укрепляла стиральную доску и, засучив рукава, заводила патефон. Всегда одно и то же: Россини, «Севильский цирюльник», каватина Розины. Белье плюхалось в корыто с мыльной водой, и с первыми тактами оркестра — жамк по доске, жамк-жамк! Вступала солистка — глубокое колоратурное сопрано, — взлетали мыльные пузыри, рулады, комнату застилал пар, а мать терла, отжимала, откидывала в таз, вместе с певицей брала паузу — и снова жамк, жамк, жамк, в заданном ритме любви и надежды, но совсем не в полуночной тишине.
Интересно, знала ли мать либретто, понимала ли, о чем поет Розина? Горка так и не спросил ее — за всю жизнь.
Мунча
Между тем Горку потихоньку начали «выводить в свет». Не одного, конечно, а в сопровождении Риммы, которая приходила к ним два-три раза в неделю после уроков и иногда оставалась ночевать, или с Витькой Дурдиным, хозяйственным мужичком с ноготок двумя годами старше Горки, сыном жившего по соседству главного тюремного надзирателя, а иногда и одного, под присмотром матери из окна.
Так Горка узнал, что их конюшня стоит в десятке метров от глубокого оврага, а совсем на краю, чуть не свисая, стоит дощатая будка, которая называется «сортир», и ходить по-маленькому и по-большому надо теперь туда, а не в горшок или помойное ведро.
Отправившись в сортир в первый раз жарким июньским днем, Горка едва не лишился чувств — от жуткой вони и от какого-то сплошного назойливого зудения, шедшего сразу и снизу, из «очка», над которым он сидел, и сзади, и сверху, — щелястая будка была словно окутана этим зудением. Справив нужду, Горка опасливо обошел строение и понял, что это было: над выгребной ямой, едва прикрытой дощатым настилом, висел густой рой жирных черно-зеленых мух, а в ней копошились такие же жирные белесые черви.
Пораженный, Горка смотрел на все это, едва сдерживая приступы тошноты, потом убежал, а прибежав к матери, со слезами заявил, что никогда больше не пойдет в этот сортир, лучше вообще не будет ни пи́сать, ни какать. Мать, пряча улыбку, потрепала его по голове и сказала, вздохнув: «Ну, как уж не будешь, сынок, как не будешь...»
А вскоре после этого родители первый раз взяли с собой Горку в баню, и она тоже произвела на него оглушающее впечатление, только с обратным знаком: такой сверкающей чистоты он никогда не видел. До того его купали дома, в корыте, а раз отец попробовал даже в печном поде, но вышло плохо: матери было неудобно тянуться к нему в чрево, Горка испугался, весь вымазался в саже, в общем, эксперимент был признан неудачным. Так его и купали в корыте, а родители по субботам уходили в баню одни. Но Горка был не в претензии, потому что тогда присмотреть за ним приходила тетка Поля, с которой было весело и интересно. Эта Поля, жившая через дорогу в «частном секторе», каждодневно снабжала Горкину семью молоком и стала в доме своей, а главное — она была сказительницей!
Приходя, она неизменно стаскивала с печи шкуру какого-то зверя (отец говорил, что медвежья, мать только хмыкала на это), укладывала на нее свое большое рыхлое тело, усаживала рядом Горку и густым голосом рассказывала разные сказки, перемежая их песнями. Песни были диковиннее сказок, Горка с трудом улавливал смысл, а одна — тетки Поли любимая — так и осталась для него загадкой.
«Катенька распузатенька в трубу лазала, сиськи мазала», — выводила тетка Поля, а Горка терялся в догадках: распузатенька он еще мог понять, но зачем в трубу и мазала?! Он спрашивал, но тетка то ли сама не знала, то ли не хотела объяснять, а однажды, когда Горка совсем уж пристал, заявила, осерчав: «Чё те все понять-то надо?! Можа это как молитва, — непонятно, а за душу берет, и слушаешь, вот и ты слушай!»
Ну, он и слушал. И наслушался, лет в шестнадцать обнаружив, что к девушкам Катям его тянет больше, чем к другим. В итоге одна из Кать стала его женой. Ненадолго — быт оказался сильнее заклинательных свойств песни из детства.
Да. Но это все было до и после, а пока что Горка с удивлением рассматривал буквы на фасаде белого трехэтажного здания, спрятавшегося в низине на берегу текшей через весь город речки. «Мунча» — гласила надпись. «Баня» на татарском.
Вообще-то, Горка видел бани — во дворе дома дяди Васи, например, и во дворах его соседей, но это были какие-то бревенчатые клетушки, а тут целый дворец, можно сказать, он увидел, когда вошли, — с вестибюлем, парикмахерской и отдельными лестницами на второй и третий этажи — в общее отделение и в номера. Их дорога была в номера, на третий.
И сам номер заставил разинуть рот: он был такой же, как их сдвоенное стойло, их квартира, даже побольше, и здесь была раздевалка, и большая, у кафельной стены, ванна, а рядом что-то вроде низкого длинного стола (то ли из мрамора, то ли из гранита — Горка не различал), и вырастающий из стены рожок душа, а в торце, за тяжелой деревянной дверью, еще одна комната — парилка. Горка ходил нагишом по этому номеру, как по музею, и с трудом понял, что надо залезть в ванну и мыться.
И вот он барахтался в ванне и плескался, смотрел, как отец и мать намыливаются, сидя на полке подле, а потом обливают друг друга из шаек и снова набирают воду, и как подолгу потом отец стоит под хлещущими струями, оглаживая свое большое раскрасневшееся тело огромными руками, и поражался — это сколько же тратилось воды, ужас! Дома они обходились двумя ведрами в день — и на готовку, и на помывку, и на мытье полов, — редко когда больше расходовали, экономили, потому что никому не хотелось таскаться с коромыслом на колонку, стоявшую через дорогу метрах в сорока от конюшни.
И еще одна мысль вдруг пришла в смышленую Горкину голову: а деньги? Не бесплатной же была вся эта роскошь? Он спросил, когда его вытирали насухо после помывки, родители переглянулись, и мать со вздохом сказала:
— Умница, Егор, все денег стоит. Вот мы за квартиру в месяц двадцать рублей платим, а папенька твой каждую неделю по два с полтиной за час в номере отваливает, сейчас еще трешку у брадобрея оставит. Так и выйдет вторая квартплата.
Отец внимательно посмотрел на жену, спросил сдержанно:
— Тебе чего, не хватает, что ли? лучше у Васьки по-черному мыться?
Мать не нашлась что ответить, и они, собравшись, спустились в вестибюль, где отца уже поджидал брадобрей.
Вообще-то, отец брился дома. У него был роскошный «Solingen» в красном бархатном пенале с тисненным золотом названием, и был мягкий кожаный ремень, о который отец, натянув его на спинку стула, правил бритву, и щекотная кисточка для взбивания пены, все было. Но бритье в парикмахерской являлось особым ритуалом, и раз в неделю отец совершал его, блаженно вздыхая и щурясь в зеркало, пока брадобрей делал компресс, прикладывая к отцовым щекам горячее влажное полотенце, потом мылил, шурша пеной, а потом осторожно, нежно, но сноровисто снимал бритвой щетину, отирая лезвие о рукав своей белоснежной куртки.
За этим следовало омовение, промокание лица сухим полотенцем и, наконец, кода: брадобрей брал в руки флакон с одеколоном, потискивая грушу пульверизатора, и спрашивал (хотя знал ответ наперед): «„Шипром“, Прохор Семеныч?» Прохор Семенович одобрительно кивал, и в следующее мгновение его лицо обдавал фонтан мельчайших, искрящихся в свете призеркальной лампы брызг. Горка смотрел на это с восторгом, вдыхая пряный запах одеколона и каждый раз отмечая, что отец на глазах становится свежее и моложе.
После бани они чаевничали дома — и после первого раза, когда взяли Горку с собой, и потом, — всегда, это тоже был ритуал. Обычно мать подавала к чаю варенье и сушки, иногда — печенье, и они сидели втроем расслабленные и разговаривали, по субботам или по воскресеньям, как выпадала баня.
Единственное, что немножко омрачало посиделки в летние дни, — это мухи. Ужас, сколько их всегда было, больше, чем комаров. Из-за этого летним чаепитиям обязательно предшествовало развешивание мухоловок. Это такие промышленным образом выпускавшиеся картонные патроны вроде хлопушек, из которых, если потянуть за бечевку в торце, вылезала липкая лента с каким-то специальным запахом, который привлекал мух. Они на него летели, прилипали к ленте, образуя иногда нечто вроде виноградных гроздьев, и с мучительным жужжанием умирали. Тоже по-своему завораживающее зрелище. Хотя от чая отвлекало, конечно. А еще промышленность выпускала резиновые мухобойки, но их не очень покупали, — прекрасные мухобойки получались из свернутой в рулон газеты, а какая же советская семья не выписывала «Правду», «Известия» или «Комсомольскую правду», — многие и все три газеты разом выписывали, стоило-то это копейки. Правда, с мухобойками из газет была некоторая неловкость, во всяком случае в Горкиной семье: при Сталине и во времена после него отец следил, чтобы на рабочую поверхность мухобойки не попал ненароком портрет кого-либо из руководителей партии и правительства. Это и само по себе было некрасиво, а кроме того, прибитые мухи превращались не просто в мокрое место, а в окрашенное кровью, и это уж отец стерпеть не мог никак. Правда, когда Хрущев разоблачил Сталина, отец плюнул на все, и мух били, уже невзирая на лица.
Мать это все тяготило, Горка чувствовал и видел — вот все это: мухоловки и мухобойки, необходимость по два раза на дню все перемывать-перестирывать (туберкулез у отца переходил в открытую форму, он ходил с алюминиевыми, на винтовых крышках, плевательницами, мгновенно заслужив у жены еще одно прозвище — верблюд), она остервенело втыкала вилки в вафельное полотенце, чистя от микробов, с содой, до скрипа, мыла тарелки и чашки и периодически выговаривала мужу, а чаще уговаривала — ну, что у нас все не как у людей, ну ты же заслуженный человек, сходи, попроси, сил нет уже жить в этой конюшне. Отец отмалчивался, как правило, или задавал встречный вопрос, как в бане: «тебе что, не хватает, что ли?» Но однажды, когда мать в очередной раз завела свое «все не как у людей», вдруг резко спросил (Горка аж вздрогнул): «А что вокруг — не люди, ты одна людь, что ли?!» И добавил, пьяно засопев: «Я, может, вообще умру завтра, а ты — то надо, се надо...»
Мать так и села. Позже, вспомнив этот эпизод, Горка подумал, что вот тогда, наверное, она мужа и возненавидела.
Тарантас
Искрило между родителями часто, и это угнетало Горку, он нервничал, начинал беспричинно плакать и мог по полдня прятаться от матери на печке, не выходя к столу и не отвечая на ее вопросы. Обиднее всего было, что они умудрялись испортить даже то, что начиналось хорошо и весело. Вот пикник, например, который отец придумал как-то в один из июльских выходных.
В ту субботу все сложилось на удивление: отец пришел с работы рано, около пяти, был в ровном настроении, у матери ничего не болело. Они переговорили коротко за чаем, отец взялся за телефон и заказал на воскресенье персональный тарантас.
После войны прошло уже десять лет, на улицах советских городов становилось все больше «побед», ЗиМов, не исчезли и «виллисы», теснимые, впрочем, своими сводными братьями — «козликами», но в глухой Бугульме и окрестностях по-прежнему были в ходу телеги (а зимой — сани, разумеется), некоторые — с обрезиненными колесами, трофейными, как говорили. Но тарантас директора Горпромкомбината Прохора Семеновича Вершкова являл собой нечто особенное, затмевая диковинностью даже черный ЗиМ с окнами, забранными занавесками с кистями, на котором ездил местный поп.
Строго говоря, это был какой-то конструктор, а не тарантас: укороченные оглобли, четырехместная кабина с откидывающимся дерматиновым верхом, большие, каретные, задние колеса (подрессоренные, — предмет особой гордости отца), но мать упорно называла повозку тарантасом, а отец не возражал, хотя чувствовал, что жена говорит с легкой издевкой. Так, пожмет плечами — и все.
Ну и вот, отец, пожав плечами, принял воскресными утром вожжи у конюха Сереги, пригнавшего тарантас к воротам их конюшни, подождал, пока Горка взгромоздится на козлы рядом (мать, разряженная в крепдешин, уселась, как барыня, сзади), и они отправились в путь.
Дорога на Малую Бугульму шла под гору, ехать было километров семь-восемь, и Горка имел все возможности покрасоваться перед пацанами и девчонками, кучковавшимися там и сям по своим делам и смотревшими на проезжавший тарантас кто с потаенной завистью, а кто, пожалуй, и с брезгливой ненавистью. Горке шел седьмой год, и он уже умел различать такие оттенки, а особенно — настроение девчонок. И оно-то, девчачье, его как раз радовало, заставляя сидеть этаким петушком.
Скоро город кончился, по обе стороны дороги потянулись зеленые поля, вдали уже показались крыши поселка и ленточка петлявшей в долине речки, называвшейся совсем непонятно — Зай. Вообще, и почему прилегающий к городу поселок назвали не как-нибудь по-своему, а Малой Бугульмой, тоже было не очень понятно: вокруг было немало деревень и сёл — Чертково, например, или Письмянка (а рядом — еще и Солдатская Письмянка). Горка различал в этих названиях смысл, а тут... Позже, уже в средней школе, когда Горка узнал и про Большой Нью-Йорк, и про Большой Токио, про другие мегаполисы, название «Малая Бугульма» приобрело в его глазах довольно комичный характер, но в то же время и горделивый: не каждый райцентр с населением всего-то семьдесят тысяч человек мог похвастаться чем-то вроде города-спутника.
Свернув с асфальта на проселок, они ехали некоторое время вдоль молодой березовой рощицы, наконец отец высмотрел поляну недалеко от речки, и семья принялась разбивать бивак.
Разбивка состояла в том, что отец выпряг и стреножил коня, а мать тем временем расстелила покрывало и разложила на нем снедь — горку ярко-красных помидоров и беломраморных яиц, пару пучков зеленого лука и редиски, ломти постной вареной свинины в глиняном блюде, а потом, помедлив, извлекла из корзинки завернутые в льняные салфетки ножи и вилки.
Отец, увидев их, разразился таким хохотом, что конь (у него почему-то не было клички — конь и конь) заржал в ответ.
— Наташка, — проговорил, сглатывая смех, отец, — ну ты еще фужеры хрустальные достань!
— С водкой и стаканом обойдешься, — фыркнула мать, но тут же и сама рассмеялась: глупо, конечно, но вот так — само вышло.
Конь на смех матери отреагировал осторожнее: скосил на нее глаз, вздохнул и принялся щипать траву.
Они уселись вокруг яств, точнее — полуулеглись (каждый — на левом боку, опираясь на локоть; чистые патриции!) и начали пировать. Горке, впрочем, поза показалась неудобной, он уселся по-турецки и взялся лущить яйца. Он очень любил есть их со сметаной и зеленым луком, причем не так, как подавала мать — порезанными на тарелке, залитыми сметаной и присыпанные лучком, а по-своему, отправляя в рот большую ложку сметаны, а следом — пол-яйца, лучинку лука и кус хлеба; так было гораздо, гораздо вкуснее — когда все у тебя сочно перемешивается прямо во рту!
Мать такое варварство, как она однажды выразилась, сама удивившись вырвавшемуся слову, не одобряла, конечно, а с другой стороны — ест сынок, и слава богу, что не гематоген. Отец, правильно прочитав женин взгляд на Горку, выудил из корзинки бутылку «белоголовой», легко сорвал «бескозырку» и провозгласил: «Надо, значит, выпить за общее здоровье!»
Мать только махнула рукой: она не пила вообще, но мужу не запретишь.
Потрапезничав, они все вместе пошли к речке мыть посуду, а потом мать с отцом ушли в рощу, а Горка остался на берегу — швырять в воду голыши и считать, сколько у него получится «блинов».
Он часто думал о том, как живут его отец и мать, и выходило, что не очень: отец приходил домой поздно, нередко — с запашком, мать злилась и выговаривала ему, что он как квартирант в доме, ничего ему не надо, что все у них не как у людей; отец мрачнел, начинал смотреть на мать тяжелым, угрюмым взглядом, потом молча укладывался в кровать, отвернувшись к стене, и некоторое время чертил по ворсу ковра какие-то знаки. «Счетовод», — шипела мать, а Горке казалось, что это лежит какой-то обиженный ребенок. Большой: отец был под два метра ростом.
Горка посидел еще некоторое время у речки, слушая плеск воды и чпоканье вышедшей на вечерний жор рыбы, пошуршал галькой и пошел назад, на поляну.
Зрелище, открывшееся ему, повергло Горку в ступор. Родители сидели, полуобнявшись, на покрывале, мать положила голову отцу на грудь и что-то тихонько втолковывала ему, трогая пальцами воротник отцовой рубахи, а он слушал, улыбаясь всем своим мясистым лицом. И в этом — в блескучей речке, в залитой вечерним солнцем изумрудно-зеленой поляне, на краю которой все так же взмахивал хвостом и жевал конь, в облике отца и мамы — было что-то такое, что у Горки заколотилось сердце и выступили слезы.
Мать как почуяла — отстранилась от мужа, легко встала навстречу Горке, обняла его, прижимая к своему волнующемуся теплому животу, и — так же как пару минут назад мужа — принялась втолковывать, приговаривать: «все хорошо, сынок, все хорошо». И тут же, обернувшись на мужа и словно извиняясь: «много впечатлений зараз, перенервничал».
Отец, тоже поднявшийся, топтался на месте, не зная, что сказать или сделать. И тут его осенило.
— Горка, — сказал он, — помнишь, я тебе рассказывал, как меня батя учил на лошади ездить? Давай-ка я тебе покажу!
Мать отпустила Горку, слезы его высохли, и оба с интересом смотрели, что собирается показать отец. Он же растреножил коня, дал ему слизнуть с ладони кусок сахара и подвел к Горке.
— Значит, делаем так, — сказал отец, и не успели мать с Горкой опомниться, как он подхватил сына на руки и плюхнул его на спину коня.
— Ты что делаешь, идиот?! — закричала мать, но увидела сияющего Горку и замолчала.
Горка красовался. Сидеть ему было неудобно — ножонки маленькие, а бока у коня огромные, но что это значит, когда он сейчас поедет верхом! Конь шагнул, потом еще, Горку качнуло, он инстинктивно схватился за гриву, конь вдруг перешел на рысь, и в следующее мгновение Горка кубарем полетел под копыта.
Конь был деловой — он спокойно переступил через Горку и встал, а с матерью случилась истерика. Столько разных нехороших слов Горка никогда от нее не слышал, он даже плакать забыл.
Домой ехали молча и ужасно долго. Всё в гору, в гору, в гору...
В кителе Сталина
На новый, 1956 год мать сделала Горке неожиданный подарок. Еще 31 декабря все было как обычно: разукрашенная разноцветными стеклянными шарами и конфетти сосна, которую отец добыл, просто сходив на лыжах в лес, дурманившие запахом мандарины, творожник, шампанское для родителей и морс для Горки, а 1-го, когда он проснулся в предвкушении обещанных новых санок, мать вместо них выложила перед ним стопку тетрадок и книжек и заявила: «Все, сынок, — будем готовиться к школе». И Горка очень скоро узнал, каково это, и не узнал собственную мать.
Оказалось, она могла быть очень строгой и даже занудной. Она вела себя с Горкой как чужая, заставляя по сто раз на дню правильно садиться за стол, то есть воображаемую парту (держи спину, не сутулься!), правильно держать на парте руки (сложи ладонь к ладони, не свешивай локти!), правильно поднимать руку, чтобы задать вопрос учительнице или показать готовность ответить (не отрывай локоть, держи руку под прямым углом!), правильно стоять, отвечая (расправь плечи, не опускай голову!), — это была самая настоящая муштра. Кроме того, мать попыталась заставить Горку писать прописи, меняя разные перья, у каждого типа которых был свой номер, указывающий на толщину выводимых линий, и это уже было совсем невыносимо: у Горки все получалось вкривь и вкось, он то и дело ляпал кляксы, и тут мать в конце концов отступилась, буркнув с досадой: «этому пусть там учат».
Потихоньку у нее поумерился пыл и в остальном — отчасти потому, что Горка научился делать так, как она велела, а отчасти потому, что мать просто устала изображать училку. Зато возник вопрос о форме.
Вообще-то, его не должно было возникнуть, — иди в магазин «Промтовары» и покупай, все для всех одинаково: синяя гимнастерка, такие же брюки со стрелками, фуражка с кокардой «Ш» и ремень с бляхой. Но когда мать сходила и присмотрелась, у нее возникли серьезные претензии, которые она, не вполне еще вышедшая из образа учительницы, педантично изложила мужу. Во-первых, ее не устроило качество («у нас на фронте х/б тоньше было, а это дерюга какая-то»), во-вторых, цена («сто шестьдесят рублей за комплект, они что там, вообще?»), а в-третьих... она помедлила, но припечатала: «я не хочу, чтобы мой сын был как инкубаторский цыпленок!»
Прохор Семенович воззрился на жену в изумлении, но взял себя в руки и, помолчав, сказал: «Пошьем у меня, — и дешевле выйдет, и качественнее. Только он все равно будет как все».
Но вышло, что не как все: отец вдруг решил, что у Горки будет не гимнастерка, а китель.
Он объявил об этом, однажды заявившись домой сильно пьяным в компании Левы Гируцкого, тоже кривого на оба глаза. Бухнув на стол бутылку «белоголовой», отец сказал:
— Наталья, собери чего повкусней, икры, что ли, дай, еще чего, — у нас опять февральская революция, праздновать будем!
— Какая революция, Прохор? — начала было мать, но всмотрелась в мужа, в блуждающую улыбку на лице Левы и замолчала, принявшись накрывать, а потом позвала Горку на кухню: «Давай, сынок, здесь тихонько поужинаем, пусть мужики поговорят».
Они сидели на кухне, что-то клевали, пили чай и вслушивались в то, о чем говорили в комнате мужчины. Говорил больше отец, глухо и невнятно — о какой-то проработке, циркуляре, устоях, однажды выматерился, упомянув «черножопого» (мать осуждающе помотала головой), которому вдруг разонравился «Краткий курс» (Горка вопросительно посмотрел на мать, та пожала плечами); Гируцкий поддакивал, охал, а в какой-то момент спросил: «и что же теперь будет, Прохор Семенович?» — «А ничего уже не будет, — ответил отец, отхаркавшись, — пиздец всему будет, Лева!»
Тут мать не выдержала, вышла в комнату и заявила:
— Хватит материться, закрывайте партийное собрание, товарищи!
— Так оно еще днем закрылось, — невесело засмеялся отец, — а мы сейчас покрой Горкиного кителя обсуждали — с отложным воротником или стойкой делать; у Сталина и такой был, и такой. Как думаешь, Наталья?
Наталья, конечно, подумала, что это уже начался пьяный бред, и решительно прекратила застолье, но спустя пару дней выяснилось, что мысль о кителе засела в голове Прохора Семеновича основательно: он повез сына и жену в швейный цех Горпромкомбината выбирать ткань.
Отцовский кабинет оказался узкой, как пенал, комнатой, одна из стен которой представляла собой стеллажи, сверху донизу занятые рулонами разных тканей. Отец прошелся вдоль этой стены, показал матери: «смотри — вот это тонкое сукно, тут темно-серое, а вот синее, в самый раз под форму». Мать отвернула край одного рулона, другого, погладила, помяла в ладони... «л
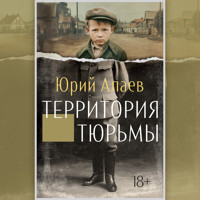













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














