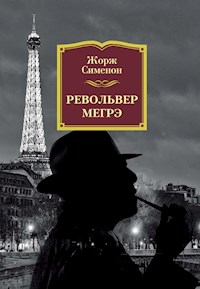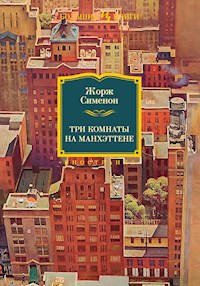
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Иностранная литература. Большие книги
- Sprache: Russisch
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного сюжета, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века — комиссара Мегрэ. В настоящий сборник вошли восемь известных романов Сименона разных жанров: детективные истории, остросюжетные триллеры, психологические драмы, а также изящная история любви и одиночества «Три комнаты на Манхэттене», ставшая одним из эталонов жанра благодаря экранизации Марселя Карне (1965 г., главные роли исполнили Анни Жирардо и Морис Рене).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1292
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges SimenonLES INCONNUS DANS LA MAISONCopyright © 1940, Georges Simenon LimitedIL PLEUT BERGÈRE…Copyright © 1941, Georges Simenon LimitedTROIS CHAMBRES À MANHATTANCopyright © 1946, Georges Simenon LimitedLE FOND DE LA BOUTEILLECopyright © 1948, Georges Simenon LimitedUN NOUVEAU DANS LA VILLECopyright © 1950, Georges Simenon LimitedLES FRÈRES RICOCopyright © 1952, Georges Simenon LimitedLE TRAIN DE VENISECopyright © 1965, Georges Simenon LimitedLE CHATCopyright © 1967, Georges Simenon LimitedGEORGES SIMENON ® All rights reserved
Перевод с французского Нины Брандис, Надежды Жарковой, Валентины Курелла, Юрия Уварова, Элеоноры Шрайбер
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Сименон Ж.Три комнаты на Манхэттене : романы / Жорж Сименон ; пер. с фр. Н. Брандис, Н. Жарковой и др. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — (Иностранная литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-21541-2
16+
Книги Жоржа Сименона известны всему миру. По количеству переводов он разделяет первые места с Гюго и Жюлем Верном. Мастер детективного сюжета, невероятно плодовитый писатель (более 400 опубликованных произведений!), создатель одного из самых обаятельных сыщиков ХХ века — комиссара Мегрэ.
В настоящий сборник вошли восемь известных романов Сименона разных жанров: детективные истории, остросюжетные триллеры, психологические драмы, а также изящная история любви и одиночества «Три комнаты на Манхэттене», ставшая одним из эталонов жанра благодаря экранизации Марселя Карне (1965 г., главные роли исполнили Анни Жирардо и Морис Роне).
© Н. М. Брандис (наследник), перевод, 2022© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 2022© В. Н. Курелла (наследник), перевод, 2022© Ю. П. Уваров (наследники), перевод, 2022© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022Издательство Иностранка®
Неизвестные в доме
Часть первая
I
— Алло! Это Рожиссар?
Прокурор стоял в нижней рубашке возле постели, а с постели на него взирали удивленные глаза супруги. Прокурору было холодно, особенно мерзли ноги. Звонок поднял его так внезапно, что он не успел нашарить ночные туфли.
— Да, а кто его просит?
Он нахмурился и повторил специально для жены:
— Лурса? Это вы, Гектор?
Заинтригованная разговором супруга прокурора, высвободив из-под одеяла длинную, неестественно белую руку, взяла отводную трубку.
— Что? Что?
Голос адвоката Лурса, доводившегося двоюродным братом супруге прокурора, невозмутимо продолжал:
— Я только что обнаружил у себя в доме незнакомого субъекта... На кровати на третьем этаже... Он как раз скончался, когда я вошел... Хорошо бы вам заняться этим делом, Жерар... Все это ужасно неприятно... По-моему, тут явное преступление...
Когда прокурор повесил трубку, Лоранс Рожиссар, которая терпеть не могла своего кузена, небрежно проронила:
— Не протрезвился еще!
В этот вечер все, казалось, было как обычно, пожалуй, еще и потому, что под струями проливного дождя все застыло, оцепенело. Холодный дождь — предвестник зимы — прошел в этом сезоне впервые, и кино на улице Алье пустовало, если не считать двух-трех влюбленных парочек. Кассирша, без толку мерзнувшая в своей стеклянной клетке, с отвращением поглядывала на дождевые капли, поблескивавшие в свете электрических фонарей.
Мулэн был именно таким, каким полагается быть Мулэну в октябре месяце. В «Отель де Пари», в «Дофине», в «Алье» за табльдотом обедали коммивояжеры, и им прислуживали официантки в черных платьях, черных чулочках и белых фартучках; изредка по улице проезжала машина, направляясь не то в Невер, не то в Клермон, а может быть, и в Париж.
Жалюзи магазинов были опущены, на вывески щедро лилась с неба вода — лилась на огромную красную шляпу над магазином Блюше, на гигантский хронометр над магазином Теллье, рядом с которым красовалась золотая лошадиная голова — знак того, что здесь торгуют кониной.
За домами просвистел монлюсонский местный поезд, увозивший всего с десяток пассажиров.
В префектуре давали ежемесячный обед на двадцать персон, громко именуемый «банкетом», на который неизменно собирались всегда одни и те же приглашенные.
Редко-редко попадалось не закрытое ставнями окно, а за ним — освещенные электрическим светом фигуры. И в этом лабиринте улочек, до блеска отлакированных дождем, шаги редких прохожих звучали как-то робко, чуть ли не конфузливо.
Стоявший на углу улицы, облюбованной нотариусами и адвокатами, дом Лурса — точнее, Лурса де Сен-Мара — выглядел еще более сонным, чем его соседи, или, вернее, более таинственными казались два его крыла, отделенные от улицы высокой стеной, мощеный двор, где посреди пустого бассейна красовался Аполлон, из его уст с зажатой в зубах трубочкой уже не била струя воды.
В столовой, помещавшейся на втором этаже, сидел сам Гектор Лурса, подставив сутулую спину теплу камина, откуда наползал в комнату желтоватый дым от еле тлевших брикетов.
Нынче вечером у Лурса были точно такие же, как и всегда, — ничуть не больше и не меньше — мешки под глазами и все такие же студенистые зрачки, что придавало его взгляду неопределенно-тревожное выражение.
Стол был круглый, скатерть — белоснежная. Сидевшая напротив Лурса его дочь Николь старательно жевала с сумрачным, невозмутимым видом.
Оба молчали. Лурса ел неопрятно, тянулся к тарелке, словно овца к траве, шумно чавкал и временами вздыхал то ли от скуки, то ли от усталости.
Покончив с очередным блюдом, он слегка отодвигался от стола, чтобы дать простор объемистому брюшку, и ждал.
Ожидание это было столь заметным, что Николь воспринимала его как сигнал и слегка поворачивала голову к горничной, стоявшей у стены.
Горничная тут же открывала крышку люка и кричала в шахту подъемника:
— Можно подавать!
Там внизу, в глубоком подвале, помещалась мрачная кухня со сводчатым, как в церкви, потолком; и, услышав крик, низенькая, тощая, уродливая женщина, только что пристроившаяся на кончике стола, чтобы поесть, вскакивала, брала с плиты блюдо и ставила его на подъемник.
И, как всегда, не дойдя нескольких метров до места назначения, механизм сдавал, сцепление заедало, и лишь после многочисленных попыток горничной, караулившей наверху, каким-то чудом удавалось выхватить из подъемника давно ожидаемое блюдо.
Каминная труба не тянула. Весь дом был полон вещей, которые вообще не действовали или действовали из рук вон плохо. Это сразу бросалось в глаза. Положив локти на стол, Лурса горестно вздыхал при каждой очередной аварии подъемника; а когда порывом ветра из камина выбросило длинный язык пламени, Николь забарабанила пальцами по краю стола, что служило у нее признаком дурного настроения.
— Ну что же, Анжель?
— Сейчас, мадемуазель.
Николь пила белое вино, которое подавали в графине. Ее отец предпочитал бургундское и неизменно выпивал за обедом целую бутылку.
— Мадемуазель может сразу же после обеда рассчитаться со мной?
Лурса рассеянно прислушивался к разговору. Он почти не знал этой горничной, только отметил про себя, что она значительно выше и плотнее, чем их прежние служанки, к которым он привык больше, чем к этой рослой девице с энергичной физиономией и спокойно-непочтительными повадками.
— Ваша расчетная книжка при вас?
— Я отдала ее Фине.
Финой, то есть Жозефиной, звалась их кухарка, карлица с дергавшимся лицом, отправлявшая наверх блюда из кухни.
— Хорошо.
Лурса не спросил у дочери, почему горничная уходит от них — по доброй воле или ее рассчитали. Каждые две недели у них появлялась новая служанка, и это было ему глубоко безразлично.
Он жевал вареные каштаны и ухитрился осыпать крошками свою домашнюю куртку из черного вельвета. Впрочем, это не имело значения, так как куртка была вся в пятнах. Слышно было, как из крана капает вода, — очевидно, и этот кран тоже нуждался в починке.
После каштанов Лурса подождал еще с минуту, но, поняв, что продолжения не последует, скомкал салфетку и бросил на стол, так как не в его привычках было складывать ее как полагается. Потом он поднялся со стула.
Сегодняшний вечер прошел совсем так, как и все прочие, без малейших отклонений. Отец не глядел на Николь. Только бросил ей уже с порога:
— Спокойной ночи.
К этому часу походка его становилась грузной, не слишком уверенной. В течение дня Лурса успевал выпить две или три бутылки — чаще всего три — все того же бургундского, за которым он сам спускался в погреб, едва пробудившись ото сна, и со всей осторожностью относил вино к себе в комнату.
При желании с улицы можно было бы проследить путь Лурса, так как сквозь узкие щели ставен по мере его продвижения пробивались тонкие лучики света, можно было даже установить, что адвокат добрался до своего кабинета, расположенного в крайней комнате правого крыла особняка.
Дверь кабинета была давным-давно обита клеенкой — еще во времена отца Лурса, тоже адвоката, а может быть, даже во времена деда, бывшего в течение двадцати лет мэром города. Черная клеенка местами разорвалась, как сукно на старом трактирном бильярде.
В камине, там, где полагается быть подставке для дров или решетке для угля, еще в незапамятные времена и по забытым уже сейчас причинам поставили, конечно временно, маленькую чугунную печурку, но она так и прижилась в кабинете со своей коленчатой трубой. Печурка пыхтела, старательно раскалялась докрасна, и время от времени Лурса подходил к ней, как к доброму псу, и, дружески бросая в ее пасть совок углей, присаживался возле нее на корточки, чтобы помешать золу.
Пассажирский поезд на Монлюсон уже прошел. Теперь за городом посвистывал другой, на сей раз, очевидно, товарный состав. На экране для горстки зрителей, жавшихся в углах кинозала, пахнувшего мокрой одеждой, проплывали, подрагивая, кадры какого-то фильма. Префект пригласил своих гостей в курительную комнату и открыл ящик сигар.
Прокурор Рожиссар, воспользовавшись тем, что сегодня партия бриджа не состоялась, решил пораньше лечь спать, а его жена читала рядом в постели.
Лурса высморкался так, как сморкаются только старики да крестьяне: сначала развернул платок во всю ширину, потом произвел носом трубный звук три раза подряд, после паузы еще пять раз и так же аккуратно сложил платок.
Он был один в своем жарко натопленном логове, которое всегда запирал на ключ по склонности натуры. Из-за порочной склонности, уточняла Николь.
Его седые волосы были всклокочены от природы, а он еще усиливал живописный беспорядок, проводя по ним всей пятерней от затылка ко лбу. Бородка была подстрижена клинышком, но не совсем ровно, а седые усы пожелтели от никотина.
Повсюду — на полу, в пепельницах, у печурки, даже на стопках книг — валялись окурки.
Тяжело ступая, Лурса с сигаретой во рту пошел за бутылкой, которая пока что доходила на углу каминной доски до нужной температуры.
По Парижской улице, минуя отдаленные жилые массивы, изредка проезжали автобусы, вокруг фар вскипали капли дождя, непрерывно двигались «дворники», а внутри автобусов мертвенно белели пятна лиц.
Делать Лурса было нечего, он дал потухнуть окурку, потом снова зажег, потом выплюнул его на пол, а рука его тем временем нащупала первую попавшуюся книгу и открыла ее на случайно попавшейся странице.
Так он читал, не особенно усердно, потягивая маленькими глотками вино, мурлыкая себе что-то под нос, сплетая и расплетая ноги. Книг в кабинете было множество, чуть не до самого потолка. И в коридорах тоже, и во всех прочих комнатах были книги, его собственные и те, что достались ему от отца и деда.
Без особой охоты Лурса подходил к полке, стоял перед ней, очевидно забыв, зачем он здесь, и успевал выкурить сигарету, прежде чем выбирал книгу, потом утаскивал ее в свой кабинет совсем как щенок, который старательно запрятывает сухую корку под соломенную подстилку конуры...
Так длилось двадцать, точнее, восемнадцать лет, и никогда еще никому не удавалось уговорить его пообедать вне дома, ни у Рожиссаров — его родичей, которые устраивали по пятницам обеды, после чего следовал бридж, ни у старшины адвокатского сословия, который был ближайшим другом его покойного отца, ни у его зятя Доссена, у которого собирались политические деятели, ни у префекта, хотя каждый вновь назначенный префект, не зная еще нрава Лурса, поначалу посылал ему приглашение.
Он почесывался, отфыркивался, сморкался. Ему было жарко. На домашнюю куртку с сигареты щедро сыпался тонкий пепел. Он прочел десять страниц какого-то труда по юриспруденции и сразу же открыл на середине чьи-то мемуары семнадцатого века.
Время шло, с каждым часом Лурса все больше тяжелел, глаза становились все более водянистыми, а движения торжественно медлительными.
Спальня, которую звали просто «комната», то есть та спальня, где поколение за поколением спали хозяева дома и которую сам Лурса занимал с женой, находилась в противоположном крыле дома на том же этаже. Но он уже давно не пользовался этой спальней. Когда вино кончалось, иной раз к полуночи, а иной раз значительно позже, он покидал кабинет, но, прежде чем уйти, никогда не забывал выключить электричество и приоткрыть окно, чтобы не угореть от печурки.
Затем он перебирался в соседнюю комнату, бывшую секретарскую, где теперь по распоряжению Лурса поставили железную кровать; не закрывая дверей, он раздевался, ложился и курил еще несколько минут в постели и наконец, шумно вздохнув, засыпал.
Сегодня вечером — это была вторая среда месяца, раз в префектуре давали обед для избранных, — Лурса особенно тщательно занялся печуркой, подложил угля и наслаждался более обычного разлившимся по комнате теплом, так как на дворе стояли холода, а в стекла барабанил дождь.
Он слышал стук капель, порой скрипел неплотно прикрытый ставень; внезапно поднялся ветер, шквальными порывами пролетал по улицам. Слышал он также размеренное, как стук метронома, тиканье своих золотых часов, лежавших в кармане жилета.
Он перечел несколько страниц путешествия Тамерлана, от книги шел запах ветхости, а переплет обтрепался. Возможно, он собрался уже идти за новой порцией духовной пищи, как вдруг медленно поднял голову, удивленный, заинтригованный.
Обычно, кроме свистков товарных составов да отдаленного шелеста автомобильных шин, сюда не долетало ни звука, если не считать шагов Жозефины Карлицы, которая всегда ложилась точно в десять часов, но с каким-то маниакальным упорством, прежде чем лечь в постель, раз двадцать обходила во всех направлениях свою каморку, помещавшуюся как раз над кабинетом хозяина.
Но ведь Фина давно легла. Какой-то новый звук, звук непривычный, достиг слуха Лурса, погруженного в сонное оцепенение.
Сначала ему почудилось, будто щелкает кнут, утрами он слышал такое щелканье, когда по их улице проезжал мусорщик на своей повозке.
Но этот звук шел не с улицы. И это было не щелканье кнута. Эхо от этого звука распространилось шире, звучало дольше. Вернее, ему показалось, будто его с размаху ударили в грудь, и он стал прислушиваться с недовольным, хмурым лицом; в общем, чувство, охватившее его в первую минуту, хоть и не было тревогой, но весьма походило на тревогу.
Но что показалось ему особенно странным, это тишина, наступившая затем. Тишина какой-то противоестественной плотности, в которой как бы дрожали взбаламученные волны.
Поднялся он не сразу. Сначала налил в стакан вина, выпил его залпом, зажал в зубах новую сигарету, встал, недоверчиво оглядываясь, шагнул к двери, но, прежде чем открыть ее, снова прислушался.
В коридоре он повернул выключатель, и три пыльные лампочки вспыхнули под потолком, подчеркнув длину коридора и осветив лишь пустоту и безмолвие.
— Николь! — произнес он вполголоса.
Теперь он уже знал, что слышал выстрел. Он, правда, пытался убедить себя, что, возможно, стреляли на улице, но сам в это не верил.
Он не очень испугался. Шел он медленно, по обыкновению ссутулясь, переваливаясь на ходу, как медведь, за что упрекала Лурса кузина Рожиссар, уверявшая, что он нарочно так ходит, желая поинтересничать. Впрочем, чего только она о нем не говорила!
Он добрался до каменной белой лестницы с металлическими перилами и, перегнувшись, оглядел пустую прихожую.
— Николь!
Хотя позвал он негромко, голос его разнесся эхом по всему дому.
Возможно, он ограничился бы тем, что прошел бы по коридору и снова заперся бы в своем мирном и жарко натопленном кабинете.
Но вдруг ему почудилось, что над его головой раздались поспешные шаги, хотя в этой половине верхнего этажа сейчас никто не жил, а раньше, когда у Лурса были еще дворник, шофер, садовник и горничные, мансарду занимала прислуга.
Спальня Николь помещалась в самом конце левого крыла дома, и отец направился туда по длинному коридору, совсем такому же, как тот, что вел в его кабинет, с той лишь разницей, что здесь из трех лампочек горели всего две. Он остановился перед дверьми спальни, бегло отметив про себя, что в щелку пробился луч света и тут же погас.
— Николь! — снова позвал он.
И постучал в дверь.
— Что случилось? — спросила дочь.
Он готов был поклясться, что голос доносится не из кровати, которая, по его расчетам, находилась много левее, — по крайней мере, так было в тот раз, когда, года два назад, Лурса случайно забрел в спальню дочери.
— Откройте! — сказал он только.
— Сию минуту...
Минута, однако, длилась довольно долго, за дверью кто-то суетился, стараясь не стукнуть и не зашуметь.
В дальнем конце коридора находилась винтовая лестница, которой пользовались все обитатели дома, хотя считалась она лестницей для прислуги.
Лурса все еще ждал, когда внезапно скрипнула ступенька винтовой лестницы. Тут уж сомнений быть не могло. И когда он обернулся со всей отпущенной ему природой ловкостью, ему показалось, нет, не показалось, он отчетливо увидел, как кто-то скользнул по ступенькам, скорее мужчина, чем женщина; он мог бы даже поклясться, что это был молодой человек в бежевом плаще.
Дверь открылась, Николь оглядела отца с обычным своим спокойствием, где не было места ни любопытству, ни любви, с тем спокойствием, которое порождается лишь глубочайшим равнодушием.
— Что вам надо?
Лампа под потолком и ночник горели, кровать была смята, но Лурса решил, что простыни разбросаны с умыслом. Николь была в халатике, но в чулках.
— Вы ничего не слышали? — спросил он, снова бросив взгляд на винтовую лестницу.
Она сочла нужным объяснить ему:
— Я спала.
— В доме кто-то есть.
— Вот как?
Одежда Николь валялась на коврике.
— Мне показалось, что кто-то стрелял...
Лурса направился в дальний конец коридора. Он не испытывал страха. Не волновался. Еще немного, и он, презрительно пожав плечами, возвратился бы к себе в кабинет. Но если действительно стреляли, если он действительно видел молодого человека, промелькнувшего на лестнице, пожалуй, лучше пойти посмотреть.
Самое удивительное было то, что Николь не сразу последовала за отцом. Она замешкалась в спальне, и, когда он, почувствовав за спиной ее присутствие, оглянулся, Николь уже была без чулок.
Ему это было все равно. Николь могла делать все, что ей заблагорассудится. Все эти подробности он отмечал про себя просто так, бессознательно.
— Я уверен, что по лестнице только что спустился какой-то человек. Раз дверь внизу не хлопнула, значит он укрылся где-нибудь в темноте.
— Интересно, чем здесь может поживиться вор. Разве что старыми книгами...
Николь была выше отца, такая же ширококостная, даже, пожалуй, полная, ее густые белокурые волосы отдавали рыжиной, а желтые, как часто бывает у рыжих, глаза казались особенно светлыми.
Она шла за отцом без всякой охоты, но и без страха, такая же хмурая, как и ее родитель.
— Я ничего больше не слышу, — сказал Лурса.
Взглянув на Николь, он подумал, что, может быть, молодой человек как раз приходил к дочери, и снова чуть было не повернул к себе в кабинет.
Но, случайно подняв голову к лестничной клетке, он заметил наверху расплывчатое пятно света.
— На третьем этаже горит лампочка.
— А может быть, это Фина?
Он бросил на дочь тяжелый презрительный взгляд. Что делать Фине в полночь в этой части дома, куда складывали всякую рухлядь? К тому же Фина отчаянная трусиха; когда Лурса уезжал из дому, она заявляла, что будет ночевать в комнате Николь, и действительно перетаскивала туда свою раскладушку.
Он неторопливо поднимался со ступеньки на ступеньку, догадываясь, что это их ночное путешествие неприятно дочери. Впервые за долгие годы он отступил от своего обычного, жестко ограниченного маршрута.
Сейчас он словно проникал в неведомый ему мир и усиленно принюхивался, потому что чем выше он поднимался, тем явственнее становился запах пороха.
Коридор на третьем этаже был совсем узкий. В незапамятные времена, лет тридцать тому назад, в коридоре второго этажа сменили ковры и старый ковер расстелили здесь. Вдоль стен шли полки, плотно забитые книгами без переплетов, журналами, сборниками, разрозненными комплектами газет.
Николь все так же невозмутимо шла за отцом.
— Вы же видите, здесь никого нет!
Она не прибавила: «Вы выпили лишнего». Но невысказанный упрек явно читался в ее глазах.
— Кто-то ведь зажег здесь свет! — возразил он, указывая на горящую электрическую лампочку.
И, нагнувшись, добавил:
— И бросил незатушенную сигарету!
Сигарета, которую он подобрал с пола, уже прожгла красноватый ковер, и в дырку виднелись нитки основы.
Он шумно вздохнул, потому что подъем дался ему нелегко, нерешительно шагнул вперед, все еще прикидывая в уме, не разумнее ли вернуться к себе в кабинет.
С третьим этажом у него были связаны воспоминания детства — тогда все три комнаты, расположенные по левой стороне коридора, занимала прислуга. В первой с края жила Ева, горничная, предмет его тайных воздыханий, которую он как-то вечером застал с шофером в весьма недвусмысленной и надолго запомнившейся ему позе.
Заднюю комнату занимал Эзеб, садовник, и к нему Лурса мальчишкой ходил мастерить силки для воробьев.
Ему показалось, что дверь в эту комнату неплотно прикрыта. Он прошел вперед, дочь на этот раз осталась стоять на месте, и толкнул дверь без особого любопытства, просто чтобы посмотреть, что сталось с жильем Эзеба.
Стоявший здесь запах не оставлял никаких сомнений, к тому же ему почудилось в глубине комнаты какое-то легкое движение, вернее, какой-то трепет жизни.
Лурса поискал выключатель, так как уже забыл, с какой стороны он расположен. При свете лампочки он увидел пару устремленных на него глаз.
Он не шелохнулся. Просто не мог. Было что-то необычное во всем этом происшествии, в этих глазах.
Этими глазами смотрел на него человек, лежавший на постели. Плед прикрывал его лишь до пояса. Одна нога в пухлой повязке, возможно даже с шиной — такие шины накладывают при переломах, — свисала с кровати.
Впрочем, всего этого Лурса почти не заметил. Единственное, что имело значение, — это глаза незнакомца, смотревшего на Лурса в его собственном доме, под его кровом, с невысказанным мучительным вопросом.
На постели лежал мужчина; лицо, коротко подстриженные бобриком густые волосы — все было явно мужским, а вот глаза, глаза были совсем детские, огромные, испуганные, и Лурса показалось даже, что в них застыли слезы.
Ноздри вздрогнули, губы шевельнулись. Лицо исказила еле заметная гримаса вроде той, что предшествует крику или плачу.
Звук... Человеческий звук... Не то бульканье, не то первый хриплый зов новорожденного...
И сразу же тело опало, застыло в неподвижности, и произошло это так внезапно, что Лурса на мгновение затаил дыхание.
Когда наконец он пришел в себя, ему хватило сил лишь провести ладонью по волосам и сказать, причем он услышал свой голос будто со стороны:
— Да он, очевидно, умер...
Лурса повернулся к Николь, которая стояла чуть поодаль, в коридоре, в лазоревых домашних туфлях на босу ногу. Он повторил:
— Умер.
И тут же озадаченно спросил:
— А кто он?
Нет, Лурса не был пьян. Да он никогда и не бывал пьян. По мере того как день близился к вечеру, поступь его становилась вся тяжелее, голова, особенно голова, тоже тяжелела, мысли лениво цеплялись одна за другую, и случалось, он произносил вполголоса какие-то слова — слова, которых не мог понять никто из посторонних и которые были единственными внешними проявлениями его внутренней жизни.
Николь смотрела на отца с ошеломленным видом, будто самым необычным за сегодняшний вечер был не выстрел, не зажженная лампочка, не человек, умерший в этой комнате, а сам Лурса, как всегда, невозмутимо спокойный и грузный.
Кассирша в кинотеатре наконец закрыла свою стеклянную кассу, где сидеть зимой было подлинной мукой, хотя она приносила с собой из дома грелки. Парочки на минуту появлялись в полосе света и сразу исчезали в сыром мраке. Скоро во всех кварталах откроются и тут же захлопнутся двери, в уличной тишине гулко разнесется:
— До завтра...
— Покойной ночи...
В префектуре уже разносят оранжад — первый сигнал гостям, что пора расходиться.
— Алло! Рожиссар?
Прокурор, стоя в ночной рубашке — он так и не мог привыкнуть спать в пижаме, — нахмурился и покосился на жену, поднявшую от книги глаза.
— Что вы говорите?.. Как, как?
Лурса вернулся к себе в кабинет. Николь, все еще в халате, стояла у порога. Фина — она же Карла — не подавала признаков жизни; если даже она проснулась, то, наверное, забилась от страха под одеяло и жадно ловит все шумы в доме.
Лурса повесил телефонную трубку, ему захотелось выпить, но бутылка оказалась пустой. Дневной запас уже иссяк. Придется спускаться в погреб, где до сих пор так и не собрались провести электричество.
— Думаю, что вас будут допрашивать, — обратился он к дочери. — Поэтому советую хорошенько собраться с мыслями. Может быть, вы все-таки оденетесь?
Николь жестко взглянула на отца. Впрочем, это не имело никакого значения, раз они все равно не любили друг друга и с молчаливого согласия уже давно ограничили свои отношения только встречами в столовой. Да и то скорее по привычке, потому что даже за едой они по большей части молчали.
— Если вы знаете этого человека, по-моему, разумнее сразу в этом признаться. А что касается того, который прошел...
Николь повторила:
— Я ничего не знаю.
— Как вам угодно. Будут допрашивать также Фину и, безусловно, горничную, которую вы рассчитали...
Он не глядел на дочь, но ему почудилось, будто эти слова произвели на нее впечатление.
— Они скоро придут, — заключил он, вставая и направляясь к двери.
Впрочем, не так-то уж скоро! Конечно, Рожиссар явится не один, он непременно вызовет секретаря суда, комиссара полиции или жандармов. В курительной комнате в стенном шкафу стояли ликеры и винный спирт, но Лурса к ним никогда не притрагивался, он направился в погреб; свечу он с трудом отыскал в кухне, потому что, за исключением облюбованного им уголка, был словно чужой в собственном доме.
Раньше в этой кухне, еще во времена Евы...
Он взял бутылку там, где и обычно, — на полках, тяжело отдуваясь, поднялся из погреба, сделал передышку на первом этаже и из любопытства решил проверить дверь черного хода, выходившую в тупик Таннер.
Дверь не была заперта на ключ. Он открыл ее — с улицы на него неприятно пахнуло холодом и вонью помоек, — снова закрыл дверь и побрел в свой кабинет.
Николь здесь уже не было. Должно быть, пошла одеваться. С улицы донесся шум; приоткрыв ставни, Лурса заметил полицейского на мотоцикле, которого, очевидно, прислал Рожиссар и который теперь ждал прокурора на обочине тротуара возле дома.
Лурса аккуратно содрал воск с пробки, откупорил бутылку, думая о том мертвеце, о том человеке наверху, которому выстрелили прямо в грудь, почти в упор, думал он также о стрелявшем: по-видимому, тот не отличался особенным хладнокровием, ибо пуля не пробила сердца, а попала много выше, почти в шею. Очевидно, поэтому раненый и не крикнул, а издал какое-то урчание. Он умер от потери крови там, наверху, и одна нога у него свисала с постели.
Был он высокого роста, почти гигант, и оттого, что он лежал неподвижно, вытянувшись, он казался особенно огромным. Стоя, он был, должно быть, на голову выше Лурса, и черты лица у него были грубые, в них проглядывало что-то бессознательно зверское, как это бывает порой у крестьян могучего телосложения.
Как удивился бы Лурса, если бы заметил, что, выпив полстакана бургундского, произнес вслух:
— Странно все-таки!
Сверху донесся какой-то шорох. Карла ворочалась на своей постели, но поднять ее удастся только силой.
В «Отель де Пари» трое коммивояжеров сели играть в белот с хозяином, время от времени поглядывавшим на часы. Пивные уже закрывались. В префектуре привратник собственноручно запер тяжелые двери, и последняя машина отъехала от подъезда.
Дождь лил все так же упорно, только падал он теперь косыми струями, потому что поднялся северо-восточный ветер и там, далеко в море, должно быть, разыгрался шторм.
Поставив локти на письменный стол, Лурса скреб пальцами голову, осыпал пеплом отвороты куртки, потом обвел комнату взглядом своих водянистых глаз, тяжело с присвистом вздохнул и пробормотал:
— Они от этого прямо с ума сойдут.
«Они» — это в первую очередь, конечно, Рожиссар или, скорее, Лоранс, его супруга, которую страстно интересуют проблемы добра и зла, все, что делается, и все, что, по ее мнению, следовало бы делать; а затем уже прочие, например судейские в полном составе, которые обычно не знали, как себя вести, когда Лурса случалось выступать защитником; в общем, все они — судьи, его коллеги адвокаты и еще такие типы, как Доссен, его зять Доссен — владелец завода сельскохозяйственных машин, который трется среди политических деятелей и метит на должность генерального советника; как его жена Марта, вечно больная, вечно скорбящая, вечно одетая в какие-то разлетающиеся хламиды, — и хотя доводится она родной сестрой Лурса, они не видятся годами; вся улица, все солидные люди, по-настоящему состоятельные или прикидывающиеся таковыми, коммерсанты и рестораторы, члены различных комитетов, равно как и члены фешенебельного клуба, все сливки общества и все его подонки.
Хочешь не хочешь — придется начать расследование!
Потому что незнакомца убили на постели в его доме...
А он, Лурса, в сущности их родич, родич тех, с которыми считаются, которые достигли известного положения, родич по узам крови или по узам брака, внук бывшего мэра, чьим именем названа одна из улиц города и чей бюст водружен в одном из городских скверов!
Он осушил стакан и сразу налил еще вина, но выпить не успел, так как к дому шумно подкатили машины, две или даже больше; Фина по-прежнему не желает вылезать из постели, Николь ни за что не спустится, и придется самому идти вниз, возиться с непривычными засовами, пока там, на улице, хлопают дверцы автомобилей.
II
Когда Лурса открыл глаза, было уже одиннадцать, но он еще не знал этого, так как ему лень было протянуть руку и вынуть из жилетного кармана часы. В комнате из-за закрытых ставен стоял полумрак, как в подвале, и только в ставнях ярко светились две маленькие круглые дырочки.
На эти два блестящих глазка Лурса обычно глядел с сосредоточенным вниманием, как, пожалуй, ни на что больше во всем свете, — с таким сосредоточенным вниманием часами могут рассматривать какой-нибудь пустяк дети — ведь по этим глазка`м он должен был угадать, какая сегодня погода. Отнюдь не будучи суеверным, Лурса создал свою собственную систему примет: так, в те дни, когда он правильно угадывал, какая на дворе погода, все шло благополучно.
Солнце! — решил он. Потом грузно повернулся на бок и нажал кнопку звонка, который заверещал под сводами похожей на склеп кухни, где царила их Фина. Как раз сейчас она наливала стакан вина полицейскому, без церемоний усевшемуся за стол.
— Что это? — осведомился полицейский.
И Фина равнодушно ответила:
— Да так, ничего.
Лежа с открытыми глазами, Лурса ждал, прислушиваясь к тому, что творится в доме, но звуки доходили сюда расплывчатые, приглушенные расстоянием и поэтому непонятные. Он позвонил еще раз. Полицейский взглянул на Фину, а та в ответ пожала плечами:
— Чтоб он сдох!
Она сняла кофеварку, стоявшую на краю плиты, сердито тряхнула ее, наполнила кофейник, схватила со стола засиженную мухами сахарницу. Поднявшись наверх, она не дала себе труда ни постучать в дверь кабинета, ни пожелать хозяину доброго утра. Просто грохнула поднос на стул, служивший ночным столиком, затем подошла к окну и открыла ставни.
Лурса понял, что проиграл. Небо было серо-зеленое, цвета ртути. Правда, через мгновение оно вроде просветлело, но тут же снова нахмурилось, его заволокли дождевые тучи, дышавшие холодом.
— Кто там внизу?
Каждое утро, просыпаясь, Лурса переживал малоприятный час, но он уже свыкся и разработал целую серию приемов, чтобы хоть отчасти смягчить утренние муки. Главное — не торопиться вставать и двигаться, потому что голова после сна какая-то пустая и в желудке начинаются спазмы. Надо подождать, пока Карла разожжет огонь, что она и проделывала, грубо хватая уголь и спички, словно срывала на них злость.
— Людей полно и внизу, и наверху! — ответила она, бросая на кровать хозяйскую рубашку.
— А где мадемуазель?
— Заперлась с одним из этих господ и сидит целый час в большой гостиной.
Злобный нрав Карлы уже не казался ему таким забавным, как в былые времена, он уже успел к нему привыкнуть. Николь было всего два года, когда Фину взяли в дом смотреть за девочкой, и внезапно в один прекрасный день она возненавидела всех на свете, а в особенности самого Лурса.
Впрочем, адвоката это мало заботило. Он вообще не замечал, что делается в доме, и все же ему случалось, открыв по ошибке дверь, застать их Карлу, которая, стоя на коленях, старалась отогреть в руках или у тощей своей груди босые ноги Николь, что не мешало ей злиться на свою молодую хозяйку иногда по несколько недель кряду по каким-то своим таинственным причинам!
После чашки кофе наступила очередь минеральной воды, он прополаскивал ею горло, потом выпивал целую бутылку. Только после всех этих процедур можно было вставать. Но окончательно он начинал чувствовать себя человеком часом позднее, выпив два-три стакана вина.
— Прокурор тоже приехал?
— Я его не знаю!
Лурса редко пользовался ванной комнатой, находившейся в противоположном конце дома, напротив его бывшей спальни. Ему вполне хватало тазика в стенном шкафу, стакана с зубной щеткой и гребенки. Он одевался в присутствии Фины, присевшей на корточки возле печурки, печурка у нее капризничала и никогда не загоралась сразу.
— А как себя чувствует мадемуазель?
И Фина, скорчившись у печурки, ответила ему, словно укусила своими острыми, как у грызуна, зубами:
— А как она, по-вашему, должна себя чувствовать?
Вчера все получилось довольно забавно. Рожиссар, очень высокий и очень тощий субъект, так же как и его жена, — недаром в городе их прозвали Жердями! — с озабоченным видом пожал кузену руку и, недовольно нахмурившись, спросил:
— Что это вы такое нарассказали по телефону?
Чувствовалось, что он ничуть не удивится, если адвокат фыркнет ему в лицо и крикнет:
— А вы и поверили?
Но не тут-то было! На кровати действительно лежал труп, и прокурор готов был поклясться, что Лурса демонстрирует его с гордостью, чуть ли не с радостной улыбкой на лице.
— Вот! — заявил он. — Не знаю ни кто он, ни как он сюда попал, ни что с ним случилось. Думаю, это уж по вашей части, не так ли?
Секретарь то и дело кашлял, и Лурса, не удержавшись, взглянул на него сначала нетерпеливо, а потом с нескрываемой злобой, до того его раздражало это назойливое покашливание. Приехал также комиссар — не то Бине, не то Визе, коротышка с выпученными рыбьими глазами, с поредевшей шевелюрой; этот с каким-то маниакальным упорством вставлял кстати и некстати «извините». Без всякого злого умысла он все время попадался вам под ноги, и скоро Лурса не мог без отвращения видеть ни самого Бине, ни его ратиновое пальто шоколадного цвета.
— Николь дома? — осведомился Рожиссар, который, пожалуй, впервые в жизни испытывал столь неприятное ощущение.
— Одевается. Сейчас придет.
— Она знает?
— Она была со мной, когда я открыл дверь.
Очевидно, Лурса выпил много, даже чуть больше, чем обычно, и язык у него слегка заплетался. Это было неприятно, особенно перед секретарем, перед комиссаром, перед товарищем прокурора, который только что прибыл вместе с начальником полиции.
— Никто в доме этого человека не знает?
Все-таки Николь молодец. Уже вышла к посетителям, да еще как вышла! Лурса удивился — настоящая светская дама. Казалось, она просто появилась в салоне, где ее ждут гости, и протянула прокурору руку.
— Здравствуйте, кузен...
И, повернувшись к остальным, проговорила, ожидая, когда их ей представят:
— Господа...
Это было подлинное откровение, отец впервые видел дочь такой.
— А что, если мы отсюда уйдем? — предложил Рожиссар Жердь. На его нервы начинал действовать этот труп с открытыми глазами. — Может быть, комиссар, вы воспользуетесь случаем и осмотрите комнату?
Перешли в столовую, так как уже много лет хозяева не пользовались гостиной нижнего этажа.
— Разрешите, Лурса, побеседовать с Николь?
— Пожалуйста. Если я вам понадоблюсь, я буду у себя в кабинете.
Через полчаса к нему в кабинет пришел Рожиссар, на сей раз один.
— Николь твердит, что ничего не знает. Вообще малоприятная история, Лурса. Я велел отвезти тело в морг. Не стоит начинать расследование ночью. Придется оставить здесь в доме человека...
Пусть оставляет, если хочет! Взгляд адвоката был еще более мутным, чем обычно, а на письменном столе стояла пустая бутылка.
— Вы действительно не имеете ни малейшего представления о том, что произошло?
— Ни малейшего!
Произнес он эти слова таким тоном, который при желании можно было счесть за угрозу. А может, он просто насмехался над своим кузеном.
Положение было особенно щекотливым потому, что Гектор Лурса, даже пьяница и нелюдим, каким он стал с годами, все еще принадлежал к хорошему обществу Мулэна.
Конечно, он не посещал салонов, но ни с кем не был в ссоре, и при случайных встречах на улице или в суде ему пожимали руку.
А если он пил, то пил в одиночестве, в своей норе, и правил приличия не нарушал.
В чем же можно было его упрекнуть? Напротив, еще приходилось его жалеть, сокрушенно вздыхать: «Какая досада! Безусловно, самый одаренный человек в городе!»
Это было истинной правдой, хотя вспоминали об этом лишь в тех редких случаях, когда Лурса соглашался выступить защитником в суде.
Прежде за ним ничего такого не замечали до тех самых пор, когда восемнадцать лет назад перед Рождеством его жена вдруг навсегда покинула дом, оставив на руках мужа двухлетнюю крошку Николь. Передавая друг другу эту историю, люди невольно улыбались. В течение долгих недель дверь его дома была на запоре. Более или менее близкие родичи Лурса, такие как Рожиссар, выговаривали ему:
— Нельзя так раскисать, дорогой мой. Нельзя же в самом деле жить вне общества, как больное животное!
Но оказалось — можно, раз он прожил так целых восемнадцать лет! Целых восемнадцать лет, в течение которых он не испытывал нужды в человеческом обществе; ему не требовались ни друзья, ни любовницы, ни даже слуги, так как Фина, которую он нанял, не занималась ничем, кроме Николь.
А он ею не занимался. Он просто не замечал дочь, и не замечал с умыслом. Не то чтобы он ее ненавидел, ведь не может в самом деле девочка отвечать за чужие грехи, но, сопоставив кое-какие факты, Лурса даже стал подозревать, что Николь не его дочь, а дочь помощника тогдашнего префекта.
Эта драма без драмы взбудоражила все умы. Главным образом потому, что произошло все это совершенно неожиданно, потому, что бегству жены Лурса не предшествовали сплетни, потому, что никто так и не узнал, что было потом.
Звали ее Женевьева. И она принадлежала к одному из десяти лучших семейств города. Была она хорошенькая, хрупкая. Когда она вышла за Лурса, все считали, что это брак по любви.
Ни сплетен в течение трех лет после свадьбы, ни компрометирующих слухов. И вот в один прекрасный день стало известно, что Женевьева укатила, не сказав никому ни слова, с Бернаром, что она уже давно, чуть ли не с первых дней замужества, была его любовницей, иные уверяли даже, что и до замужества тоже.
И с тех пор о беглецах не было ни слуху ни духу. Ничего, совсем ничего! Лишь один-единственный раз родители Женевьевы получили открытку из Египта, а на открытке стояла только ее подпись.
Чувствуя во рту вязкую горечь, он прошел по коридору, добрался до лестницы и увидел с площадки, что на нижней ступеньке сидят какие-то два человека в шляпах. С минуту он глядел на них тяжелым и рассеянным взглядом, который с трудом можно было вынести, взгляд этот появился в последние годы, и в нем ничего нельзя было прочесть, — потом поднялся на третий этаж, откуда доносился шум голосов и шаги.
Комиссар Бине, пятившийся задом, натолкнулся на Лурса, перепугался и завел свои бесконечные «извините». Тут было еще три человека, один из них фотограф с чудовищно огромным аппаратом, и все работали так, как привыкли работать: кто с трубкой, кто с сигаретой в зубах, что-то вымеряли, что-то искали, передвигали мебель в комнате, где был обнаружен труп.
— Прокурор не приехал? — спросил Лурса, поглядев с минуту на эту возню.
— Не думаю, что он вообще приедет: здесь следователь.
— А кто именно?
— Дюкуп. По-моему, он внизу ведет допрос. Извините, пожалуйста...
— За что извинить? — довольно миролюбиво осведомился Лурса.
— За... за весь этот беспорядок...
Пожав плечами, Лурса уже вышел прочь. Пора было спуститься в погреб за дневной порцией вина.
Нынче утром дом был холодный, шумный, по нему гуляли непривычные сквозняки, раздавались странные для уха звуки. На каждом шагу он наталкивался на незнакомых людей, спускавшихся или подымавшихся по лестнице. Иногда звонили у входной двери, и кто-нибудь из полицейских шел открывать.
Должно быть, прислуга соседей, вместо того чтобы заниматься своим делом, торчит на пороге или выглядывает в окна. А Лурса тем временем сходил в погреб и, отдуваясь, поднялся наверх с тремя бутылками, равнодушно обходя полицейских.
В ту минуту, когда он проходил мимо большой гостиной, открылась дверь. Оттуда вышла Николь, очень высокая, очень прямая, с наигранно невозмутимым выражением лица, и инстинктивно остановилась, заметив отца. Позади вырисовывался силуэт Дюкупа в новенькой паре, с подвитыми волосами, с крысиной болезненной мордочкой и с иронической улыбкой на губах, которую он усвоил на все случаи жизни, главным образом потому, что считал ее неотразимой.
Одну бутылку Лурса держал в левой руке, две другие — в правой, и, хотя Дюкуп уставился на него, он не испытал ни малейшего смущения. Николь тоже посмотрела на эти злосчастные бутылки. Ей, очевидно, хотелось что-то сказать, но она подавила это желание и, тяжело вздохнув, прошла мимо.
— Дорогой мэтр... — начал Дюкуп.
Ему было лет тридцать. Его выдвигали. И всегда будут выдвигать, ибо он делал все для этого необходимое. И женился он на косоглазой, зато вошел через нее в местное высшее общество.
— Поскольку мне сказали, что вы еще спите, я счел своим долгом вас не беспокоить...
Лурса вошел в гостиную и поставил бутылки на стол; стол этот, очевидно, принесли из другой комнаты, потому что раньше его здесь не было. Гостиная была пустая, огромная. Натертый паркет покрывала густая пыль, позолоченные стулья — единственная здесь мебель — стояли вдоль стен, словно сейчас должен начаться бал. Ставни открыли только на одном окне, а на трех других они были заперты, и, так как гостиную давно не топили, Дюкуп не решился снять пальто с хлястиком. Секретарь, сидевший над бумагами, поднялся при виде Лурса. И при каждом шаге, даже при слабом дуновении ветерка, позвякивала люстра, огромная люстра с хрустальными подвесками, издававшими мелодическое треньканье.
— По совету господина прокурора первой мы допросили вашу дочь.
Нет, Лурса решительно не улыбалось сидеть здесь, в этой гостиной, чересчур большой, чересчур холодной и чересчур пустой. Он оглядел комнату; казалось, он ищет укромный уголок, куда можно забиться, а возможно, просто стакан, чтобы выпить вина.
— Пойдемте в мой кабинет! — буркнул он, собрав свои бутылки.
Секретарь не знал, идти ли ему за ними. Дюкуп тоже не мог решить этого вопроса. Поэтому Лурса сам сказал секретарю:
— Когда вы понадобитесь, вас позовут.
Он все еще не зажег сигарету, хотя уже давно держал ее в зубах, и теперь кончик ее совсем размок. Он поднялся по лестнице. Дюкуп шел за ним следом. Лягнув дверь ногой, Лурса захлопнул ее, и тут, в своей норе, снова стал наконец самим собой, снова начал фыркать, сморкаться, взял из стенного шкафчика стакан, налил себе вина и, поглядев на следователя, спросил, держа бутылку в руке:
— Угодно?
— Так рано не пью... Спасибо... У меня с вашей дочерью была длинная беседа, мы говорили почти два часа. Мне удалось ее убедить, что молчание пойдет ей же во вред.
Лурса, покружив по комнате, как кабан в логове, нашел наконец удобную позицию — сел в потертое кожаное кресло так, чтобы можно было, не сходя с места, помешать кочергой в печурке или налить себе стакан вина.
— Вряд ли стоит вам говорить, дорогой мэтр, что, когда сегодня утром прокурор возложил на меня эту тяжелую миссию...
Трудно же приходилось ему с Лурса; во-первых, Лурса не слушал, а во-вторых, в глазах его ясно читалось: «Болван!»
— Только уступая его настойчивым просьбам, я согласился...
— Сигарету?
— Благодарю вас! Согласитесь сами, должен же был кто-то в доме знать, откуда взялся этот человек. Исходя из этих соображений, мне оставалось одно — выбрать между...
— Послушайте-ка, Дюкуп, расскажите мне сразу, что говорила вам моя дочь.
— К этому я и веду! Признаюсь, мне стоило немалого труда ее убедить; но пусть даже она повиновалась самым благородным чувствам, в данном случае в ней говорило желание выгородить своих друзей...
— Вы мне надоели, Дюкуп!
Лурса сказал не «надоели», а прибег к гораздо более грубому выражению и еще глубже ушел в кресло, чувствуя, как тепло алкоголя и печурки приятно расходится по всем жилкам его тела.
— Сейчас вам станут понятны мои затруднения... Все мы, так уж устроен человек, охотно принимаем на веру видимость, все то чисто внешнее, что нас окружает, и нам трудно вообразить себе, что под этой вполне мирной оболочкой существует своя, так сказать, подспудная жизнь, и она-то...
Лурса высморкался, цинично издав носом трубный звук, показывая этим, что хватит с него рассуждений, и Дюкуп застыл в позе оскорбленного достоинства.
— Как вам угодно! Но только да будет вам известно, мадемуазель Николь иной раз вечерами уходила со своими друзьями. Или принимала их у себя, здесь...
Он ждал, как отнесется отец к этому разоблачению, но Лурса даже бровью не повел, казалось, он в восторге от этой вести.
— У себя в спальне? — спросил он.
— На третьем этаже. Там есть комната, скорее кладовка, так вот они окрестили ее «Хлам-баром», если не ошибаюсь...
Зазвонил телефон. Лурса поступил точно так же, как их Карла нынче утром: он просто не взял трубку и решился снять ее, лишь когда от звона заломило в ушах.
— Кто говорит? А, это вы, Рожиссар? Да! Он у меня в кабинете. Нет! Ничего еще не знаю. Он только что начал... Хорошо! Передаю ему трубку.
И Дюкуп с вежливым трепетом взял трубку:
— Да, господин прокурор... Да, да, господин прокурор. Значит, вы хотите... Хорошо, господин прокурор.
Косой взгляд в сторону Лурса.
— Да, он здесь... Простите? Будет исполнено, господин прокурор... Я сообщил ему, что компания молодых людей имела обыкновение собираться или в городе, в баре, что у рынка, или здесь... Да, да, на третьем этаже... Нет! Не в той комнате, а в соседней. Две недели назад в их компанию попал новичок... Шутки ради они его напоили... А потом, так сказать, в качестве испытания поручили ему угнать машину и отвезти всю компанию в кабачок, расположенный в двенадцати километрах от Мулэна... Да, разумеется, я записал имена... Да, да! Я об этом сразу подумал... Машина принадлежит помощнику мэра, и в то утро ее нашли с помятым крылом, а пятна крови были на... Хорошо! Как, как?.. Простите, господин прокурор. Сейчас возьму бумажку, где записаны имена...
Какое иное чувство, кроме желания взбесить следователя, могло заставить Лурса подняться с кресла и начать кружить по кабинету? И хотя Дюкуп бросал на него нетерпеливые, чуть ли не умоляющие взгляды, Лурса топтался вокруг него и громко сопел.
— Сейчас, господин прокурор... Первый — Эдмон Доссен... Да, сын Шарля Доссена... Пока точно не знаю. Пока еще трудно установить роль каждого участника... Затем Жюль Дайа, сын колбасника с улицы Алье... Правильно! Я собираюсь туда зайти... Просто записал имена, среди прочих есть также один банковский служащий... Его отец — кассир в Кредитном банке, где работает также и сын, фамилия — Детриво... Алло, алло! Да, господин прокурор... Потом некий Люска... И наконец, новичок Эмиль Маню, его мать вдова и дает уроки музыки... На обратном пути Маню был в высшей степени возбужден... Они заметили на дороге силуэт высокого человека с поднятой рукой... Резкий толчок. Тогда молодые люди остановили машину и увидели раненого человека... Да, господин прокурор, мадемуазель Николь была с ними... Должно быть, они совсем растерялись, что и понятно! Кажется, тот тип им грозил, и мадемуазель Николь предложила отвезти раненого к ней... Ну да, господин Лурса ничего не знал. Нет, кухарка узнала об этом на следующий день. Безусловно!.. Сейчас ее допрошу... За доктором Матре ходил Эдмон Доссен... У раненого оказался перелом ноги, сантиметров на десять сорвало с костей мясо... Да, он по-прежнему здесь.
«Он» тем временем спокойно наливал себе вино. Ибо, совершенно очевидно, речь шла о Лурса!
— Алло... Что, что? Простите, рядом шумят... Я ее спрашивал... После того они собирались несколько раз, да, да... Она уверяет, что у раненого оказался несносный характер, он их совсем замучил своими требованиями...
Лурса улыбнулся с таким видом, будто его до крайности позабавило известие, что в течение двух недель под его кровом, без его ведома, находился какой-то раненый, да к тому же еще больного посещал доктор Матре (его соученик по лицею), и что здесь происходили сборища молодых людей, из коих он знал только одного Доссена, сына своей родной сестры, этой Зануды, как он величал ее про себя.
— Совершенно очевидно!.. Хорошо... Да, я понял!.. Именно на этом пункте я особенно и настаивал... По-моему, она говорила вполне откровенно... Добавила, что вчера вечером у нее был Эмиль Маню... Да-да, сын той самой вдовы, которая дает уроки музыки... Она и ей тоже дает уроки музыки... Алло, алло! Не слышу... Они вместе ходили проведать раненого... После чего мадемуазель Николь отвела гостя к себе в спальню...
Досадливый взгляд в сторону Лурса, на лице которого нельзя было прочесть ни досады, ни гнева. Напротив! Дюкуп готов был поклясться, что адвокат внутренне ликует!
— Конечно... Я тоже удивился... Это возможно... Я так и подумал... Да, я читал этот труд... Я знаю случаи, когда девушки возводят на себя поклеп... Но, как вам известно, она особа скорее положительная... Ее приятель ушел от нее без двадцати двенадцать... Она его не провожала...
Какие замечания сделал прокурор на том конце провода? Следователь не мог сдержать улыбки.
— Верно! Сюда входят и выходят, как в гостиницу... По-моему, дверь, выходящая в тупик, не запирается... Она услышала выстрел через несколько секунд после ухода Эмиля Маню... И не сразу решилась выйти из спальни... А когда собралась с духом, в коридоре показался отец... Да, придется повозиться с этим делом. Хорошо! Я ему скажу... До скорого свидания, господин прокурор...
Дюкуп повесил трубку и, чувствуя себя отчасти отмщенным, повернулся к адвокату:
— Прокурор просил меня сказать вам, что он очень огорчен, что сделает все от него зависящее, дабы имя мадемуазель Николь не попало в газеты в связи с этой историей. Вы слышали, что я ему говорил... Добавить мне, пожалуй, нечего... Я придерживаюсь того же мнения, что и прокурор: дело это исключительно щекотливое и исключительно неприятное для всех.
— Будьте добры, назовите мне их имена и дайте адреса.
— У меня они еще не все... Ваша дочь сама точно не знает все адреса, в частности, например, адреса Маню... А теперь от имени прокурора я должен с вашего согласия подвергнуть вас официальному допросу... Ведь в вашем доме...
Лурса уже открыл дверь и крикнул в коридор:
— Пошлите сюда секретаря... Эй, вы, там, внизу, слышите... Пошлите к следователю секретаря...
Очевидно, сейчас Рожиссар звонит госпоже Доссен, а она, скорбная, в блеклом одеянии, скорее всего в лиловатом, со своими изысканными манерами, еле переползает с одного дивана на другой, и единственное усилие, которое она может себе позволить, — это поправить тонкими пальцами цветы в вазе.
Трудно было представить себе человека меньше похожего на Лурса. В их семействе она была олицетворением изысканности. И вышла замуж за Доссена, который тоже был подчеркнуто элегантен; супруги построили за Майлем самую шикарную в Мулэне виллу, где гостей обслуживал дворецкий в белых перчатках, что в городе было большой редкостью.
«Алло! Это вы, дорогая? Ну как вы себя чувствуете? Я просто в отчаянии. Однако я должен предупредить вас, что ваш сын... Конечно, конечно! Мы сделаем все, что в наших силах...» Лурса чудилось, будто он слышит телефонный звонок, видит, как его обезумевшая от горя сестра среди диванных подушек и букетов звонит горничной и только тогда позволяет себе роскошь упасть в обморок.
— Вы меня звали, господин следователь?
— Соблаговолите записать предварительные данные о господине Лурса...
— Гектор-Доминик-Франсуа Лурса де Сен-Мар, — отчеканил Лурса с жесткой иронией. — Коллегия адвокатов города Мулэна. Сорок восемь лет, женат на Женевьеве Лурса, урожденной Грозильер, отбывшей в неизвестном направлении...
Секретарь поднял голову, посмотрел на своего начальника, как бы спрашивая у него совета, заносить ли в протокол эти последние слова.
— Пишите: «Мне неизвестно, что делала или что могла делать вышеупомянутая Николь Лурса; мне неизвестно, что происходило в тех комнатах моего дома, где я не бываю, и это меня ничуть не интересует. Услышав, как мне показалось, выстрел в ночь со среды на четверг, я, к сожалению, проявил излишнюю нервозность и обнаружил в кровати на третьем этаже убитого пулей неизвестного мне человека. Больше добавить ничего не имею».
Лурса повернулся к Дюкупу, который то сплетал, то расплетал ноги:
— Сигарету?
— Спасибо.
— Бургундского?
— Я уже вам сказал...
— Что никогда не пьете по утрам! Тем хуже для вас! А теперь...
Он замолчал, всем своим видом показывая, что хочет побыть в одиночестве.
— Я должен еще попросить вашего разрешения на допрос прислуги... Что касается горничной, которую вчера вечером рассчитали, то ее уже разыскивают... Вам должно быть яснее, чем любому...
— Именно чем любому!
— Фотография убитого и отпечатки его пальцев посланы в Париж, об этом позаботился комиссар Бине...
И Лурса вдруг пророкотал совершенно не к месту, так, словно пропел всем известный припев:
— Бедняжка Бине!
— Бине весьма ценный служащий...
— Ну конечно! Еще бы не ценный!
Лурса не расправился еще с первой бутылкой из своей дневной порции. Но уже прошла обычная по утрам хмурость, скверный вкус во рту и противное чувство пустоты в голове.
— Весьма возможно, я буду вынужден...
— Пожалуйста...
— Но...
К черту Дюкупа! Он до смерти надоел Лурса, и Лурса открыл дверь.
— Вы должны признать, что я сделал все, что мог, лишь бы...
— Совершенно верно, господин Дюкуп...
В устах Лурса имя следователя прозвучало как ругательство.
— Что касается журналистов...
— Надеюсь, вы сами сумеете уладить это дело?
Поскорее бы он убрался отсюда, этот чертов сукин сын! Разве можно спокойно все обдумать, когда перед глазами торчит физиономия такого Дюкупа, который к тому же продушил весь кабинет запахом своей скверной помады или фиксатуара.
Итак, Николь...
Он пожал руку следователю, потом секретарю и, желая положить конец всему, запер дверь кабинета на ключ.
Николь...
Он так яростно разворошил в печурке золу, что язык пламени вырвался наружу и чуть не опалил ему брюки.
Николь...
Он дважды обошел кабинет, налил полный стакан вина, стоя выпил его залпом, потом присел и стал разглядывать листок бумаги, на котором были нацарапаны имена молодых людей, тех, что назвал по телефону Дюкуп.
Николь...
А он-то считал ее просто тупой дылдой! От подъезда отъехала машина: должно быть, Дюкуп.
По всему дому расползлись чужие люди.
Что же могла натворить Николь?
III
Он не засмеялся вслух. Даже не улыбнулся, хотя испытывал чувство жгучего интереса, которое вдруг пробудило в нем какое-то радостное ощущение, почти ликование, обволакивающее, как теплая ванна.
Было около часа дня. Лурса вошел в столовую и обнаружил там Карлу, которая злобно швыряла на стол тарелки. Сам не зная почему, он не сел к столу, а стал спиной к камину, где тлел уголь.
Тут Фина, раза два нетерпеливо дернув рукой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, соблаговолила заговорить, роясь в ящике с серебром:
— Надеюсь, вы мне не звонили?
Он взглянул на нее и до того был поражен тем, какая их Фина маленькая, уродливая, злобная, что чуть было не спросил себя, что, собственно, она делает в его доме. Заметил он также, что на полке, где сейчас стоят тарелки, раньше хранились салфетки, и с удивлением подумал, что не замечал раньше этой перемены.
В обычное время он ждал удара колокола, извещавшего о часе трапезы, как и в те далекие времена, когда дом действительно был обитаем. После удара колокола он копался еще четверть часа, а то и больше, у себя в кабинете, потом, вдруг решившись, шел в столовую, где его поджидала Николь с книгой в руках.
Николь молча откладывала книгу и бросала выразительный взгляд на горничную, означавший, что пора подавать на стол.
А сегодня он впервые опередил Николь. Глядя на Карлу, он спросил себя, зачем она выползла на свет божий из своей подземной кухни и накрывает на стол, но тут же вспомнил, что горничную вчера рассчитали.
Все-таки любопытно! Он и сам не сумел бы сразу ответить, что же тут такого любопытного. Просто смутное ощущение какой-то новизны. Он был здесь у себя, в доме, где появился на свет божий, в доме, где он жил все это время, но он вдруг с удивлением подумал: только для того, чтобы известить двух человек о часе трапезы, зачем-то бьют в огромный монастырский колокол.
Фина вышла из столовой, даже не оглянувшись на хозяина. Она ненавидела его всеми силами души, и, не стесняясь, говорила Николь:
— Ваш грязный скот папаша...
Колокол громко звякнул. В столовую вошла Николь со спокойным, почти безмятежным выражением — по ее лицу трудно было сказать, что эта молодая особа битых два часа просидела на допросе у следователя. Видимо, она не проронила ни слезинки. Впервые Лурса заметил поразивший его факт: Николь, оказывается, занималась хозяйством! Правда, не бог весть как усердно, просто, входя, оглядела стол машинальным взглядом хозяйки дома. Потом она открыла люк и, склонившись над подъемником, произнесла вполголоса:
— Подавайте, Фина.
И об этом она подумала. Сама заменила горничную, поставила блюдо на стол и только после этого села. И все это даже не глядя на отца, не сказав ни слова о ночном происшествии, не интересуясь его переживаниями.
И хотя он ел, как всегда, неряшливо, смаковал бургундское, шумно жевал, его невольно тянуло посмотреть на Николь, но он не осмеливался сделать это открыто и лишь исподтишка бросал на нее быстрые взгляды.
И что самое удивительное, ему было бы приятно поговорить с ней о чем угодно, лишь бы услышать ее голос, да и свой собственный тоже, в этой столовой, где раздавался лишь стук вилок о тарелки да потрескивал в камине уголь.
— Подавайте, Фина! — бросила Николь в подъемник.
Николь была, пожалуй, излишне полновата, но уж никак не производила впечатление ветреной. Это-то больше всего удивило Лурса. В тяжеловесной, невозмутимой Николь чувствовалась какая-то нетронутая сила, сила покоя.
И скрепя сердце он вытащил из кармана вместе с крошками табака смятый листок бумаги, на котором записал имена, и спросил:
— А чем он занимается, этот Эмиль Маню?
Ему самому было неловко, что он заговорил, нарушил многолетнюю традицию молчания. Еще немного, и он покраснел бы от стыда, что изменил самому себе.
Николь обернулась к отцу, глаза у нее были большие, лоб гладкий. Она тут же бросила взгляд на бумагу. И, сразу все поняв, ответила:
— Служит приказчиком в книжной лавке Жоржа.
Вот здесь бы и мог получиться настоящий разговор. Если бы только Николь добавила еще несколько ничего не значащих слов, кроме тех немногих, что потребовались для точного ответа.
Но разговор иссяк. Чтобы придать себе духу, Лурса поглядел на бумажку, лежавшую возле его прибора, и зажевал с новой энергией.
В три часа он по давнишней привычке выводил себя прогуляться, как выводят прогуляться собаку; казалось даже, что он ведет себя на поводке, и всякий раз ходил он по одним и тем же кварталам, мимо одних и тех же домов.
Но сегодня, выйдя из подъезда, сразу же нарушил ритуал, остановился, оглянулся и встал на краю тротуара, разглядывая собственный дом.
Трудно было понять, что испытывает он в эту минуту, доволен он или нет. Просто все было так необычно! Он увидел свой дом! Увидел другими глазами, увидел таким, каким видел мальчишкой, а потом юношей, приезжая на каникулы сюда из Парижа, где учился на юридическом факультете.
Нет, это не было, конечно, волнением сердца. Впрочем, ни за какие блага мира он не согласился бы поддаться такому волнению. И поэтому разыгрывал брюзгу.
Во всяком случае, любопытно было отметить, что... Словом, в те пресловутые вечера «они», наверное, зажигали свет! И с улицы виден был этот свет, просачивавшийся сквозь щели ставен.
Эта дверь, выходившая в тупик, никогда не запиралась на ночь. Неужели соседи ни разу не заметили крадущиеся к ней тени?
И Николь в своей спальне с этим...
Пришлось свериться с бумажкой: с этим Маню! С Эмилем Маню! Имя вполне подходящее к бежевому плащу, к силуэту, который промелькнул в конце коридора...
Словом, если они сидели вдвоем в спальне, то, значит...
Он зашагал по улице, покачивая головой, ссутулясь, заложив руки за спину, и вдруг остановился, заметив, что на него глядит какая-то девочка. Должно быть, соседская. В свое время он знал всех жителей квартала, но с тех пор одни переехали, другие умерли. А кто и родился! Так чья же это девочка? Что она думает, глядя на него? Почему у нее такой испуганный вид?
Возможно, родители пугали ее, говорили, вот идет дядя бука или людоед.
Через минуту он поймал себя на том, что бормочет вслух:
— Ах да, она же берет уроки музыки!
Лурса снова подумал о Николь. Он редко слышал, как она играет на пианино, и игра ее доставляла ему мало удовольствия. Но он как-то не отдавал себе отчета, что Николь берет уроки музыки. Никогда он не задавался вопросом, любит ли она музыку, почему она выбрала себе именно эту учительницу, а не другую. Иногда он встречал на лестнице или в коридоре седовласую даму, которая почтительно ему кланялась.
Любопытно! И еще более любопытно, что забрел на улицу Алье, куда обычно не заглядывал во время своих послеобеденных вылазок, что остановился он и стоит перед витриной книжной лавки Жоржа, по-старомодному унылой и бесцветной витриной, освещенной так слабо, что издали казалось, будто магазин закрыт.
Лурса зашел в магазин и сразу же узнал старика Жоржа, который, сколько он его помнил, всегда был старый, угрюмый, злой, всегда носил фуражку, всегда был усатый, как морж, и бровастый, как Клемансо.
Книготорговец писал что-то, стоя за высокой конторкой, и поднял голову, лишь когда в глубине вытянутого в длину магазина, в том углу, где с утра до вечера горела электрическая лампочка и где выстроились на полках книги в черных коленкоровых переплетах, предназначенные для выдачи читателям, показался молодой человек, спускавшийся с лестницы.
Первые несколько шагов он сделал вполне непринужденно и был таким, каким ему и полагалось быть; похожих юношей нередко видишь в книжном или другом магазине — не особенно определенной наружности, длинношеие, чаще всего белокурые, с невыразительными чертами лица.
Вдруг он остановился. Возможно, узнал адвоката, которого ему, очевидно, показали на улице. Как знать? А возможно, видел Лурса в его собственном доме, раз...
Побледнев как мертвец, напрягшись всем телом, юноша бросал вокруг растерянные взгляды, словно искал помощи.
А Лурса вдруг заметил, что уже вошел в роль, даже свирепо вращает глазами!
— Что вы... Что вам...
И не смог докончить фразы! У мальчишки перехватило дыхание! Лурса видел, как судорожно заходил кадык над небесно-голубым галстуком.
Старик Жорж удивленно поднял голову.
— Дайте-ка мне книгу, молодой человек!
— Какую книгу, месье?
— Любую. Какая вам понравится...
— Покажите месье последние новинки! — счел необходимым вмешаться хозяин.
Мальчишка засуетился и только чудом не свалил на пол стопку книг. Он действительно был совсем мальчишка! Ему и девятнадцати не было, вернее всего, семнадцать. Худенький, как до времени выросший цыпленок. Настоящий петушок, который мнит себя солидным петухом!
Значит, это он, сидя за рулем машины...
Лурса что-то проворчал себе в усы. Он злился на себя за то, что думает обо всех этих вещах, даже за то, что интересуется ими. Почти двадцать лет он продержался молодцом и вдруг из-за какой-то дурацкой истории...
— Ладно! Давайте эту! Завертывать не стоит!
Говорил он сухим, злобным тоном.
— Сколько с меня?
— Восемнадцать франков, месье. Сейчас я вам дам обложку.
— Не стоит.
Выйдя из магазина, он сунул книжку в карман и почувствовал жажду. Он с трудом узнавал улицу Алье, а ведь в Мулэне она считалась главной. К примеру, возле лавки оружейника, которая ничуть не изменилась, вырос огромный «Магазин стандартных цен» с нестерпимо яркими фонарями, выплеснувший избыток товаров даже на тротуар, а в самом магазине на полках рядом с сырами лежали ткани и стояли патефоны.
Чуть дальше, там, где улица незаметно шла под уклон, над тремя витринами, выложенными мрамором, он прочел: «Колбасная Дайа».
Этот Дайа тоже бывал в его доме с Доссеном и всей их шайкой.
Может быть, среди тех, кто суетится у прилавка колбасной, находится сейчас и Дайа-сын? Продавщицы, все в белом, очень молоденькие, носились взад и вперед с непостижимой быстротой... Вон какой-то человек в тиковом пиджачке в полоску и в белом фартуке... Да нет же! Этому рыжеватому детине без шеи на вид лет сорок... Может быть, другой рыжий, одетый точно так же, как и первый, тот, что рубит от куска мяса котлеты?
Магазин, очевидно, процветал, и Лурса удивился, как такой небольшой городок способен поглотить столько колбасных и мясных изделий!
В каком баре, сказал Дюкуп, они встречались? Лурса не записал названия. Помнил только, что это неподалеку от рынка, и углубился в узкие улочки мрачного квартала.
«Боксинг-бар»! Именно он! Небольшое решетчатое окно украшали незатейливые занавесочки в деревенском стиле. Совсем маленькое помещение, два коричневых столика и с полдюжины стульев, высокая стойка.
В баре было пусто. Шагая тяжело, по-медвежьи, Лурса хмуро и подозрительно разглядывал фотографии артистов и боксеров, приклеенные прямо к стеклу зеркала, слишком высокие табуреты, смеситель для приготовления коктейлей.
Наконец за стойкой появился человек, словно выскочил из театрального люка, да, пожалуй, так оно и было, потому что, чтобы войти сюда из соседней комнаты, приходилось нагибаться и пролезать в узкое отверстие.
Был он в белой куртке, дожевывал что-то на ходу и, неприветливо поглядев на адвоката, прогремел, схватив салфетку:
— Что угодно?
Знал ли он Лурса? Был ли он в курсе дела? Несомненно...
Несомненно также, что это явно подозрительная личность, очевидно бывший боксер или ярмарочный борец, о чем свидетельствовал перебитый нос и какой-то чересчур плоский лоб.
— Есть у вас красное вино?
По-прежнему усердно двигая челюстями, боксер взял бутылку, поднес ее к свету, чтобы посмотреть, сколько осталось вина, и наконец с равнодушным видом налил клиенту. Вино на вкус отдавало пробкой. Лурса не завел разговора, не задал ни одного вопроса. Так он и удалился, прошел быстрым шагом мрачный квартал и вернулся домой в убийственном настроении.
Он сам не помнил, как поднялся по лестнице и очутился на втором этаже. Он зажег карманный фонарик, чтобы осветить себе путь, и тут только, почувствовав в кармане какую-то постороннюю тяжесть, сообразил, что это книга.
— Идиот! — буркнул он вслух.
Ему не терпелось как можно скорее очутиться в своем углу, запереть на ключ обитую клеенкой дверь...
На пороге кабинета он нахмурил брови и спросил:
— Что это вы здесь делаете?
Бедный комиссар Бине! Никак он не ждал подобного приема. Он испуганно поднялся, согнулся в три погибели, рассыпался в извинениях. Сюда, в кабинет, его привела Жозефина, когда еще не стемнело. И ушла, бросив на произвол судьбы, а комиссар так и остался сидеть здесь, держа на коленях шляпу, сначала в сумерках, потом в полном мраке.
— Я считал, что обязан поставить вас в известность... Особенно учитывая, что все произошло у вас в доме...
Но Лурса уже снова вступил во владение своим кабинетом, своей печуркой, своим бургундским, своими сигаретами, заполняя все своим собственным запахом.
— Ну, что вы такое обнаружили? Не угодно ли?
— Не откажусь.
Тут он явно промахнулся, потому что Лурса предложил бургундского только из вежливости и сейчас тщетно рыскал по кабинету в поисках второго стакана.
Бине поспешил заверить:
— Я только так сказал... Ради бога, не беспокойтесь...
Но для Лурса это было делом чести, он решил во что бы то ни стало отыскать стакан, хотя бы даже пришлось идти в столовую. Там он и взял стакан, налил вино чуть ли не угрожающим жестом.
— Пейте!.. Так о чем вы говорили?
— О том, что хотел поставить вас в известность. Может быть, вы будете нам полезны. Нам только что звонили из Парижа. Тот человек опознан. Это довольно опасный субъект. Некто Луи Кагален, по кличке Большой Луи. Могу прислать вам копию его дела. Родился он в департаменте Канталь, в деревне. В семнадцать лет, вернувшись с пирушки, он ударил своего хозяина заступом и чуть не убил только за то, что хозяин упрекнул его в пьянстве. Из-за этой истории он находился с семнадцати до двадцати одного года в исправительном заведении, где вел себя не самым лучшим образом, и после выхода на свободу неоднократно имел неприятности с полицией, вернее, с жандармерией, так как предпочитал подвизаться в сельской местности.
Еще один, нашедший приют под кровом Лурса! В двадцати метрах от кабинета, где Лурса чувствовал себя хозяином. И никогда ему даже в голову не приходило, что...
— Думаю, господин Дюкуп сам допросит по очереди молодых людей. Я повидался с доктором Матре, который охотно сообщил мне все нужные сведения. Он подтвердил, что как-то вечером, вернее, ночью, поскольку был уже час пополуночи, за ним зашел Эдмон Доссен и провел его в этот дом, потребовав сохранения профессиональной тайны. Большой Луи был довольно серьезно ранен, его сшибло машиной, которую угнала веселящаяся компания. Доктор приходил сюда еще трижды, и всякий раз его встречала мадемуазель Николь. Дважды с ней был вышеупомянутый Эмиль Маню...
Он уже опять был прежний равнодушный Лурса, грузный, с водянистым взглядом.
— А теперь я хочу поговорить с вами о самом главном. Как вы видели, Большой Луи, без сомнения, был убит в упор пулей из револьвера калибра шесть тридцать пять. Я нашел в комнате гильзу. Но мне не удалось обнаружить револьвер.
— Убийца унес его с собой! — сказал Лурса как о неоспоримом факте.
— Верно. Или спрятал! Все это очень неприятно.
И комиссар поднялся.
— Думаю, что мне незачем сюда больше приходить, — произнес он. — Но если вы хотите, чтобы я держал вас в курсе дела, то...
Лишь минут через пять после его ухода Лурса проговорил вслух:
— Странный субъект!
И добавил:
— В сущности, что он здесь делал? На что намекал?
Он оглядел письменный стол, печурку, початую бутылку вина, сигарету, дымившуюся на краю пепельницы, кресло, на котором сидел толстяк-комиссар, потом, словно с сожалением оторвавшись от этой привычной обстановки, открыл дверь и с глубоким вздохом пустился на поиски.
Но как только он подошел к парадной лестнице, кто-то поднялся со стула ему навстречу, кто-то, кто ждал его, очевидно, уже давно, подобно тому как комиссар полиции поджидал его в кабинете.
Лурса не сразу узнал Анжель, горничную, которую накануне прогнала Николь. Правда и то, что сейчас на ней была темная шляпка, синий английский костюм, кремовая шелковая блузка, подчеркивавшая ее мощный бюст, да к тому же еще она чудовищно размалевала себе все лицо — щеки чем-то лиловато-красным, а ресницы не то черным, не то синим.
— Соблаговолит она меня принять или нет?