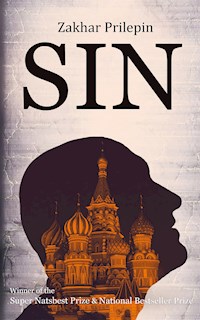9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neoclassic
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
«— …на кругу положили идти, дедко! — крикнули с лодки. — Слава Господу Иисусу! — …на Азов — прямым приступом… — сказал сам себе дед Ларион. Опершись подмышкой на посох, стал выбивать трубку, стуча по руке, как по деревянной: — …а как пошёл бы казакам свой каменный город: у самого моря. Хошь, в Кафу иди. Пожелаешь — в Царьград». Просторы Дикого поля — место, где вчерашний охотник на людей обращается в пленника. Здесь лоб в лоб встречаются противоборствующие племена и враждующие верования. Здесь в одном человеке сливаются воедино крови народов, насмерть противостоящих друг другу. …Так является на свет тума — русский метис, чьё имя однажды прозвучит во всех пределах земли и станет песней и мифом. Здесь — жизнь, вместившая несчётные воинские походы и великие любови. Здесь явлена человеческая воля, преодолевающая ад. Время действия — XVII век. Место действия — казачий Дон, Россия и её кровоточащие украйны, Крым и Соловецкий монастырь… Среди персонажей — братья Разины Степан, Иван и Фрол и отец их Тимофей, царские бояре и османские беи, будущий патриарх Никон, атаманы Войска Донского, есаулы и казаки: самые яркие люди своей эпохи. Перед вами книга, где прошлое становится явью: это больше, чем легенда, — это правда. Читатель без труда узнает каждого персонажа как своего близкого и поймёт ту жизнь как свою: здесь описаны наши предки, переживавшие те же самые страсти, что переживаем сегодня мы. …В этом эпическом, написанном на восьми языках, изумляющего масштаба романе можно запропасть, как в самых любимых книгах юности. «— Поведали, тебе был дар: конь вороной. — Пока я в темнице, можно подарить мне всех зверей земных и всех птиц небесных, — ответил Разин. — И дарящий не потратит ни рубля. Грек поднял правую руку, открыв ладонь: — Паша не обманет тебя. Ты сможешь забрать свой дар. — Я могу забрать свой дар. Потом правитель может забрать свой дар, — ответил Степан. — Господь может всё забрать, — сказал грек. — Верные слова, эфенди, — Степан склонил голову. — У казака может забрать только Господь».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Захар Прилепин Тума
© Захар Прилепин
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Глава первая
I
Раскачивало между степью и морем.
Степь была суха и черна, и душное море – черно.
Степь начиналась в колкой и душной тьме и уходила в непроходимую, твердеющую мглу. Она очужела самой себе, оттого что растеряла запахи.
В аду не пахнут травы. Там ничто не имеет вкуса.
К сохлому языку налипло измельчённое в острый песок крошево собственных зубов.
Море было близким, но шум его не накатывал, а гудел гудом, будто бы слышавший его лежал закопанным в морское дно.
Море не дышало, не грело, не холодило, не доставало до губ.
Море мутило душу.
В аду нет зренья, оттого что нет света.
Там не дотянешься ни до чего.
Там неприподъёмна самая малая мысль.
…но он всё-таки ещё был.
Промельк первой бесхвостой искорки его сознания не осветил тьмы, не вырезал в ней царапку даже с ресницу величиной.
Но в тот миг он стал заново собираться в живую плоть.
У него была голова. Она была больше и тяжелей человечьей.
Глаз у головы не было.
Голова лежала на затылке. Затылок словно бы прорастал в землю, распустив колкие корешки.
…он расслышал тяжесть своей руки. Долго собирался, вплывая в забытьё и выплывая из него. Наконец, вложив в то все свои силы, дрогнул мизинцем.
Движенье истратило все его силы, и он пропал внутри себя самого, как в глухой яме.
То, где он находился, не было могилой.
Он дышал.
Очнувшись спустя неизвестное ему время, вслушиваясь в себя, словно бы разодранного на куски и раскиданного в разные стороны, он поискал свои ноги.
Не обнаружил ни одной жилки, которая помогла б дрогнуть колену, ступне.
Ему не было страшно, потому что на страх недоставало сил.
Он не испытывал боли оттого, что весь состоял из опутавшей его муки. Мука была всей, имевшейся у него, жизнью.
У него не было имени.
Память его была бестрепетна.
Речь его рассыпа́лась, став недоступной.
Всё время была ночь и ночь, и в ночи возник голос.
Голос произнёс слова.
– Ольдюмы? (Он умер? – татарский.)
Слова долго, как перекати-поле, искали пристанища, и, наконец, достигли его сознания.
Сначала те слова лежали, как яйца в покинутом гнезде.
Затем скорлупа треснула, и он разгадал смысл.
Спрашивали о нём.
Странным образом ответ явился много позже, упав на землю, как тяжёлая капля.
– Йох. (Нет. – тат.)
Прошло ещё сколько-то времени, прежде чем раздался смех. Тем смехом, как позёмкой, прибило ещё одно слово:
– Язых! (Обидно! – тат.)
Каждое услышанное слово порождало мягкие червлёные круги в его голове.
Прошлое было таким: он – мал, и ещё не знает своего облика.
Висят нити вяленых яблок.
Он играет на полу в низкой, чисто выбеленной светлице.
Слышит на себе застывший материнский взгляд. Мать смотрит в его лицо, как вдаль – ровно и неотрывно.
Катит крохотное деревянное колесцо по всё большему кругу, стараясь приблизиться к матери, но не нарочно, а как бы случайно.
Он уверен: если взглянуть на мать, она, поправив платок, встанет и беззвучно уйдёт.
И всё равно он помнит её наизусть.
Мать белокожа и черноброва. Брови её тонкие, почти сросшиеся. Губы – не умеют улыбаться. Сочные, как маслины, широко, почти по-лягушачьи, расставленные глаза – бесстрастны.
Цепкие, по-змеиному сильные, длинные пальцы – холодны. В них недостаёт крови, и ногти на тех пальцах, как слюда, прозрачны.
Из своей укачливой мглы, недвижимый, словно сведённый длинной, во всё оставшееся тело, судорогой, он ждал её голоса.
И всё катил и катил колесо, видя край её ярких юбок, острые носки туфель, напряжённые белые пальцы на тонком колене.
Он кружился всё сильней и сильней, готовый от чрезмерных стараний завалиться матери в ноги, и тут был остановлен касанием всего лишь двух – указательного и среднего – пальцев…
…колец мать не носила…
Он онемел.
Колесо застыло.
Взмахнули юбки.
Мать вышла.
Осталось бесконечно длинное слово, или несколько сказанных материнским голосом слов, которые как-то связывали его и её.
– Харанлыгымнын ярыгы. (Свет моей тьмы. – тат.)
– Анам. Мен сенинь оглыным. (Мама. Я твой сын. – тат.)
Изнанка моря надорвалась, и на лицо полилась вода.
Вода падала больно, словно была смешана с мелким камнем.
Рот его впору было взреза́ть ножом. Преодолевая надсадную боль в затылке и в ушах, совершил жуткое усилье – и разом, со звуком рвущейся ткани, вскрыл пасть. Показалось, кусок нижней губы, надорвавшись, оказался сверху.
В кривой, кровавый рот сколками серебра сыпала, тяжело ударяя о зубы, вода. Не умея с ней совладать, выталкивал ожившим, вспуганным языком режущую тяжесть наружу.
Вода пахла рудой и никак не могла протолкнуться в горло.
Наконец, первый, случайный, с воздухом прорвавшийся глоток покатился внутрь, пробиваясь сквозь пыль и накипь.
Захлёбываясь, двигал головою. Прилипший волосами затылок заклокотал от боли. Меж глаз заметалась свиристящая мука.
Кашлял, переживая собственный кашель, как многократное паденье о камни. Искал хоть какой-то опоры, но руки вовсе не слушались его.
Не найдя, как остановить себя, покинул сознанье – и пропал.
…пробудило явственное присутствие других. Два дыханья и два молчанья.
Так просыпается зверь в норе, чувствуя, что воздух теперь разделён на троих.
Люди, находившиеся поблизости, не имели кислого духа болезни. Они были сильнее его.
Прислушиваясь, разлепил губы, словно открытый рот мог помочь слышать.
Качнул рукой, и в сей раз смог дрогнуть уже несколькими пальцами, почуяв слабую колкость соломы.
– Еси ли жэдан? (Хочешь пить? – сербский.) – тут же спросили его. – На, пий… Видиш? (На, пей… Видишь? – срб.) – произнесли чуть громче. – Ние мртав. (Он не умер. – срб.)
– …и так умрзе. З такими ранами сие нье жийом (Всё равно умрёт. С такими ранами не живут. – польский.), – ответил другой человек.
Он понимал голоса обоих.
Раскрыл губы и с необычайным стараньем сделал два, совсем малых, глотка.
Глотая, заново распознавал свою голову.
Вкус айрана ощущался только языком и одною щекой. Вторая щека была – мясная, спутанная, словно бы раздавленная копытом.
– Види, ту е ёш и ябука! (Смотри, тут ещё яблоко! – срб.) – сказал первый голос.
– Як он спойрзи? (Как он посмотрит? – пол.) – насмешливо сказал второй. – Зналажешь, гдже са його оцзы? (Найди, где его глаза? – пол.)
Помолчав, первый голос ответил:
– Збориш злэ речи! (Злые речи твои! – срб.)
…почувствовал на губах крохотный мякиш яблока.
Разомкнул кровоточащие губы. Мякиш коснулся зубов. Поймал мякиш и придавил языком к щеке.
Голова саднила, будто все её кости были раздавлены как скорлупа.
Проглотить мякиш яблока он не сумел.
– Ёш? (Ещё? – срб.) – спросили его.
Он выдохнул:
– Ни.
…засыпал и просыпался, словно бы одна волна уносила его от берега, а вторая – негаданно возвращала.
Сон становился чутким, как в лесу.
Сквозь сон услышал взгляд.
– Ко си ти? (Ты кто? – срб.) – спросил знакомый уже человек, присаживаясь с ним рядом.
В голове его, тихо закипая, толкалась кровь. Он не ведал ответа.
На него наплывала огромная туча, преисполненная назревающим, как роды, ливнем.
Пытаясь миновать тучу, он погонял коня, забирая в сторону.
Туча не была столь же быстра, как его конь. Но она словно бы катилась вниз – и то придавало ей страшную скорость.
…прошлое настигало его.
В миг, когда туча сравнялась с ним, средь разорванных всполохов молний начали метаться несчётные, забытые им люди. Их сшибало дождём и сносило яростной водой. Карогод грохотал и пенился.
Слово, отмыкающее память, возникло у него на языке, как прикипевшая золотая монета. Он еле приподнял его.
Слово то было: «Спасе».
II
Отец говорил: если боль повсюду – не пробуй её победить. Заберись внутрь своей муки и лежи в ней, как в утробе.
Он пребывал внутри страдания, словно в своей матери.
Ему предстояло рождение, и оно не пугало его.
Он уже обретал однажды имя и речь.
Первое явление отца было – возвращенье.
Отца даровала благословенная, в солнечных всполохах, река.
Сначала по воде доносились дальние, звонкие, грубые голоса.
Трещали коростели, свистели кулики – всё вокруг трепетало радостью.
Над стенами их городка проносились ласточки.
На стене стоял опушённый солнцем пушкарь с зажжённым фитилём.
Белую, маслянистую воду рассекали осиянные солнцем струги.
Тяжело грянул пушечный выстрел – и звук тот длился, словно ядро, намотав на себя сияющую рвань и оборки облаков, всё неслось и неслось, набирая силу.
На другом берегу взлетели аисты.
Затрезвонил торопливый, как сыновье сердце, колокол.
Вперебой, будто голодная скотина, заревели трубы с валов.
Стоящие рядом закричали. Другие уже плакали. Третьи, шепча, молились.
Струги были преисполнены тяжестью.
Вёсла рушились о воду и сгибались в натяге.
Корявые, как коряги, с лицами бронзового литья люди на стругах казались неотличимыми друг от друга.
Несколько из них размахивали шапками.
…бывший здесь же, он заполошно пугался, что не призна́ет отца.
И тут же увидел его: с яростными глазами на выгоревшем, исхудавшем лице, отец спрыгнул со струга в реку.
Шагал, преодолевая теченье, к берегу: в жёлтых сапогах, в невиданном кожаном кафтане с железными пуговицами и срезанными рукавами, покрытом многодневным налётом соли. Шапка – волчья, задранная на затылок.
Когда выходил на сушу – сапоги, отекая водой, сияли и серебрились.
…он не видел и не слышал никого, кроме отца.
Солнца будто бы стало многократно больше: как птица о многих крылах, металось оно меж стругов и людей, идущих сквозь воды. Каждое весло лило золото.
Отец тут же насыпал сыну – из своей, кажущейся железной, из чёрной и пахнущей порохом ладони – в раскрытый рот, как галчонку, – сладостей. Хрустя леденцами, развернулся, – и увидел трепещущие горем глаза такого же ребёнка, не встретившего никого.
…не зная зачем, сплюнул леденцы в руку.
Нёс их, сжимая.
Возле настежь раскрытых ворот городка пальцев было не разлепить.
…теперь он расслышал запахи.
Пахло – человечьим смрадом, подгнившим сеном, каменной сыростью, плесенью, земляным полом, мышами, дымом.
Ещё – кровью и гноем; то были его кровь и его гной.
Он лежал в собственной мерзости, изгнивая.
…порой доносился кислый дух тёплой овощной похлёбки. Щекотал ноздри вкус вяленой рыбы. Запах лепёшки будил язык, разгонявший набегающую кровяную слюну.
…когда гремела дверь и входили иные люди, оставался запах масляной лампы и гвоздичных леденцов.
…где-то высоко был проём, откуда, вместе с прохладой ночи, мягко наплывал запах конюшни, разросшегося яблочного, грушевого, сливового, вишнёвого, черешневого сада, роз.
…в небе стонал ночной ворон. Резали воздух нетопыри.
Ржали лошади. Позвякивали уздечки.
Грохот колёс давал понять, что здание окружает каменный двор.
Двор закрывался на тяжёлые, в железных листах, ворота.
У ворот стояли люди, невнятно переговариваясь.
Иногда подзывали, иногда гнали собаку.
Вдруг вскрикивал, будто падая или перелетая с места на место, муэдзин.
Тот крик означал: его выдрали из прошлого, как из грядки.
Он больше не владел своей жизнью.
Будущее его, как плод, лежало в чужой руке.
…явилось в памяти: отправились на ту сторону реки – он и отец.
Отец правил каюком.
От жары река казалась оглушённой и медленной.
Он был совсем мал.
Степь трудно дышала, стрекоча несчётными голосами насекомых.
Солнце цедило медленный чад.
Переползая средь жарких трав за жуками и ящерками, потерял отца.
Заигравшись, сполз в балку, слыша надрывный одинокий птичий крик над головой.
Ухватился руками за колючее будыльё. Увидел перед собой человечий череп. Внутри черепа таилось гнездо. Там, раскрывая клювы, копошились птенцы.
Сердце ещё колотилось, но он уже зачарованно разглядывал птиц.
Сверху по траве скатился отец.
Прилёг на локоть возле.
– По птичьему гомону нашёл… – прошептал о проносящейся над их головами птице. – Мать волнуется…
Просоленным, кривым пальцем отец провёл по рубленой ране, раскроившей череп.
Птенцы, вытягивая хрупкие шейки, разом сбились в кучу, словно на них подул резкий ветер.
Птица пролетела совсем близко над головами отца и сына.
– Знались, поди… – сказал отец. – …а безглазого… не угадываю.
– Имам крпу. Дай да ти обришем лице, врат? Я чу само овлаш… (У меня есть ветошь. Давай я протру тебе лицо, шею? Я едва-едва… – срб.) – сказал знакомый уже голос.
– Обмыешь го, кеды он умже! (Обмоешь его, когда он умрёт! – пол.) – сказал второй.
– Еси ли ти крштэн? (Крест есть на тебе? – срб.)
– Естэм. Для тэго мушэ мувичь неправдэ? (Есть. Поэтому я должен говорить неправду? – пол.)
Говорившие подле него, судя по голосам, были тех же лет, что и он.
Они не казались стеснёнными в движениях, но никогда не уходили отсюда.
У них не имелось никакого оружия, даже ножей.
Все они оставались внутри больших каменных стен.
То была темница.
…влажная ветошь коснулась его лица.
Ему отирали лоб, висок, бровь.
Другая половина лица саднила, будто туда насыпали угли.
Макова его была теперь велика и смята.
Он уже догадывался, в какое уродище обратился.
По щеке отекала вода.
Он услышал, как треснула и тихо посыпалась кровавая корка, скрывавшая его глаз.
Под мягкими движениями, стирающими зачерствелую грязь, затрепетали, оживая, ресницы.
– Нэ хитай. Очна дупля ти е била скроз црна. Мислио сам да нэмаш око. Мислио сам да нэмаш ниедно око. Али изглэда да сам се преварио. Сад… (Не спеши. Глазница была совсем чёрной. Думал, у тебя нет глаза. Думал, нет ни одного глаза. Кажется, я был не прав. Сейчас… – срб.)
Тот, кто ухаживал за ним, сдерживал дыхание и очень старался.
– Покушай (Попробуй. – срб.), – попросил он.
Не дыша, помогая себе натугою лба, попытался открыть глаз.
– Сачекай (Подожди. – срб.), – попросили его.
Глазницу снова протёрли, но уже не ветошью, а двумя, затем, уверенно давя, уже тремя пальцами. Затем, очень бережно, краем ладони.
– Ёш едном? (Ещё раз? – срб.)
Лицо отца пропылилось настолько, что его было не отмыть никаким кипятком. Пыль вкипела в кожу так, что всякая малая морщинка на отцовском лице была приметна. Он был будто бы покрыт нестираемой паутиной.
Борода отца была серой, цветом в шкуру волка, но жёстче на ощупь.
На вид отец всегда казался старше, чем на самом деле. Зато он не менялся, проживая лето за летом будто в одних годах.
Белокожая, с прямым лицом мать не имела ни одной морщинки. Мнилось, что она совсем юна: настолько, что и не могла б оказаться матерью своих чад.
Натруженные её пальцы тоже оставались белы.
Когда, собрав пальцы в щепоть, она солила пищу, пальцы её раскрывались, как цветок. Казалось, что цветок тот – солёный.
Зрачки у матери, когда ей случалось сердиться, сужались до кошачьей остроты. У отца же в бешенстве зрачки – расползались, становясь, как у зверя, чёрными.
Кожа на скулах натягивалась, морщины заострялись. Отец задирал голову, будто задыхаясь. Показывался такой огромный кадык, как если бы отец заглотил рака. Серая борода дыбилась.
Мать страшилась отцовского гнева – хотя не пугалась ни грома, ни змей, ни ночного броженья неотпетых мёртвых на другой стороне их реки.
Когда отец гневался, мать обретала дар исчезать.
В дни обычные – отец и мать не разговаривали. Они будто не знали языка друг друга.
А он знал язык и отца, и матери.
…наконец, он открыл совсем малую, с конский волос, щёлочку глаза.
Его будто бы поцеловали в самое сердце.
Сквозь полутьму, наискосок, струился полный пыли солнечный луч.
Он смотрел и смотрел: словно пил воду.
В луче ниспадали и тут же, как тронутые незримым теченьем, возносились вверх пылинки. Невозможно было наглядеться.
…успокоившись, повёл зрачком в сторону от света, где ничего ещё не было различимым.
Тьма вокруг была столь же густа, как внутри него.
Его спугнул тихий смех, раздававшийся где-то рядом.
– Видиш? Ти видиш?
…и здесь он узрел человечий лик.
В первый миг смеющийся человек показался страшным, старым. Из бороды и волос его торчала ячменная солома.
…сожмурил прозревший глаз, пережидая.
Вдохнул, выдохнул, попытался открыть глаз шире.
Теперь человек напротив показался молодым.
У него были впалые щёки и жалостливые глаза. Длинные морщины разделяли его, как порезанное яблоко.
Человек выглядел то ли смеющимся, то ли плачущим.
Неожиданно для себя самого он рывком согнул левую руку.
Скосился на свои растопыренные, чёрные, мелко дрожащие пальцы.
– Вижу… – выдохнул, наконец.
…в ладони насохла застаревшая кровь.
Попробовал сжать кулак, но не справился, уронил руку на сено.
…зажмурившись, переждал.
Бережно открыв глаз, чуть склонил голову – и разглядел разодранную на груди рубаху. Кожа на груди посинела. В самой средине груди, под кожей, начал как бы расти рог.
…собрав все силы свои, подтянул руку и потрогал одеревеневшими пальцами тот рог. Стенало всё тело, но рог не болел вовсе.
– Лакшэ!.. (Бережнее!.. – срб.) – попросил его человек с глубокими морщинами. – Сломлено ти е овде: прса. Вероватно и овде: твоя друга рука. И ноге су ти сломленэ. Тукли су те и по глави. Требало е да умрэш од тих батина. Али ти си одлэжао едан дан, ноч и дан, и освестио се. Треба те окупати и превити. (У тебя сломано здесь: грудь. И, наверное, здесь: другая твоя рука. И твои ноги сломаны. И в твою голову били. От таких ударов ты должен был умереть. Но ты пролежал день, ночь и день, и очнулся. Тебя надо отмыть и перевязать. – срб.)
– Ты сербин? – спросил он. – Серб?
– Есам! (Да! – срб.)
Серб огладил бороду, улыбаясь.
– Московит? – спросил серб. – Казак?.. Како ти йэ имэ? (Как тебя зовут? – срб.)
Он не смог бы рассказать сразу обо всём – и выбрал последнее.
– Степан, – ответил он.
– Сте́ван? – переспросил серб и засмеялся.
– Степан, – повторил он.
На единственный глаз, неотвязчивая, наплывала слеза.
Едва касаясь пальцем, он ловил и высушивал её. Долго щурился, играя веком. Бережно раздирал всё ещё слипшиеся ресницы.
Давая глазу отдых, слепо трогал себя неполоманной рукой, вспоминая своё тело.
Настойчиво тягая левой рукой за штанину, будто бы разбудил одну ногу, – и она отозвалась в ступне, в колене, в пальцах.
Другая же, в ответ на самый малый переполох, змеиным рывком кусала так, что всполошённая боль достигала переносицы, ушей, отдавалась в заглазьях.
Двигая ожившей ногою, цепляясь за земляные полы, сумел сдвинуться, завалить себя на бок.
Так увидел проём у потолков, откуда падал свет.
Окошко было не зарешечено – в него едва ли б смогло пробраться и дитя.
Попытался присесть, но тело не поддалось. Внутри будто обломились заглавные подпоры.
– Эй, – позвал он. – Как тебя?
– Сте́ван.
– Я Степан, так.
– Я! Стеван! Стево! То ми е имэ!
Серб мягко тронул кулаком свою грудь.
Степан посмотрел на серба единственным зрячим глазом сквозь опять набежавшую слезу.
Серб, улыбаясь, пожал плечами.
Плечи у него были гибкие, как у птицы. Серб всё время потягивался, словно бы готовясь расправить крылья.
– Поднеси мне лохань, – сказал Степан.
Лохань была невелика, но Степан смотрел на неё, как на гору, ставшую посреди пути.
– …да ти помогнэм? (…я помогу? – срб.) – спросил серб.
– Нет, – сказал Степан. – Уйди.
…он и не помнил, чтоб чем-нибудь занимался так долго.
Нагребал сена под спину. Выворачивался, сжав зубы и топорща в муке глаз; другой же метался в своей тьме. Рвался наружу рёв.
В голове, как в братине, туда-сюда переливалась, пылая, жижа.
Был себе и смешон, и постыл, и мерзок.
Тонкая, настырная струйка крови – из-под содранной присохлой раны на голове – заливала глазницу, щекотала губы, горчила на языке.
…ослушавшийся его серб притащил, кинул подле Степана охапку сена. Отступил назад на шаг, намереваясь уйти, – но едва Степан зажмурился, ловко подоткнул ему сено под спину, и тут же, с усилием, впихнул под него лохань.
…спустя время свалился с лохани на бок – как после адовой работы.
Закатил глаза, накрыв ладонью странно, почти как у ребёнка, уменьшившееся своё мужское естество.
До самого локтя рука была сыра. Весь погано пах.
…тут же, осчастливленный, заснул.
Стыда не было никакого.
III
В степи каждому своя обида казалась первой, и ответ на неё – праведным.
С тех пор как Степан научился запоминать лица и различать голоса, он понял, что знает мёртвых казаков больше, чем живых.
Когда смерть всегда подле, за правотой далеко ходить не надо. Скоротечность жизни была оправданием сама по себе.
Малая часть мёртвых ложилась на станичном кладбище. Остальные пропадали в степи и в море.
Ещё не видев моря, Степан знал, что оно солёно. Смерть и соль с малых лет были для разума его – родственны на вкус.
Иногда, совсем редко, умершие возвращались, принося с того света клейма на лбу. Ноги их гноились кандальными следами.
Тогда сбирались все казаки и слушали их рассказы многократно.
Умыкнувшиеся из ада помнили всех терзавших их чертей в лицо. Ад успевал подъесть у них куски тел, уши, персты, а порой – выкусывал язык, и тогда они объяснялись мычаньем.
От остальных, так и не вернувшихся мёртвых оставались имена и прозванья: как змеиная кожа, ещё вчера полная гибким телом – а сегодня: тронь, и рассыпалась.
Те же самые имена доставались другим казакам; они носили их весело; чаще всего недолго.
Смерть была наседкой казака: высиживала его, а потом клевала, не слишком глядя, куда попадёт.
Степан, как все казаки, верил в Господа Бога Иисуса Христа, в заговор от пули, в русалок, заманивающих казаков, в святую воду Татьяну и в землю Ульяну, в сглаз и в приворот; знал, что нельзя давить кузнечиков – по-казачьи, сигалей, – потому что среди них есть божий путеводитель.
Отца звали – Тимофей.
Сыновей было два. Старший брат – Иван – родился за год до Степана.
Мать их Тимофей добыл в морском походе – на поисках, как говорили казаки.
О своём прошлом мать вслух не вспоминала и прежних песен не пела.
Огород, в отличие от других казачек, не высаживала, а лук, капусту и горох закупала на базаре. Тимофей отсчитывал матери раз на какой-то срок по три алтына, и она никогда не просила ещё.
Ходила в опрятном, простом женском платье, в длиннополом бешмете, платок повязывала на самые брови: прошелестит мимо – и лишь поджатый рот заметишь.
Степан видел открытое лицо матери считаные разы, всякий раз случайно, и всякий раз поражался её красе. Прямой, сияющий лоб её – и бархатная сутемень волос. Таких чёрных грив не было даже у тонконогих лошадей с персидских земель.
Женские украшения, что доставались отцу по дувану, она прятала – не столько от стороннего глаза или сыновьих забав, а от себя, чтоб не видеть.
Казачки любили турскую и татарскую бабью одежду, она – нет.
Иные казачки белили даже белые лица белилами, мазали губы в красный, морковный; мать же не творила над собой ничего такого.
Стирать на Дону или в протоках старалась одна.
Степан любил приглядывать, как она разбирает улов. Вонзив нож в горбинку у хвоста, махом взрезала трепетавшую рыбу. Тут же, отложив нож, другим махом вычищала утробу и, не глядя, скидывала рыбьи кишки в помойную лохань, стоявшую возле.
На руках её не оставалось порезов. Мнилось: если б порез случился – кровь бы не потекла.
Сказки сыновьям мать рассказывала нечасто – и на своём языке.
Поначалу Степан не понимал ничего, но торопился рассудком за переливами голоса: то пугающими, то мурчащими, – и воображал своё.
Старшего сына Ивана привечала чаще, но и его не ласкала – только могла, проходя мимо, почти не доставая пальцами, тронуть волосы, словно осеняя.
Если мать бывала зла, совсем малый Иван, завидев её суженные кошачьи зрачки, потешно раздуваясь, шипел на неё. Ему, верно, казалось, что мать лучше разумеет кошачий язык, и тем шипом он отпугнёт её, избежав порки.
Иван походил на крымскую или турскую родню матери. Степан – на отцовскую воронежскую: бабку Анюту и покойного деда Исайю. Сам он их никогда не видел, но так сказал отец.
Иногда мать молчала день за днём всю седмицу, и Степан верил, что мать онемела.
Трогал мать лишь интерес Степана к её прежней речи, и, говоря сыну, как раньше она называла коня, или своего родителя, или седло, или саблю, или солнце, или гуся, она будто бы возвращала своим воспоминаниям осязаемость.
– Ат, – говорила она, словно обретшая человечий язык птица. – Педер. Эйер. Кылич. Гунез. Каз.
…потом смолкала и отдалялась. Переставала отвечать Степану, словно обворованная.
И всё равно к шести годам он обучился не только называть зримое и на турском, и по-татарски, но и мыслить. Когда однажды рассмешил мать на её языке, она порывисто расцеловала его в лоб.
Чувствовал тот поцелуй ещё с час.
Называя всё, что видел, сначала на русский лад, а потом на материнский, – Степан вглядывался, как поведёт себя вещь: не изменит ли цвет или запах, не откажется ли повиноваться.
Но на всяком языке вещь оставалась сама собой.
Памятуя о деде, живущем в чужой земле, Степан порой поёживался, гадая – а как там у них всё уложено: не спутаны ли тьма и свет, смерть и жизнь, верх и низ?
…а вдруг ему придётся однажды раздуванить дедов дом и сгубить, не угадав в лицо, тех, кто дал свою кровь его матери?..
Потом поп Куприян сказал ему: вся его родня – здесь. Кто живёт без Христа – в родню не годится и для Бога бессмыслен.
Мать к черкасской часовне ходила одна, подгадывая свой приход в частые похороны: чтоб ни попа, ни дьячка в часовне не оказалось.
Смаличка Иван со Степаном ездили со взрослыми казаками на покосы.
Приглядывали за скотом, за иными, совсем малыми казачатами – те часто терялись в зарослях пырья, муравы, бурунчука.
Если в траву заходил бугай – мрели рога, а самого бугая было не углядеть.
Ворочали с братом длинными, не по росту, граблями пахучую скошенную траву. Сбивали стожки. Уложив те стожки на повозки, катили к своему, крытому чаканом, куреню.
Труды и промыслы вершили казаки с большим береженьем: с покоса, с рыбалки, с охоты людей воровали ногаи – и те пропадали навек.
Низовые казаки не владели степью, а жили на островках посреди реки, врывшись в мягкую землю.
В беспредельной степи чувствовали себя как звери.
В зиму полынили у станицы лёд – пробивая полыньи в три человечьих роста длиною, – чтоб не дать поганым, если объявятся, с разбега кинуться на городок.
Из ледяных глыб возводили завалы у стен. Отцы, детки, бабы – сообща городились от смерти.
Заботы те были сначала ознобными, а затем – потными, весёлыми.
Степан помнил, как, разгорячившись и подустав, лёг у полыньи и, прежде чем напиться, углядел своё раскачивающееся в чёрной, ледяной воде лицо. И тут же, в глубине, промельк серебряного хвоста… русалка?
…преодолев страх, ждал её, улыбался такому везенью.
Вода сначала кривила его улыбку, а потом стихла.
На затылок сыпал лёгкий снег. Со лба скатилась капля пота: пока ползла – была горяча, отпала – пристылой, а в реку капнула уже ледяной.
В курене иной раз нароком мешался отцу под ногами.
Отец едва касался его: чуть прихватывая за плечо или за шею, и тут же отпуская.
Если малолетний Степан попадался поперёк пути снова, Тимофей коротко, не матерно, бранился: матерная брань могла обратить казачка в нечистый дух.
Отец имел привычку говорить обрывистыми словами или их ломаными сочетаниями, смысла которых Степан сразу не мог разгадать.
– Сербит у тя? – спрашивал негромко, как бы и не у Степана.
Сербить значило: чесаться.
Казаки имели за правило не бить детей, но ставили в угол на соль и горох.
Ивашку наказывали чаще: он рос, как кудри его, непокорным и опрокудливым.
Куда бы Тимофей ни отъезжал, мать провожала его без слезы.
Когда отца не бывало подолгу, она оттаивала и становилась гуторливей, но говорила только на прежних своих наречиях.
Иван всё равно норовил отвечать по-русски, хотя Степан ведал о том, что и брат выучился понимать прошлую материнскую речь.
Так они и сообщались, как разные птицы на свой лад. Мать не сердилась на Ивана, и даже могла засмеяться – притом угадать, что́ показалось ей потешным, не получалось.
Встретив отца, она снова стихала.
Не сразу понимавший, как объяснить такую её повадку, Степан переспрашивал у матери на её языке за любое дело: убрать ли рыбу в ледник, можно ли собрать куриные яйца – несушки опять несутся где ни попадя, «…а как по-турски будет…», – тут однажды явился отец и произнёс куда больше слов подряд, чем все попривыкли.
– Опять… на её поганом языке… балякал? – спросил он у Степана, подходя в упор, но тот не сдвинулся с места; отец, вроде бы готовый столкнуть его с пути, вдруг раздумал и развернулся к матери. – Турчака растишь мне, косоглазая? Я те змеиные брови-то пополам… разрублю…
Лицо отцовское было тёсано сильными махами: нос, рот, лоб. Все углы виднелись чётко: бровь поднимал – и возникал угол, сжимал челюсть – и скула давала другой угол. Глаза – твёрдые, сухие, серые.
Отца при рождении Господь определил в казаки. Тимофей догадался о своей доле – и следовал ей как наказу.
Будучи казаком безусловным, отличался от иных собратьев многим.
Почти всякий казак врал развесисто и безбожно. Нехитрая лжа украшала казачий поход смерти в рот.
Отец же не врал вовсе, будто у него отсутствовало нехитрое умение к выдумке; так иные не могут плясать.
Тимофей умел слушать, но прислушивался не столько к словам других казаков, сколько к тому, что́ кружится над сказанным.
Если ж молчаливый отец говорил – слушали его.
Тимофей, как все казаки, пил хмельное, как все, становился шумным, когда пьян, – даже не в словах, а в движениях, – но ни разу так и не пропился до портов и креста, и не любил быть вдрызг дурным по много дней или недель кряду.
Он не казался слишком приветливым, не зазывал побратимов до куреня, – но, на удивление, многие казаки всё равно шли к нему.
Иван поделился однажды с братом: батька молчит – как говорит. То было правдой.
Отец не любил казачьих прибауток и дурачеств, однако сказанное им слово часто бывало занозистым и репеистым. Над словом его нельзя было сразу потешиться, но внутри оно несло самую суть – как желток в белке.
Сам он, в отличие от вечно ищущих повод пореготать казаков, смеялся редко и коротко.
Веселило отца то, что вроде поначалу и не казалось забавным, но вдруг обращалось в таковое: едва начавшаяся и ещё не различимая оплошность соседского казака, или повадки скота и птицы, в которых отец умел разглядеть и разум, и наглость, и похвальбу.
Всё впроброс сказанное им однажды – не забывалось сынами его: на покосе ли, на гульбе ли, на реке, – и в тот раз, когда отец впервые вложил в руки Степану завесную пищаль и велел:
– Стрель… в тот арбуз… а то он дражнится… Не топорщь локоть… раскрылился.
Видя, как отец ловко обращается с любым оружием, Степан спросил однажды:
– Тять, а тебя кто выучил? Дед Исайя?
Отец помолчал – и ответил отрывисто, словно недовольный:
– Матерня родня… выучила…
IV
Очнулся в ночи, вдруг отчётливо расслышав голос стражника, сидевшего возле самой двери:
– Анам хаста. Анам тёшекте ята. Хардашларымдан бириси ярдыма кельмей. Амма биз эпимиз онын балалары, ялыныз мен дегилим. (Мать болеет. Мать лежит. Ни один брат не хочет помогать. А мы ведь все её дети, не я один. – тат.)
Ответа не прозвучало.
Стражник замолчал.
Вокруг стояла плотная, как вода на дне, тишь.
Битое тело его оставалось посреди вездесущей боли, как одинокое дерево в ледяное половодье. Знобило плоть, точило душу под самое основанье.
Он упрямо чуждался своей боли, как не к нему пришедшей.
Ненарочно, без усилия, понял о себе так: буду, пока я есть, а дальше – рассудят без меня. Смерть не явилась, и, бог весть, может, впереди ещё многие, как курлыкающие стаи, дни.
Медленно вдохнув во всю грудь, открыл прозревший глаз – и тут же ощутил, как дрогнуло веко второго.
…может, и тот, ежели откроется, прозреет?..
Вглядываясь, опознал, где под потолком оконце: тьма вокруг была мутно-чёрной, а там – почти синей.
Исхитрился рассмотреть одну, еле различимую, звезду. Звезда стояла ровно посреди окна, но натекающая слеза всё словно бы сдвигала звезду в сторону. Та скользила по небу, как по льду, слабо мигая.
Насухо протерев глаз, уставился в ставшую, наконец, на место своё звезду, и смотрел, смотрел, пока не заныло веко.
«Господи, смилуйся», – повторял без истовости, глядя в синий свет.
Серб и второй, лях, спали где-то поодаль.
Прислушиваясь, различал их дыхание.
В темнице могла б уместиться и дюжина полоняников.
Их, троих, держали здесь потому, что пока не собирались продавать.
Переломанный – кому он был нужен? Однако ж его не порешили сразу, не кинули в яму, – и в том таилась своя надежда.
Она согревала сердце.
До сих пор отчаянье не постигло его.
Он готов был улыбнуться тому, что по-прежнему дышит.
…и здесь осознал, что ему снова надо на лохань.
Повернулся набок, горько уверенный в том, что серб убрал поганое корыто в дальний угол, где оно и стояло. Успел огорчиться, что придётся его будить, звать, – и тут же рассмотрел в тёмно-синем свете: лохань здесь же, причём опустошённая. И рядом – он дотянулся рукой и убедился – кувшин с водой.
Преодолевая боль, зацепил кувшин своим одеревенелым пальцем, подтянул, стараясь не обронить, и, завалившись на спину, отпил.
…теперь надо было найти стену, чтоб опереться, чтоб суметь…
Долго ворочался, изнывая от муки, сопровождавшей всякое его шевеление.
Переломанная нога вгрызалась в него, как зверь.
Голова колокольно гудела.
Ныли поломанные рёбра и отбитые кишки.
Плоть отчаянно противилась ему.
…кусая раскровавившиеся, тонкокожие и шероховатые, как померанец, губы, всё-таки засунул лохань под себя.
…и потом, отирая себя соломой, ощущал себя победившим в схватке, где и святые отчаялись спасти его.
Лежал в приспущенных шароварах, согревшийся от усталости.
Видел в свете звезды ступни ног.
Одна нога лежала чужой, недвижимой. Штанину вздымала поломанная кость. Скоро та рана начнёт гнить.
На второй ноге весело, как скоморохи, шевелились пальцы.
…открыл глаза, а серб уже сидел подле, предовольный.
Солнце светило ему в затылок, и были видны на просвет распушившиеся, рано поседевшие волосы и соломины в них.
– Довешче ти видара (Лекаря приведут. – срб.), – серб часто моргал, будто переспрашивая: понимаешь ли? слышишь ли? – Мислили су да чеш издахнути – и дигли су руке. Али ускоро че ти дочи видар. Грк, добар видар. А слуга му е од Молдаваца, добар слуга. (Думали: ты умрёшь – и всё не вели. Но скоро лекарь явится к тебе. Грек – добрый лекарь. И служка его из молдаван, добрый служка. – срб.)
Степан, как зверь, задирая нос, принюхался: пахло съестным.
– Ево, еди, мораш да едэш (Вот, ешь, нужно есть… – срб.), – серб сунул ему в руку кусок лепёшки.
Встрепенувшись, вскочил – с ног посыпалось сено – и поспешил к тяжёлой двери. Уперевшись ладонями, потряс ей, и тут же, прижав лицо к самому косяку, скороговоркой, на дурном турском языке, затараторил.
Ему нехотя, растягивая слова, отвечали, как отвечают, изготавливаясь вдруг заорать, – но серб не пугался, и продолжал твердить своё.
Недолго спустя загрохотала цепь с той стороны. Сербу сунули в руки плошку.
Степан по крошке втягивал на язык данный ему хлеб, но успел разглядеть: дверь – в четыре доски, с железным засовом. Открывалась наружу. Значит, той дверью можно ударить стражника в лоб.
…в плошке, принесённой сербом, лежали две неочищенные луковицы и холодное баранье ребро.
Запахло так, что у Степана перехватило дыханье.
…серб сидел подле, ломая луковицу на малые кусочки и подкладывая их в плошку, лежащую на груди Степана.
Луковичные крохи Степан клал себе на язык. Спихивал на зубы. Давил из них сок, мешавшийся с размокшей во рту лепёшкой и лепестками мяса.
…снова положив ребро на губы, неспешно рассасывал его, придерживая неумелой ещё рукой.
В груди растекалась тишайшая благость.
– Азов? – Степан медленно кивнул в сторону окошка. – Аздак?
– Како? (Как? – срб.) – переспросил, задирая тонкие брови, серб, и глубокие морщины на его лице тоже ушли вверх – А!.. Тако. Град Азак. Био си овде? (А!.. Так. Азак-город. Ты был здесь? – срб.)
Степан задрал край плошки, глядя, сколько ещё осталось луковичного крошева. Ничего не ответил.
Серба молчанье Степана нисколько не обидело.
…он ещё обсасывал совсем уже белую кость, когда вошёл лекарь: ссутуленный, в широкополой шляпе, грек. Чёрные его глаза смотрели устало и блёкло.
Сразу поднявшийся Стеван, часто кланяясь, уступил ему место.
Не глянув на серба, грек присел.
Тут же, торопясь, с коробом на боку явился его молодой, смуглый служка, по виду – из молдаван. Худощавый, с тёмной, в сливовый цвет щетиной.
В коробе лежали, топорщась в стороны, пучки трав, перезвякивали многочисленные склянки с мазями и отварами. Запах от короба шёл настолько сильный, что перебивал здешний смрад.
Серб, ничем не смущаясь, всё стоял за спиной у грека, то заглядывая в короб молдаванина, то, повеселев, кивая Степану: тебя поправят, казак!
Грек, не оглядываясь, показал сербу рукой: уйди, от тебя тень.
Кисти его были тёмными, с поношенной, дряблой кожей, а ногти – длинными.
Немилосердно он мял голову, шею, грудь, бока Степану. Кривил губы, ломая их не надвое, а натрое, как волну.
Не оглядываясь, махнул рукой служке. Тот достал нож.
На Степане разрезали рубаху и шаровары. Он стал наг.
Вонючую рвань его грек брезгливо отбросил ногой.
Тело Степана было покрыто многими ссадинами. Из многочисленных ран на ногах и на боку подтекало. Где-то кожа синела, где-то подтёки оказались тёмными до черноты. Надрывно белела вылезшая из плоти кость сломанной ноги. Топорщилась кость грудины.
Он был как ящерица, которую переехало колесо.
…принесли и воткнули над изголовьем Степана смоляной факел.
Подивился, сколь гадок он при лохмато трепещущем пламени.
Молдаванин напоил из кружки горьким отваром.
Завалили на бок.
Сырой тряпкой молдаванин отёр ему голову, грудь, спину, зад, ноги.
Долго смазывали драные раны и синяки.
Он понимал каждое слово, что бросал лекарь служке:
– Липос хинас… холи… охи афти… нэ… (Гусиное сало… желчь… не ту… – греческий.)
…обстригли грязные, слипшиеся волосы на голове.
Затем грек долго, порой касаясь щеки и лба Степана длинным усом, мял ему виски, темя, затылок.
…дали в зубы жгут.
– Ми м’энохлис… (Не мешай… – греч.) – сказал грек, всё так же не глядя на Степана. – Мэ каталавэнис? (Понимаешь меня? – греч.)
Молдаванин упёрся Степану в плечи, нависнув над ним.
Грек, помяв недвижимую Степанову руку, вдруг вправил её одним рывком. Молдаванин, озирая стену перед собой, жевал и улыбался.
Степан глядел ему в подбородок, в ленивой истоме заметив: нет гайтана на шее.
«…оттого, что побасурманился малый», – ответил сам себе.
…теперь грек, сделав разрез на сломанной ноге, лазил внутри плоти тонкими пальцами.
Серб, вставший с другой стороны, хмурился и, вздымая брови, ошарашенно вглядывался в Степана.
Подолгу сдерживая дыхание, Степан выдыхал через нос. Время от времени сильно жмурился.
Грек прогонял его боль. Происходившую с ним муку Степан считал наказаньем не себе, а самой боли, которую травили, как зверя.
Наконец, поняв, как собрать перелом, и враз обильно вспотев, грек поставил кость на место.
…липкий от духоты молдаванин вглядывался в Степана: в сознании ли тот…
Степан сплюнул жгут и терпел так.
На сломанной ноге сделали перевязку – мягкая, пока заматывали ногу, она тут же каменела.
Следом ловко поставили крепёж: две струганные крепкие палки, жёстко связанные тонкой бечевой.
…закрыв глаза, грек, стоя, с минуту отдыхал.
Снял шляпу – и, не желая бросать её на сено, надел на тут же приклонившего голову простоволосого молдаванина.
Грек оказался лысым: волосы росли только за ушами и на затылке. Лысина его была как бы в чёрной крупе. На макушке росли несколько длинных волос.
Степана усадили.
Будто кукле, грек впихнул ему в зубы несколько зёрен. Ещё полгорсти пересыпал Степану в ладонь.
То был гашиш.
Не дожидаясь, когда невольник начнёт жевать, грек принял от молдаванина иглу и, заметно уставший, начал зашивать разбитую голову Степана, шумно дыша через нос.
Перемазав снадобьями, голову крепко перевязали.
Затем грек зашил ему бок, плечо, живот, бедро.
Торчащие нитки посыпа́ли едкой мукой.
Сняв с молдаванина шляпу, грек обмахнул себя ей несколько раз и вернул себе на голову.
– Ферте то афепсима! (Принеси отвар! – греч.) – велел служке.
…молдаванин вернулся с кувшином и поставил Степану на грудь.
Степан расслышал запах – и сразу же, уперевшись на локоть, пригубил.
– О Тэос на сэ филай, калэ му Эллина! (Спаси тебя Господь, добрый грек! – греч.) – сказал, облизываясь.
…грек уже выходил и, поправляя шляпу, не обернулся.
На ногах его были сандалии. Одну, сползшую, он ловил ногою, усаживая, как следует.
Штаны у грека были короткие, а ноги – в густом поседевшем волосе и худые.
…днём его снова мутило, бросая то в жар, то в озноб.
Изводила сломанная нога. Тошнотворно кружилась голова. Чесались подшитые бока. В ноздри и в уши лезла мошкара. Раны облепляли мухи.
…в кувшине был маслак: отвар сухих листьев конопли.
Изредка отпивая по глотку, Степан еле-еле забылся к полуночи.
Караульные во дворе каждый час били в барабан.
Раздавался крик:
– Каравыл! (Стража! – тат.)
– Дестур! (Внимание! – тат.) – кричали в ответ.
…очнувшийся в ночи Степан отчётливо слышал, как ночной янычарский караул разговаривает через ворота с тюремной стражей.
На янычар лаяла собака. Её отгоняли.
…проснулся – засветло, от крика муэдзина.
Муэдзину отзывались азовские петухи.
За ночь смрад осел.
Принесло новые запахи: горячих лепёшек, поднятой первой повозкой пыли, кальянного дыма, кофе, конюшен.
…отвлекая себя от зуда и головокруженья, Степан теребил свой заплывший глаз, на ощупь пытаясь осознать, где бровь, где глазница.
Поддев мизинцем, натянул, претерпевая рассыпающиеся всполохи боли, веко – и в образовавшуюся щёлку, сквозь колтун слипшихся ресниц, разглядел вторым глазом сначала заплесневелую стену напротив, а затем, ища свет, – трепетанье смоляного факела в щели над дверью.
Вслух засмеялся: одна рука, одна нога, полтора глаза – тряпичная кукла! И ничего ж: дышит, мыслит, зрит.
Кормили хилой овощной похлёбкой с очистками.
Лях ругался на кухарей, приносивших кормёжку, требуя иных угощений.
– Дьябэльские помёты! Подайче менса! (Чёртовы дети! Подайте мяса! – пол.)
Те, оставив корзину с битыми яблоками и подгнившими луковицами, молча уходили.
У ляха того был свой, за выступом, угол.
Разминая кости, лях вышел оттуда и встав напротив; разглядывал, будто на торгу, Степана.
Русые волосы ляха были расчёсаны гребнем. Голову он имел, как дыню, вытянутую. Глаза его казались как бы вдавленными и смотрели борзостно.
Белый атласный жупан, хоть и драный, выдавал в нём шляхетское происхожденье. Роста он был малого, но держался так самоуверенно и прямо, что выглядел высоким.
Степан не стал играться с ляхом в гляделки – и сразу смежил очи.
Лях цыкнул и отошёл.
Серб старался Степана не беспокоить: сидел, навалив соломы под спину, у другой стены. С хрустом чесал бороду. Размахивая руками и шёпотом ругаясь по-сербски, отгонял мух.
Время от времени как бы случайно оглядывал Степана – и, если тот отзывался на взгляд, торопился пересесть ближе, предлагая наполнить его кувшин водой или поспособствовать чем иным.
Степана едва хватало на слово-другое – и он тут же начинал задыхаться. Долго потом кашлял, глядя на ногу и опасаясь, как бы тряска не разломила её заново, как бы не поползли многие его швы.
…показывал сербу: тяжело, прости.
…завалившись на бок, отхаркивался – и всё не мог отплеваться.
Успокоившись, ложился на спину и слушал свою кровь, то бьющуюся в больной глаз, то колобродящую вкруг сломанных костей.
V
В тот год к отцу Тимофею явились его побратимы с запорогов – сечевики, запорожцы, бритые наголо, с въевшейся в головы несмываемой степной и пороховой пылью. С голов свисали длинные оселедцы, оттого звали на Дону их хохлачами.
Бороды у них, в отличие от донцев, были бриты.
Широко, троеперстно, крестились, на миг примёрзнув взглядом к Богоматери, и тут же принюхиваясь к столу, где стояли два длинных блюда – с холодцом и квашеной капустой. Вокруг них вперемешку толпились разной величины тарелки, полные солений, и малые – под мёд, вино, пиво – деревянные баклаги.
Собинные дружки, поскидывав кожухи или чёрные чумарки, оставались в грязно-белых или рыжеватых вышиванках, заправленных в шаровары. К шароварам были пришиты кожаные кобуры. Из кобур торчали пистоли.
Пищали и мушкеты оставляли в углах куреня.
– Шляхетно зажил, Тимоха! – обнимая хозяина, ревел рукастый, щедро слепленный, с чёрной щетиной, с круглыми, как азовские орехи, глазами. Он притоптывал сафьяновым сапогом превеликого размера так, словно слышал песню.
– А ты измождал, Дёма, – без смеха в голосе отвечал Тимофей, редко, но звучно охлопывая огромного сечевика; чёрный полукунтуш от каждого удара вспыхивал пылью.
Прозванье того Демьяна было – Раздайбеда.
Вокруг его багрового с мороза уха был обёрнут трижды оселедец.
– Та ж зима, Тимоха, – хохотнул вошедший и тут же сам себя перебил, заметив явившуюся с очередным подносом пирогов хозяйскую жену. – Дивовысько яке! Султана!.. Лягу у тебя, Тимох? Может, и мне невеста приснится? – голые щёки его мясисто сплясали от хохота; рот был полон крупных, как головки чеснока, зубов.
Многое хохлачи называли на свой лад, и округлость их языка щекотала слух. Балагурили, бесстыдно бранились. Звали себя – лыцари. Отряд свой – батавой. Сообща всех сечевиков – товариство. Господа поминали: Пане Боже.
Пили хмельного больше и жаднее донцев. К еде и вовсе были ненасытны.
– Не ради пьянства, а за-ради духовного братства, – выкрикивали, стуча баклагами.
По оттаявшим головам их тёк от усердия пот.
– Двинем до Азова? – спросил Демьян Раздайбеда у Тимофея, выпив и отерев огромной рукой рот.
Тут же сидели два отцовских товарища: живущий в соседском курене Трифон Вяткин, чернявый, с головой, будто вбитой в тело, и лбом, заросшим волосом едва не до бровей, и крепкий дружок Васька Аляной, белобрысый, с криво постриженной, редкой бородою, непрестанно менявший жён, имевший привычку произносить по делу и без дела: «Акуля, что шьёшь не оттуля?». Иной раз он резал свою поговорку, произнося лишь, то задумчиво, а то и ругательно, нараспев: «Аку-у-уля…».
Раздайбеда, не дождавшись ответа, перевёл взгляд на Ваську.
Аляной сказал таинственно:
– Аку-у-уля… – но тут же, хмуря редкие, словно выгоревшие брови, спросил про любопытное ему: – Хохлачи, сказывают, опять атамана поменяли?
– Которого? – спросил Раздайбеда.
– Да я и прежнего запамятовал…
– Нонешний – славный козачина, – добродушно сказал Раздайбеда. – Не то прежний. Задушили его, бисову душу.
Васька согласно и всерьёз кивал, хотя знавшие его могли разглядеть: он дурачится.
…нашумевшись, сечевики возвращались к основному, пытая донцев за скорый поход, о котором прослышали.
– Круг ещё не сказал… Как круг порешит, – глушил их интерес Вяткин, несогласно качая головой, и тут же громко вопрошал: – Сколь нынче в Азове башен, кто посчитал?
Спрашивая, он топырил обе пятерни, как бы показывая тем самым множество башен; но на левой его руке недоставало двух, косо срезанных пальцев.
Глядел он при том не на сечевиков, а на Ваську Аляного, сидящего напротив.
– Я в счёте слаб, Трифон, – всерьёз отвечал Аляной. – Сказывали, одиннадцать. То, должно, возле десяти: как у тя пальцев.
Сечевики загрохотали: как яблоню со спелыми яблоками протрясли.
– Азов-город – одиннадцатибашенный, – гудел, супя брови, Трифон, на потеху не отвечая, но и не сердясь. – И азовцев там боле, чем всех донцев в городках наших…
– А с хохлачами? – не соглашался Аляной; бледно-голубые глаза его по-прежнему смеялись, но губы были строги, и даже борода торчала вопрошающе.
Вяткин вместо ответа поискал в ближайшей плошке солёный огурец; нашёл огрызок и безгребостно съел.
– …так мы ж не все одиннадцать будем брать, Трифон, – примирительно уговаривал его Аляной. – Одну возьмём, и станем с азовцами соседи.
Трифон снова, нарочито недовольный, загудел своё:
– У азовцев – с двести пушек. А мы и ста не наберём. За Азовом лежит всё Крымско ханство, а наш всеблагий царь-государь – он за кем? За кем, говорю?
Вяткин, как и Аляной, забавлялся, но хохлачи верили в их препирания.
– Батюшка наш милостивец? – переспрашивал Аляной. – За царицей, так мыслю.
Вяткин, махнув с досадой беспалой рукою, повернулся к Демьяну:
– За Крымским ханством и турское войско, коего тьма, и большая, и малая ногайские орды – они ноне служат крымскому хану. Ну?.. Вы с ими не замирились, сечевики, с ногаями?
– Мы с ыми заругались, – Раздайбеда легко ткнул Трифона в плечо и снова захохотал, тараща круглые глаза.
– Ты б не стращал гостей, – просил Аляной Трифона. – А то сечевики развернутся и намётом до самых запорогов пойдут.
Сечевики снова реготали, расплёвывая харчи. Они не пугались ничего на свете.
Не дозволяя себе и малой ухмылки, Васька Аляной твердил Вяткину:
– А как возьмём Азов – государь наш батюшка оправдает нас и наградит. Потому как: куда поганые ведут полон со всех украин? В Азов-город. Где поганые торгуют православными людишками государя нашего и короля посполитного? В Азове-городе. Где торг идёт всеми святыми, и окладами с их икон, что посдирали в церквах наших? В том же собачьем месте! Наградит, говорю, а то и сам приедя…
– С жонкой-царицею… – вдруг согласился Трифон.
Иван и Степан слушали с печи казачьи пренья.
Иван так и заснул, свесив, как грушу, голову. Степан потянул его за рубаху в обрат, но уронил набитую гороховой соломой подушку, которую, не глядя, откуда она взялась, обнял спавший уже хохлач.
Наевшиеся сечевики ложились на пол, укладывая под головы сёдла. Лёжа, продолжали встревать в перепалки за столом; но вскоре храпели так, что дрожало под божницей пламя, играя на бураковых лицах тех, кто продолжал вечерять.
Лампады трещали: в курене от многолюдия становилось жарко.
Отец и несколько самых говорливых сечевиков то ли ложились почивать, то ли вовсе нет. Ночью Степан, сдвигая Ивановы колени, упиравшиеся ему в бок, услышал, что теперь они говорят смуро, глухо, рисуя на столе гнутыми пальцами.
– Подымайтесь, абреутни… – будил нескольких, всё ещё лежавших на полу сечевиков отец.
Мать, легко и равнодушно переступая через ноги, накрывала утренний стол.
В курень уже входили, кланяясь, но не крестясь, новые гости.
– Татарове… – прошептал Иван, больно пихнув всё ещё раздирающего глаза Степана. – Астраханские… Заедино с нами пойдут имать Азов-город. Как выходил на зорьке – стояли уж у плетня.
Тимофей пригласил гостей за стол.
Круглолицые татары – в тёплых халатах, в жёлтых сапогах, в четырёхклинных стёганых буреках – вели себя с большим достоинством.
Одному из татар мать, будто по незнанью, придвинула нарезанное на доске сало. Запорожцы, чтоб не обидеть гостей, не смеялись, лишь играя повеселевшими глазами; один даже замахнулся, чтобы хлопнуть мать по боку, – но, взглянув на Тимофея, раздумал.
Смотреть на женщину татары избегали: их жёны никогда не являлись гостям.
Говорили татары мало; больше слушали. Когда говорили – Степан понимал их.
– Русский царь – добрый царь, – сказал их старшак. – Урус чары ичюн Азавны алсак – Азавдаки ат базарында Ас-Тархан алыш-вериш эте билир! (Возьмём Азов для русского царя – Астрахань будет торговать конями в Азове! – тат.)
Пробыли недолго.
…скоро и сечевики стали собираться.
Степана снова поразили их персидские шёлковые, невиданной длины узорчатые пояса с разноцветной бахромой и шаровидными кистями на свисающих концах. Поясами этими, казалось, можно было два раза обернуть часовню. В шаровары же – спрятать козу или собаку.
У Раздайбеды висели на поясе: фляга, пороховница, мешочек для пуль, трубка, кисет, кинжал в изукрашенных ножнах – всё хотелось потрогать, сравнить с тем, что было у донцев, у отца.
Совсем молодой, улыбчивый, зеленоглазый, пригожий сечевик Боба, с нарочно выпущенным из-под сивой смушковой шапки оселедцем, закрывавшим почти пол-лица, подмигнул Степану, даря ему шахматную фигурку – воина с копьём.
– Я наигрался, дядько, – сказал.
Но, чтоб не обидеть малолетку таким подарком – будто и не казак перед ним, – тут же спросил:
– А твоё ружьё – какое, где? Гляну?
Степану в тот год было семь. Ивану – восемь.
…спустя день казаки грузились на струги.
В недалёкой от Черкасска казачьей столице – Монастырском Яру – созывался войсковой круг.
Одни уходили конными, другие, безлошадные, на каюках и стругах.
Весенний Дон тёк с ледяными всхлипами. Небо гнало к морю тяжёлые и грязные, в собачьей шерсти, облака. Река обгоняла небо.
Иван и Стёпка в толпе иных казачков вертелись меж отцов и старших братьев. Завидовали тем малолеткам, что по возрасту были допущены к войсковому кругу.
Степан, нарвав кленовых почек, тёр их в ладонях; кружило голову.
То и дело, не причаливая, проходили струги с верховых городков. Опознавая знакомцев, казаки с берега кричали, разевая чёрные галочьи рты.
…как последний струг отчалил, стало на удивленье тихо: только степной ветер, только бурливый ток ручьёв и шум в протоках.
Степан так и не ушёл с берега.
Привычный к чувству голода, дождался, когда в начинающемся сумраке явилась первая лодка, торопившаяся в свою верховую станицу.
Неспешно вышел на берег, глубоко вонзая ясеневый посох в хрусткую землю, дед Ларион Черноярец.
– …на кругу положили идти, дедко! – крикнули с лодки. – Слава Господу Иисусу!
– …на Азов – прямым приступом… – сказал сам себе дед Ларион.
Опершись подмышкой на посох, стал выбивать трубку, стуча по руке, как по деревянной:
– …а как пошёл бы казакам свой каменный город: у самого моря. Хошь, в Кафу иди. Пожелаешь – в Царьград.
…потные, уже отрешённые от жизни казаки грузили струги: ядра, порох, смолу, вяленое мясо, рыбу, связки лука и чеснока, сухари, кузнечные снасти, лопаты, топоры, кирки, разобранные лестницы…
Выгребали весь запас.
Стаскивали с черкасских стен пушечки.
Иван со Степаном, как и прочие малолетки, трудились, тягая, в надрыве, с казаками наравне.
Вываривали вёсла в масле. Конопатили днища и борта стругов.
От всех разило дымом, как от чертей. Перемазались в дёгте.
Смердело варом.
Резали камыш и, спеленав в снопы вишнёвым лыком и боярышником, крепили к бортам.
Струги пахли ивой.
Умелые и строгие казацкие жёнки кашеварили, но матери среди них не было.
С верховых городков до самой ночи подходили судна уже с готовыми, собранными, вооружёнными казаками. Торчали пики, пищали, луки.
Казаки были в крепко перешитом, но старом, неярких цветов платье.
Их тут же, у причала, кормили варёным, с луком, мясом.
Бегал от причала до войсковой площади и обратно поп Куприян – рыжебородый, с рыжими ресницами, и сам весь – будто в лёгкой рыжей дымке. Не было ни одного казака, которого он бы не перекрестил трижды.
Где-то поодаль лилась, затихая и вновь возникая, тягучая песня: «…ай, ну, поедемтя мы, братцы… на охо… на охотушку…».
Звёздный свет был зеленоват.
В факельных сполохах лица казаков казались скорбными.
Меж лиц струился еле слышный, чистый запах смерти.
Заслышав тот запах, в самый чёрный предутренний час выходили на тот берег неотпетые, могил не имевшие, навсегда утерянные казаки.
Головы их были дырявы насквозь, лоскуты сгнивших одежд трепетали.
Аляной, высоко подняв смоляной факел, крикнул, вглядываясь:
– Дядька Исай, ты?..
Задул ветер – у ближнего сорвало с костей драную рубаху, понесло во тьму, пугая волков.
На одиннадцатый после Войскового круга день, помолившись и коротко, без мёда-вина отпировав, казаки конными и судами ушли на закате к Азову.
Остался вытоптанный берег.
В отцовской походной торбе лежали шаровары да сорочка, просусленные дёгтем, и запас харчей.
Иван со Степаном с первого света до чёрной тьмы то бегали к парому, то ходили на валы, внимая степи и воде. Услышать отсюда ничего не смог бы и зверь.
…две ночи спустя, до полудня, вестовые крикнули, что идут струги.
Возвращали с азовских приступов раненых и побитых.
Малолетки, жёнки, старики, крестясь, толпились у берега.
Какая-то баба раньше срока, провидев беду заранее, тонко завыла. Дед Ларион ударил ей посохом по спине. Казачка охнула, открыв рот. Нитка слюны протянулась от губы до губы.
Самая больная жилка у Степана тонко дрожала внутри, как леса.
Иван, ставший в стороне, с остервенением бросал в воду ледяной грязью.
Первый струг ткнулся в причал; полетели с носа верёвки.
Степан неотрывно смотрел на раненого казака, свесившего с борта остаток руки. Из рукава торчали распушившиеся как сырой веник жилы. С них подтекало и капало в воду.
Надрывно пахло плотью. Раненные кто в грудь, кто в спину, кто в ноги – лежали вповалку.
Были поломанные до торчащих, как коряги, наружу костей.
У одного рука завернулась калачом, как у тряпичной игрушки.
Были лишившиеся куска мяса на боку.
Были безглазые, безухие, с пробитыми щеками, с проломанным теменем.
У другого ноздри расползлись в разные стороны, и мелкие битые косточки торчали, как рыбьи позвонки.
Были резаные, посечённые, проколотые, ошпаренные и обожжённые до кожного оползня.
Торчали бороды колтунами. Грязно дыбилась одежда.
Стонали лежавшие в забытьи, но остававшиеся в рассудке – безжалобно крепились.
Казаков, бережно вынося, грузили в подводы.
Один держал у груди срубленную свою руку; выронил в воду, заругался, чтоб достали.
…развозили битых по куреням и землянкам. Кони прядали ушами и, подрагивая, косились…
…следом подошедший струг, будто плавучая мясная лавка, оказался полон мертвецами.
Тут были разрубленные до полтулова и наспех перевязанные поперёк верёвкой, чтоб не развалились совсем.
Были убитые в сердце, в лоб, в брюхо.
Намертво налипли к бортам и рёбрам стругов спутанные сгустки кишок.
На дне струга, будто в похлёбке, плавали в кровавой жиже лохмотья кожи, требуха, белеющие персты.
…побросали всё рыбам.
Старший внук деда Лариона Черноярца вернулся короток – оттого, что лишился ног и задницы. Сам же – с распахнутым и отвердевшим ртом – глядел ликующе.
Дед без удивления сказал:
– Не то, унучек, ножки сами дойдут?..
Тимофея не оказалось ни на первом, ни на втором струге.
Степан побежал к матери – сказать.
Не застав её в доме, кинулся, слетев по ступеням, на баз, и едва, с разбегу, успел встать возле котуха, поражённый: мать тихо пела по-турски – то ли козе, то ли самой себе.
VI
…снова накатывала дурнота. Череп, едва сдерживая свинцово разбухающую кровь, трещал. В лоб влипло копыто.
Не мог уже лежать на спине – изводил кашель, а улечься на живот со всеми переломами своими был не в силах.
Затёкший глаз, словно птенец в яйце, ворочался, и будто даже пищал: отдавалось в ухо.
Степан открывал рот и дышал, дышал, набираясь воздуха, – пока не высыхала, словно песком присыпанная, гортань.
Иной раз, надышавшись до пьяного головокружения, ощущал краткое облегченье, но тут же накатывало снова: тошнота, жажда, ломота.
Озноб сменял жар, а посреди жара вдруг становилось предсмертно мёрзло, тоскливо.
…смотрел, задирая голову в оконный проём: может, прилетела смерть, сидит, смотрит.
…подозвать, что ли, как кошку, чтоб забрала, избавила?..
Но на всякую ночь – неизбежное, являлось утро.
…лях негромко пел:
– Щеджи собе зайонц под медзом, под медзом… (Сидит себе заяц под межой, под межой… – пол.)
Словно забывшись, что не один, тянул:
– …а мыщливи о ним не ведзом, не ведзом… (…а охотники о нём не знают, не знают… – пол.)
Голос его улыбался – лях вспомнил о чём-то, развеселившем его.
– По кнеи щеу розбегали… (По лесу разбежались… – пол.) – пропел он ещё громче, и здесь задумался.
Продолжил уже шёпотом, но Степан, в голос, ему подпел:
– Абы шарака схвытали фортэлем, фортэлем! (Чтобы серого поймать обманом, обманом! – пол.)
Лях осёкся. Недвижимый, раздумывал: послышалось или нет.
Рывком встав, выглянул.
Степан лежал, закрыв глаза.
Выждав, строгий лях исчез в своём углу.
Серб, вороша вокруг себя сено, тихо засмеялся, поглядывая на Степана.
Спустя минуту, обхватив колени и раскачиваясь, красиво запел:
– Рано рани, у нэдзелю младу… Рано рани, да ловак улови… уловио змию шестокрилу. (Встаёт рано поутру, в первое воскресенье после новолуния… Встаёт рано, чтобы поохотиться… поймал змею шестикрылую. – срб.)
Покопошившись в своей растрёпанной корзинке, серб извлёк вяленого леща и пересел к Степану.
Тот открыл, насколько смог, глаза.
– Молдавац е то пренэо од видара, доброг Грка! (Молдаванин передал от лекаря, доброго грека! – срб.) – поделился серб; морщины на его лице дрожали, как паутина на ветру.
Потряс лещом, как бы спрашивая: «…разделаю, брат мой? угостишься?..».
Степан согласно качнул грязной бородой.
Серб затрещал рыбой. Терпко пахну́ло.
Первый, с позвонков сорванный кус серб дал Степану.
Лещ был масляный, томящий душу.
…медленно жевал, чувствуя, что пережёвывает саму боль свою.
…сглодали всю рыбу. Лещиные глаза высосали насухо. Плавники погрызли.
…пока ели, не сказали ни слова друг другу.
Вытерев руки и рот соломой, Степан пропел, глядя на серба:
– Уловио змију шестокрилу – од шест крила, од четири главе!.. (Поймал змею шестикрылую – с шестью крыльями, с четырьмя головами!.. – срб.)
Кинул предпоследнее зёрнышко гашиша под язык. Последнее предложил сербу.
Тот, улыбаясь, сказал:
– Нэчу, ёк. Твое е. (Нет, нет. Твоё. – срб.)
Протянул Степану кувшин с водой.
…на рассвете выползали, обнюхиваясь, выкатив бесстыжие бусины глаз, крысы. Возились со вчерашними рыбьими костями.
Самая крупная – крысиная, казалось, мать – недвижимо сидела в углу.
Уползала последней, с нарочитой неспешностью.
…трогал голову, замечая, что отёк становится меньше, а второе веко, если ему помогать пальцами, раскрывается почти целиком.
…двигаясь мал-помалу, нагрёб под себя сена, и всё-таки завалился на живот. Такая явилась благость, что тихо застонал.
…с тех пор откашливаться получалось проще.
Обмывая раны, приметил, что не гниёт.
Дышалось день ото дня легче.
Но битые неходячие ноги худели, обвисая по-стариковски вялою кожей.
Мужское его естество умалилось, как у юного, а цветом – потемнело. По утрам не мог толком разобрать, чем помочиться: из жалкого комка вдруг выбивалась в сторону порывистая младенческая струйка.
…раз приспособился, и, цепляясь за стену, вытянул себя, встал на одну ногу. Немного, терпя головокруженье, постоял.
…подбежал серб, помог присесть – а то так и упал бы.
В полдень пришёл грек.
Молдавский служка бросил Степану стираную рубаху и широченные запорожские шаровары, чтоб возможно было надеть поверх деревянных крепежей. Сапог не принёс.
…а лепые были сапоги у него в тот самый день! С узором на голенище: птичий хвост.
Червчатые – такие любили хохлачи, дончаки же чаще носили чёрные. Но Степану нравились в цвет руды.
…из Степана повытянули все нитки, коими прошили его.
Грек, ломая губы натрое, нависая с присвистом сипящим носом, долго мял ему поломанную ногу.
…оставил мазь, сильно ткнув пальцем в лоб: мажь голову.
«…скупой на молвь», – подумал Степан, глядя вослед уходящему лекарю и служке.
Молдаванин был в старых телячьих туфлях, а лекарь сменил сандалии на мягкие бабуши.
…поднёс плошку с мазью к лицу, понюхал; пахло многими неразборчивыми перетёртыми травками.
VII
– А-а-а-азов па-а-а-а-ал!.. – надрывались вестовые, проносясь по черкасским улочкам. – А-а-а-азов пору-у-у-ушен!..
Колокол непрестанно гудел, будто бы возносясь с каждым ударом всё выше.
Собаки неистово лаяли в ответ, словно бы тот гул был зримым и пролетал над куренями. Скотина ревела, как непоеная.
То там, то здесь стреляли, хотя стрельба в городке была под строгим запретом.
Овдовевшие казачки глядели из-за плетней на чужое веселье.
Степан, заслышав на базу кудахтанье и петушиный клёкот, поспешил туда – ласка забралась или дикий кот? – и увидел разом, в один взгляд: сидящую возле чурбака мать с топором в руке, жалкую куриную голову на чурбаке – и безголовую курицу, бегущую прочь.
Мать срубила птице голову сама – то был грех и для казачки, и для татарки.
Подняв глаза на Степана, она в кои-то веки пояснила по-русски, без улыбки, выговаривая каждое слово так, словно оно могло поранить острым краем рот:
– Отцу – на стол. Встречать его.
Два онемелых петуха сидели на горотьбе, взмахивая крыльями и не слетая, словно вокруг была вода.
Петухов у казаков всегда было почти столько же, сколько кур. Петухи заменяли им часы.
Отец вернулся на другой день.
Дувана привёз – целый воз.
Одной посуды – два мешка: даже если всякое утро пить-есть из новой, она б и месяц не закончилась. Три мешка бабьих нарядов. Турский кафтанчик для Ивана, сапожки для Степана. Полный, горластый кувшин колотого серебра. Подушек столько, что завалили ими всю лежанку на печи. Дюжину ковров.
Последний занесённый ковёр батька, лениво катнув ногой, тут же, в горнице, и расстелил. Вышитый головокружительными узорами, ковёр пушился, дышал и переливался, как зверь.
…и ещё отец добыл часы.
Часы те стоили дороже самой дорогой ясырки, трёх здоровых рабов, пяти ногайских коней.
Сапожки, привезённые отцом из Азова, были с каблучками, червчатые, остроносые.
Выждав, Степан спросил у отца: а можно ли?
Никогда ничего не жалевший и не хранивший, тот качнул вверх указательным и средним пальцами: бери.
Сидевший в курене Аляной присвистнул завистливо:
– Эх, Стёпка… – и потряс кулаком, наставляя на добрую прогулку.
Поспешая, Степан выбежал на улицу, чтоб не уткнуться в насмешливого Ивана.
Остановился только поодаль куреня, вжавшись в шумные заросли плюща. Сердце билось вперебой.
Опустил взгляд. Сапожки преобразили белый свет.
Сделал шаг: разбухшая на тёплых дождях трава приникла.
Пёс, желавший залаять на него, поперхнулся.
Степан взобрался, зачарованно слушая свой топоток, по лесенке на мостки и пошагал самым длинным путём – по сходящимся и расходящимся чрез протоки переходам – к Дону. Мостки те в потешку именовались пережабины. Вослед завистливо орали лягвы.
Если встречь шли казаки, Степан останавливался, прижимаясь к поручням, и снимал шапку.
Баба казака Миная – семью их звали Минаевы – ещё издалека начала приглядываться, и за два шага до Степана остановилась.
– Ой, – протянула. – Экий султанчик!
Когда достаточно с ней разошлись, Степан, не сдержавшись, засмеялся.
Выйдя к Дону, сразу же зашёл по расползающемуся песку на два шажка вглубь. Ноги в сапогах туго, ласково сдавило.
Он едва дышал.
Пахло сырой древесною корой, отмокшим камышом.
…высмотрев на берегу место, уселся, чтоб разглядывать чудесные сапожки. Среди палой листвы они смотрелись ещё ярче – словно выросли из земли, как грибы.
Подвигал ступнями, как бы танцуя.
…и вдруг его словно ошпарило изнутри.
Кто ж те сапожки таскал совсем недавно?
Его ж ведь – сгубили. А куда он мог деться ещё? В Азове казаки побили всех до единого. Сумевших же выбраться в степь – загоняли астраханские татары, и тоже казнили смертию.
Таскавший те сапожки лежал теперь, съедаемый червём. А порешил его – батечка Тимофей.
Степан ошарашенно оглядывал свои ноги.
Прежнее тепло вытрясли из тех сапог, как пушистый сор.
Степан взял себя за колено и сдавил.
Разом поднялся и заспешил обратно, брезгливо суча ногами, будто к ним до колен налипли пиявки.
…дойдя к мосткам, сам не заметил, как отвлёкся: казачата били из луков жаб.
Бог весть откуда натёкшая горечь – выветрилась и оставила его сердце.
И никогда больше не возвращалась.
…с московским жалованьем на Дон прибыли царёвы послы, а с ними стрелецкий отряд.
Стрельцы стали лагерем у Черкасска, на другом берегу. Задымили костры.
На другой день десятка стрельцов с их десятником перебрались на пароме к Черкасску.
Высоко неся подбородки, супясь, вошли через распахнутые ворота в городок.
Они были в оранжевых кафтанах с чёрными петлицами. Шапки их были вишнёвого цвета, а сапоги – зелёного. У каждого имелась пищаль, а за спиной – бердыш.
Иван со Степаном стояли на валах, глядели во все глаза. Стрельцов с большой Русии видели они впервые.
Едва те прошли, кинулись за ними вослед.
Стрельцы, любопытствуя, ходили по богатому черкасскому базару, не теряя друг друга из вида.
Казаки-старшаки, встав поодаль базара, косились на стрелецких гостей.
Пройдя насквозь ряды, стрельцы собрались у часовенки.
К ним, сияя рыжей бородой, красноносый, выкатился поп Куприян.
Казаки помоложе, недолго выждав, поигрывая нагайками, подошли; чуть задираясь, знакомились с московскими людьми. Косясь на Куприяна и тихо посмеиваясь, предлагали стрельцам табачку. Стрельцы, что твои кони, вскидывались, отворачиваясь.
– Табак – зелье сатанинское! – пояснял стрелецкий десятник густым голосом и сплёвывая. – Нарос в паху мёртвой любодейницы, тридцать лет кряду предлагавшей себя кому ни попадя! Сатана зачерпнул из её срама чашу – и плеснул на неё ж. На ей и возросла трава табак!
Десятник был с невиданным карабином и в ерихонке – медном шлеме.
– А у нас и поп Куприян покуриват, – сказал, подходя будто к давним друзьям, Васька Аляной. – Поп, душа моя в лохмотья, ты чего про девку-то не сказывал нам? С кем же ж она любодейничала, раз из её чашкой черпали?
– Так в городке Ебке, которая Акилина, прозвищем Полполушки… – поддержал лобастый, с большой лохматой головой, казак Яков Дронов, но поп, воздевая руки, прервал:
– Постыдились бы, сукины дети, у часовни стоите! Путаете гостей московских лжой своей! Черти протабаченные! А как они государю про вас доложат?..
Стрельцы на потешки Аляного, суровясь, не отвечали, поглядывая на десятника.
Головастый, как тыква, Митроня Вяткин – на три годка моложе Степана, – кинул камнем, угодил одному из стрельцов меж лопаток. Как крюком поддетый, стрелец вмиг развернулся и уставил пищаль Митроньке в лоб.
Тот остолбенел.
Казаки оборвали гутор.
– Не балуй с пищалью-то, не вишь – дитё, – негромко сказал Аляной.
Тут, как вихрем несомая, налетела Вяткина баба, схватила Митроньку и, подняв не хуже мажары пыль, пропала.
Час спустя казаки со стрельцами сошлись за разговорами в прибазарном кабачке.
Все охмелели.
Казаки постарше, разодевшись, как на праздник, в лучшее, – иные даже нацепив дорогие кольца на кривые персты, – расписывали стрельцам свою пречудесную жисть – и те, оттаяв во хмелю, завидовали.
– …а как? – переспрашивали, озираясь.
– Да мы спрячем тя, мил человек, – уверял Дронов. – Скажем: кувырнулся с мостка, и потоп. Не разыщут, ей-бо!.. Средь казаков вашего стрелецкого брата – ой, да полно. Крымчанку тебе найдём, аль ногайку – будешь её чесать то вдоль, то поперёк. А? Чего ж нет? Там государю служишь – и здесь будешь государю. Но там ты – как за ногу привязан, а тут – во все стороны ходи…
Степан с Иваном паслись поодаль. Набирались гордости: у них по роду имелось такое, чем и московские стрельцы не владели.
Ерихонку десятник снял.
Ударяя по ней камешком величиной с перепелиное яйцо, казак Ермолай Кочнев, щуря злые медвежьи глазки, цедил:
– …похлёбку только варить! В теплынь в ей – как в казане. В стынь – ухи примерзают. На морском поиске такой кубок блик споймает – издали подмигнёт во все стороны всем турским кораблям. В абордажной рати шелом – помеха. Доведись же тонуть – утянет. Воткнёсся в самое дно маковкой, а ноги вверх, как поплавки! Красться в таком ни в траве, ни в снегу – и вовсе не способно.
…казаки кивали: тридцать лет на Дону никаких доспехов никто не носил.
Десятник послушал – и, не сердясь, ответил:
– Стрельцы, казак, не крадутся ни в травах, ни в снегах. Стоймя стоят.
В другой день мать, как часто бывало, собравшись на базар, взяла пособить сыновей.
Иван бродил молча, с подлым видом, пробуя при первой же возможности всякое съестное – и с позволенья, но чаще без оного.
Степан же, по давно уж возникшей повадке, подслушивал разговоры торговцев, вникая в речь. Если кого из торговой прислуги знал – заговаривал сам, всякий раз стараясь услышать новое слово.
Поздоровался со старым сечевиком, который таскал выносной короб горилки, предлагая казакам праздновать всякую покупку, а купцам – продажу. Сечевик был весёлый, умел пошутить и на ляшском, и на армянском, и на кизилбашском, а на Стенькин интерес – «О чём ты сказал ему, дедка?» – не сердился, но, напротив, подмигнув, отвечал:
– Кто допытывается – не заблудится. А гуторю я вот за что, хлопчик…
Больше всего на торге водилось русских купцов. Торговали они мёдом, пенькой, янтарём, воском, льняными холстами. Рябили в глазах скатки кручёного, с золотой ниткой, шёлка, материи шерстяные и суконные, златотканые и шёлковые пояса. Трепетно было прикоснуться к шкурам соболиным, горностаевым, песцовым. Чудно пахла русская лавка, где продавали сёдла и узды, и прочую конскую справу.
Имели здесь свои лавки крымские татары, персы, жиды, болгары, сербы, нахичеванские армяне, прочие многие.
Греки торговали кофе и лавашами, и кофейный дух перебивал даже терпкий вкус кож. Грузины выставляли огромные бурдюки с вином.
Иной раз до Черкасска добирался даже китайский фарфор.
Из сирийской страны везли ладан и миро.
Турки из Тамани и Керчи доставляли на базар киндяки и сафьяны, рыбные снасти, всякие ягоды, и сладости, и любимые отцовские орехи – те, что казаки прозвали азовскими, а московские купцы именовали грецкими.
Мать же искала цитварное семя для сыновей.
Оглянувшись – пред глазами мелькали красные тюрбаны турок и высокие головные уборы греков, – Степан приметил, как с матерью шепчется жёнка Лариона Черноярца – единственная старуха в Черкасске, помнившая тут всех: и считаных живых, и бессчётных мёртвых, и томившихся в плену, и тех, что, показаковав, вернулись в Русь.
Тоже когда-то турская полонянка – горбоносая, с годами почерневшая, как древесная зола, – она не первый раз пыталась заговорить с матерью, но всякий раз та кланялась и поскорей уходила. А тут – не ушла.
Степан глянул в ту сторону, куда кивала старуха, успев заметить знатно одетого турка со служкой. Они дожидались кого-то возле жидовских рядов.
В тот же миг метнувшаяся к Степану мать, круто развернув сына, сунула ему в руки не полный ещё короб, и безжалостно толкнула: пошёл!
Повинуясь, не оглядывался; а чего глядеть? Ну, старый турка, мало ли их тут бывало.
Вскоре, уже за деревянными воротами базара, их догнал Иван. Недовольная мать дёрнула и его за рубаху, хотя надобности в том никакой не было. Брат ухмылялся.