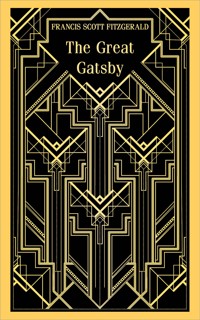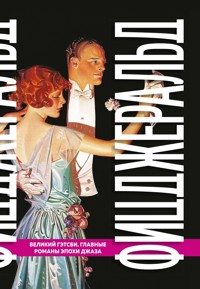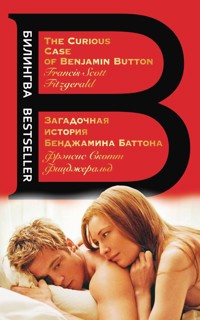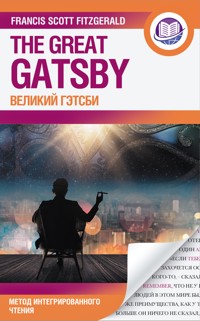Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Фрэнсис Скотт Фицджеральд — писатель, возвестивший миру о начале нового века — «века джаза», автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат» — принадлежит к числу самых крупных прозаиков США ХХ века. В вошедшем в настоящее издание романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд исследует феномен «американской мечты». В образе главного героя Джея Гэтсби писателю удалось добиться удивительной гармонии в изображении притягательности мечты и неминуемого ее краха.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francis ScottFITZGERALD
1896–1940
Френсис СкоттФИЦДЖЕРАЛЬД
Велигий Гэтсби
Роман
Текст печатается по изданию:Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Ночь нежна.СПб., 1993
Перевод с английского Евгении Калашниковой
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Фицджеральд Ф. С.Великий Гэтсби : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; пер. с англ. Е. Калашниковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-21454-5
16+
Фрэнсис Скотт Фицджеральд — писатель, возвестивший миру о начале нового века — «века джаза», автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат» — принадлежит к числу самых крупных прозаиков США XX века.
В вошедшем в настоящее издание романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд исследует феномен «американской мечты». В образе главного героя Джея Гэтсби писателю удалось добиться удивительной гармонии в изображении притягательности мечты и неминуемого ее краха.
© Е. Д. Калашникова (наследник), перевод, 1965© Ю. В. Ковалев (наследник), статья, 2000© О. А. Миклухо-Маклай, примечания, 2000© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011Издательство АЗБУКА®
Френсис Скотт Фицджеральд
1
В сознании современников Френсис Скотт Фицджеральд (1896–1940) был не просто писателем, но живой легендой, воплощением духа времени, кумиром американской молодежи 20-х годов нашего века, которая видела в нем блистательного выразителя собственного мироощущения. Эта репутация закрепилась за ним навечно, и даже сегодня американская критика продолжает именовать его «дитя бума», «сын эпохи просперити»1, «лауреат джазового века»2 и т. п. Основанием для подобных определений послужили не только книги писателя, но и сама жизнь его, складывавшаяся в соответствии со стандартами времени. Детство и юность его протекали вполне обыкновенно и не предвещали феерического взлета. Фицджеральд родился на Среднем Западе в небогатой семье, посещал школу, обучался в университете, служил в армии. Единственное, что отличало его от десятков тысяч других молодых людей, — это интерес к литературным занятиям. Будучи школьником, он сочинял стихи, рассказы и пьесы, не обладавшие, впрочем, высокими художественными достоинствами. В студенческие годы Фицджеральд твердо решил стать писателем, и не каким-нибудь, а непременно великим. Его однокашник Эдмунд Уилсон — впоследствии известный критик и романист — вспоминал, что Фицджеральд как-то обратился к нему со следующими словами: «Я хочу стать одним из величайших писателей, когда-либо живших на земле. А ты?» В осуществление этого своего намерения он начал писать роман, работу над которым завершил во время военной службы, протекавшей в одном из армейских лагерей в штате Алабама. Тогда же он влюбился в местную красавицу Зельду Сэйр и предложил ей руку и сердце. Ни издатели, ни красавица не захотели рисковать. Роман был отвергнут, предложение руки и сердца — тоже. Огорченный Фицджеральд, по выражению одного из его друзей, «напился, уехал домой в Сент-Пол и принялся за переделку романа».
В новом варианте книга называлась «По эту сторону рая» и была выпущена издательство Скрибнера в 1920 году. С этого момента в жизни писателя началась новая, можно сказать апокрифическая, полоса. Роман имел бешеный успех, автор получил огромный гонорар и стал на время весьма обеспеченным человеком; издательства и журналы наперебой приглашали его сотрудничать; жестокая красавица сменила гнев на милость и вышла замуж за новоявленную знаменитость. Молодожены поселились в роскошном доме в Нью-Йорке. Знакомства с ними искали люди богатые, могущественные и знаменитые. Юный гений, которому едва исполнилось двадцать пять лет, купался в лучах славы, давал интервью направо и налево и предавался экстравагантным развлечениям в духе времени. Существует множество историй о том, как Фицджеральд проехался на крыше такси по Пятой авеню, искупался в городском фонтане; по Нью-Йорку распространялись фантастические слухи о вечеринках, которые молодая чета устраивала у себя дома. Он жил, говоря его же словами, как жили «верхние десять процентов нации — на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок варьете».
Мало кто, однако, замечал, что Фицджеральд продолжал работать как одержимый. В ближайшие шесть лет он опубликовал три сборника новелл, пьесу и два романа («Прекрасные и проклятые», 1921; «Великий Гэтсби», 1925), не считая значительного количества журнальных рассказов. Днем и вечером он исполнял роль «лауреата джазового века», ночами писал. Иными словами, жег свечу с двух концов. К середине десятилетия его физические силы были уже на исходе.
В 1924 году Фицджеральд с женой уехали в Европу, где с небольшими перерывами прожили последующие семь лет. Он примкнул к «экспатриантам», толпами покидавшим Америку в первой половине 20-х годов. Поэты, прозаики, художники, литературные критики, задыхавшиеся в атмосфере коммерческой цивилизации и не находившие способов ей противостоять, спасались бегством и не видели в том позора. «Нет ничего зазорного, — писал Малькольм Каули — известный критик, современник Фицджеральда, — в том, чтобы бежать от врага, слишком сильного, чтобы его можно было атаковать. Многие писатели 20-х годов считали наше коммерческое общество именно таким врагом и полагали, чтобы найти убежище от него»3. Десятки известных и сотни безвестных деятелей литературы и искусства перебирались в разоренную войной Европу. В эти годы в Париже можно было встретить Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Дж. Дос Пассоса, Т. Элиота, Г. Менкена, Э. Паунда, М. Каули, Э. Уилсона... Казалось, вся литературная молодежь Америки переселилась во Франци.
Мысль о том, что американская почва может питать искусство, представлялась экспатриантам чистой воды безумием. Показательны в этом смысле слова самого Фицджеральда, который вспоминал, как «один из экспатриантов получил письмо от общего друга, призывающее его вернуться домой, дабы черпать жизненные силы в крепких, бодрящих соках родной земли. Это было сильное письмо, — замечает Фицджеральд, — и оно произвело на нас глубокое впечатление. Но потом мы увидели, что она было отправлено из лечебницы для нервнобольных в Пенсильвании»4.
С точки зрения творческой продуктивности годы, проведенные Фицджеральдом в Европе, были «пустыми», хотя и не бесполезными. Впоследствии писатель назвал их «семь трагических, бесплодно растраченных лет». Современные критики сочли, что он «кончился» как художник. Его стали уподоблять ракете, которая взлетела, вспыхнула, рассыпалась огнями и погасла. Своим десятилетним молчанием он будто подтверждал верность этой метафоры.
В середине 30-х годов Фицджеральд опубликовал еще один роман («Ночь нежна», 1934) и сборник рассказов, но ни критика, ни читатели не оценили высоких достоинств этих произведений. С Фицджеральдом было покончено. Славу и популярность его отнесли к области модных увлечений и похоронили вместе с «джазовым веком». К моменту смерти он был уже полузабыт. Если критики и вспоминали о нем, то исключительно как о ярком мотыльке, чей век был краток. Сопоставление с мотыльком и бабочкой, столь полюбившееся журналистам, должно было символизировать мгновенно растраченный талант. Даже Хемингуэй, знавший Фицджеральда лучше многих других, не удержался от «мотыльковых» параллелей в своем известном рассуждении о судьбе Фицджеральда. «Его талант, — писал он, – был таким же естественным, как узор пыльцы на крыльях бабочки. Одно время он понимал это не больше, чем бабочка, и не заметил, как узор стерся и поблек. Позднее он понял, что крылья его повреждены, и понял, как они устроены, и научился думать, но летать больше не мог, потому что любовь к полетам исчезла, а в памяти осталось только, как легко это было когда-то»5.
Хемингуэй был неправ. Каковы бы ни были обстоятельства личной жизни Фицджеральда, он по-прежнему мог «летать». Об этом свидетельствуют не только опубликованные им в 30-е годы произведения, но и оставшееся после него рукописное наследие, посмертно преданное гласности его друзьями Э. Уилсоном и М. Каули, — роман «Последний магнат» (1941), автобиографическая книга очерков, заметок и писем «Крах» (1945) и сборник «Рассказы Ф. Скотта Фицджеральда» (1951).
Прошло совсем немного времени, и стало очевидно, что американская критика глубоко заблуждалась, увидев в Фицджеральде всего лишь выразителя настроений «джазового века», а в его творчестве — явление хоть и яркое, но недолговечное. Уже во второй половине 50-х годов началось мощное возрождение интереса к произведениям и к самой личности писателя. Были многократно переизданы его книги, написана его биография, опубликована переписка, появилось несколько монографий и даже романы о его жизни.
Теперь уже не вызывает сомнений, что творчество Фицджеральда, наряду с сочинениями Ш. Андерсона, Э. Хемингуэя, Т. Вулфа, — явление в высшей степени значительное и характерное для американской литературы, что оно отражает целую эпоху в развитии американского сознания, не ограниченную узким идеологическим спектром «джазового века».
2
Книги Фицджеральда трагичны, как трагично его мироощущение и творческое сознание. Критики обычно возводят истоки этого трагизма к двум моментам: обстоятельствам чисто личного, биографического плана и к идеологии так называемого «потерянного поколения». К тому есть определенные основания.
Даже в 20-е годы — самый счастливый период в жизни Фицджеральда — существование его было далеко не безоблачным. Огромная популярность, экстравагантный образ жизни, всевозможные эскапады в стиле «джазового века» — все это составляло лишь оболочку бытия, его поверхностный слой, под которым скрывался напряженнейший труд, далеко не всегда приносивший удовлетворение. Сам Фицджеральд делил свои произведения на две категории: «настоящие вещи», такие, как, например, «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат», и откровенный «ширпотреб», который писался для популярных журналов с единственной целью заработать деньги. Существует легенда, сочиненная самим Фицджеральдом и пересказанная Хемингуэем, о том, как именно создавались «журнальные рассказы»: он «писал рассказы, которые считал хорошими — для «Сэтердэй ивнинг пост», а потом перед отсылкой в редакцию переделывал их, точно зная, с помощью каких приемов их можно превратить в ходкие журнальные рассказы. Меня это возмутило, — замечает Хемингуэй, — и я сказал, что, по-моему, это проституирование. Он согласился, что это проституирование, но сказал, что вынужден так поступать, потому что журналы платят ему деньги, необходимые, чтобы писать настоящие книги. Я сказал, что, по-моему, человек губит свой талант, если пишет хуже, чем он может писать. Скотт сказал, что сначала он пишет настоящий рассказ, и то, как он его потом изменяет и портит, не может ему повредить»6. К сожалению, все это не более чем легенда. Попытки исследователей отыскать «хорошие» черновики ходовых рассказов ни к чему не привели.
Несмотря на сравнительно высокие гонорары, писатель не вылезал из долгов. Для «ширпотреба» в его творчестве неукоснительно увеличивалась. После 1924 года он надолго забросил «настоящие вещи». Разрыв между «Великим Гэтсби» и романом «Ночь нежна» составил десять лет, заполненных в основном сочинением журнальных рассказов невысокого художественного достоинства. Фицджеральда не покидало ощущение, что он полностью израсходовал свой талант и не способен более ни на что, кроме как на ремесленные поделки. Оно накладывалось на огромную усталость, связанную с перенапряжением физических и душевных сил. Отсюда тяжелый невроз, бессонница, пристрастие к спиртному, которое со временем приобрело болезненные формы. Если прибавить к этому, что жена писателя еще в 20-е годы заболела тяжелой формой шизофрении и ему приходилось периодически помещать ее в дорогостоящие заведения для душевнобольных, а сам он был болен туберкулезом легких и вынужден был время от времени ложиться в больницу, то нетрудно увидеть, что трагический элемент в мироощущении и творчестве Фицджеральда вполне мог иметь биографическую природу. История жизни писателя допускает такое толкование.
Однако нельзя отказать в основательности суждений и тем критикам, которые объясняют специфический характер творческого сознания Фицджеральда его принадлежностью к так называемому «потерянному поколению». Мы берем этот термин в кавычки в силу его условности и некоторой нечеткости. История литературы относит к «потерянным» поколение писателей, в чьем сознании Первая мировая война произвела сокрушительный переворот. Многие из них, как, например, Олдингтон, Хемингуэй, Ремарк, принимали непосредственное участие в кровопролитных сражениях и затем использовали трагический опыт окопной жизни в первых своих книгах, определивших, так сказать, лицо поколения («Смерть героя», «Прощай, оружие!», «На Западном фронте без перемен»). Другие — по возрасту ли, по состоянию здоровья или по иным причинам — не попали на театр военных действий и переживали войну в «тыловых» обстоятельствах, что порою, как показал Олдингтон, было не менее страшно. Все они пережили внутреннюю катастрофу, наступившую в тот момент, когда пришло осознание подлинных причин и целей войны, когда возникло пусть еще не очень ясное понимание, за что именно было заплачено десятками миллионов жизней, страданием и кровью.
Само собой разумеется, что в массе своей «потерянное поколение» постигло великую ложь шовинистических и псевдодемократических лозунгов, смутно ощутило подлинный смысл кровопролитной бойни и, главное, пришло к убеждению, что сама война явилась порождением и следствием существующего «порядка вещей» или, говоря иными словами, социальной организации мира. Отсюда ненависть и презрение к традиционным ценностям и идеалам, к выработанным буржуазным обществом нравственным и социальным понятиям, жизненному кладу, филососфским представлениям о человеке и смысле бытия. Литература «потерянного поколения» была литературой протеста, литературой отрицания, стоического, как у Хемингуэя, яростного, как у Ремарка и Олдингтона.
Фицджеральд тоже принадлежал к этому поколению. Он не попал на фронт хотя, как и многие другие, обманутые фальшивыми лозунгами о защите демократических свобод, стремился к этому. Ему не довелось пережить газовые атаки, пролить кровь или видеть, как ее проливают другие. В его книгах нет описания сражений, и герои его не сидят в окопах, не дерутся в рукопашную. Тем не менее духовно, интеллектуально, эмоционально Фицджеральд был заодно с «потерянными». Жизненный материал, с которым он сталкивался, был другим, но взгляд — тот же. И выводы — сходные. Наблюдая разгон демонстрации демобилизованных солдат в 1919 году, он несколько неожиданно заключает: «Если обожравшиеся бизнесмены имеют такую власть над правительством, то вполне вероятно, что мы и впрямь вступили в войну ради займов Д. П. Моргана»7. Так мог бы написать Дос Пассос. Или Ремарк. В той степени, в какой трагическое мироощущение было присуще «потерянному поколению», оно было присуще и Фицджеральду. И следовательно, мы должны согласиться с критиками, которые видят в этом еще один источник трагизма его книг.
Итак, Фицджеральд — «лауреат» и певец «джазового века» и Фицджеральд — один из «потерянных», писатель-бунтарь, чье творческое сознание окрашено в трагические тона. Нет ли тут противоречия? Разумеется, есть, если полностью отождествлять, как это делают некоторые историки литературы, понятие «джазовый век» с понятиями «бума» и «просперити». Но если вникнуть поглубже в реальное их содержание, то окажется, что никакого противоречия тут нет.
Характерно, что для обозначения границ «джазового века» Фицджеральд выбрал «первомайские беспорядки 1919 года» и грандиозную биржевую панику в октябре 1929 года, с которой принято связывать начало затяжного экономического кризиза, подчеркивая таким образом особый характер означенного десятилетия.
У «джазового века» был тревожный подтекст. Сам Фицджеральд подчеркивал, что в начале 20-х годов слово «джаз» содержало особый оттенок, не имеющий никакого отношения к музыке. «Когда говорят о джазе, — писал он, — имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта. Для многих англичан та война все еще не окончена, ибо силы, им угрожающие, по-прежнему активны; а стало быть, давайте жить, пока живы, веселиться, пока завтра за нами не явится смерть. То же самое настроение появилось теперь — хотя и по другим причинам — в Америке...»8 В экстравагантных безумствах молодого поколения слышались надрывные, истерические нотки. Да и сами эти безумства в известном смысле были актом протеста. Недаром Фицджеральд писал, что события 1919 года неизбежно «привели к отчуждению мыслящей молодежи от господствующей системы»9, породили в ней цинизм, отвращение к «Великим Целям», о которых неустанно трубила буржуазная пропаганда, ненависть к политике и общее недоверие к традиционным идеологичсеским принципам, обнаружившим полную свою несостоятельность. Вместе с «потерянным поколением» американская молодежь усомнилась в мудрости предшествующих поколений, доведший мир до империалистической войны, и в способности «отцов» управлять страной. Далеко не случайно первый роман Фицджеральда назывался «По эту сторону рая». Слова эти — скрытая цитата из популярного стихотворения английского поэта Руперта Брука «Тиара с острова Таити». У Брука они означают «здесь на земле» или «здесь в этой жизни», а общий пафос стихотворения — сомнение в мудрости «благоразумных».
В статье Фицджеральда «Эхо джазового века», написанной в 1931 году, есть важные слова, помогающие понять позицию его сверстников: «События 1919 года сделали нас скорее циниками, чем революционерами, хотя мы до сих пор роемся в чемоданах, удивляясь, куда, к дьяволу, подевались наш Колпак Свободы — «ведь был же где-то!» — и мужицкая рубаха. Для джазового века было характерно, что мы совсем не интересовались политикой»10. Политикой они не интересовались, политика была «грязным делом». Ею занимались «благоразумные» мудрецы. Но где-то подспудно жила тревога: что сталось с идеалами американской демократии? Фригийский колпак и мужицкая рубаха — прямые, открытые символы. Они не нуждались в расшифровке.
Из сказанного со всей очевидностью следует, что «эпоха просперити» в США вовсе не была временем безоблачного процветания и сплошного экономического бума и что трагизм фицджеральдовских книг объясняется не только биографическими мотивами и принадлежностью писателя к «потерянному поколению», но и самой американской действительностью «джазового века». Именно она порождала у молодого поколения чувство, сформулированное в словах героя первого романа Фицджеральда: «Все боги умерли, все войны отгремели, вся вера подорвана».
3
«Очень богатые люди» — термин, введенный Фицджеральдом. Он шире, чем его прямое значение. Это не обязательно люди, у которых много денег. И даже не всякий человек, у которого много денег, относится к «очень богатым людям». Среди героев Фицджеральда есть такие, у кого денег немного, и они даже работают, но тем не менее относятся к касте «очень богатых». У Джея Гэтсби в «Великом Гэтсби», напротив, денег куры не клюют, но все-таки его нельзя причислить к «очень богатым», хотя он и стремится к этому всей душой.
Среди рассказов Фицджеральда есть один, который представляет в данном случае специальный интерес. Рассказ этот — «Молодой богач» — знамениты и сам по себе, и потому, что его использовал, не слишком корректно, Хемингуэй. Герой его новеллы «Снега Килиманджаро» размышляет о своем опыте общения с богачами: «Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют... Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: «богатые непохожи на нас с вами». И кто-то сказал Фицджеральду: «Правильно, у них денег больше». Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и, когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его еще больше, чем что-либо другое11.
Ознакомившись с новеллой, Фицджеральд возмутился и написал Хемингуэю письмо, в котором потребовал, чтобы тот при последующих переизданиях «Снегов Килиманджаро» не упоминал его имени. Хемингуэй признал правоту Фицджеральда и выполнил его просьбу.
В целях полной ясности процитируем соответсвующее место из «Молодого богача»: «Я вам вот что скажу про очень богатых: они не такие, как мы с вами. Обладание и наслаждение даны им сызмальства, и от этого с ними что-то такое происходит, от чего они делаются податливыми там, где мы сохраняем твердость, циничны там, где мы доверчивы, и понять, что тут и как, очень трудно, если ты не родился богатым. В глубине души они думают, что они лучше нас. Даже когда они нисходят в наш мир и опускаются ниже нас, они все равно думают, что они лучше нас. Они не такие, как мы с вами».
Из этого фрагмента, если перевести его метафоры на логический язык, со всей очевидностью следует, что в понимании писателя «очень богатый человек» — это социально-психологический тип, возникающий во втором, третьем и т. д. поколениях «денежных» семей.
Можно сказать, что для Фицджеральда «очень богатые люди» — это наследственная аристократия доллара. Непременно наследственная. Мир очень богатых — это мир кастовый, замкнутый. Он проникнут самоощущением элитарности и строго хранит непроницаемость своих границ. Даже старая европейская аристократия не обладала столь интенсивность чувством собственной исключительности, как нынешняя аристократия доллара, и не отделяла себя от «всех прочих» с такой свирепой решительностью. Проникнуть в их среду, стать «своим» — дело почти безнадежное.
Естественно, возникает вопрос: откуда у Фицджеральда этот пристальный и напряженный интерес к «очень богатым», к стилю их жизни, ко всему тому, что делает их «непохожими на нас с вами»? Поверим ли Хемингуэю, утверждавшему, что писатель «считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности», и критикам, которые полагали, что Фицджеральд был заворожен блеском богатства и образом жизни состоятельных бездельников? Поверим, но не до конца, не на все сто процентов. Интерес к миру «очень богатых» никогда не исчерпывался у Фицджеральда желанием приобщиться к нему, хотя, спору нет, в юные годы такое желание ему было свойственно. С течением времени этот интерес становился глубже, острее и бесстрастнее. Мир «очень богатых» в сознании писателя перестал быть страной молочных рек и кисельных берегов, но занял свое место в социальной структуре американского общества. Более того, самый класс «очень богатых» представился теперь писателю как закономерное, хоть и прискорбное, следствие исторического развития.
30-е годы в Америке вошли в историю под именем «красного десятилетия». То было время бурное и жестокое. За экономическим крахом 1929 года последовал период глубокой депрессии, массовой безработицы, банкротства и локаутов. Начался мощный подъем рабочего движения, стачки и забастовки, подобно пожару, распространялись по предприятиям страны. Вспыхнул острый интерес к социальным теориям, к марксизму, к опыту Страны Советов. Все это, разумеется, не могло не оказать воздействия на литературную жизнь США. Многие писатели приняли непосредственное участие в бурных событиях эпохи. Другие не участвовали в забастовках, не подписывали воззваний, не печатали публицистических статей и книг, но и на них атмосфера времени оказывала самое интенсивное влияние. Менялось их мировосприятие, отношение к национальному социально-историческому опыту и ко многим другим вещам. К их числу принадлежал и Фицджеральд, всерьез задумавшийся о судьбах демократии и свободы в США.
В творчестве Фицджеральда, как капле воды, отразилась общая идеологическая ломка, характерная для духовной жизни Америки в период между двумя мировыми войнами. До Первой мировой войны сознание американской интеллигенции в массе своей было ориентировано на буржуазно-демократическую идеологию и просветительскую этику. Благородное прошлое страны воплощалось в монументальных фигурах Вашингтона, Джефферсона, Адамса, Хэнкока, а родоначальником американской нравственности, науки и искусства почитался Франклин. «Отцы-основатели» нового государства заложили основы общества, в котором, как им казалось, человеку было гарантировано его естественное и неотчуждаемое право на свободу, равенство и стремление к счастью. Свобода и равенство в этой триаде играли, так сказать, подчиненную роль. Они должны были способствовать реализации стремления к счастью. Но именно здесь и обнаруживала себя буржуазная ограниченность благородного просветительского идеала. Очень быстро в американском сознании выкристаллизовалось понимание счастья как материального успеха. Само понятие счастья уравнялось с понятием богатства. Поначалу казалось, что богатства хватит на всех и что приобрести его вполне возможно трудом собственных рук. Нужно только не лениться. Вскоре, однако, обнаружилось, что все это совсем не так и что освященные буржуазной этикой методы приобретения богатства ведут к результатам, уничтожающим самые основы демократического общества. Свобода и равенство, призванные служить гарантами успеха человеческой деятельности на пути к достижению счастья, пали первыми жертвами неуемного стремления к обогащению. Они превратились в своего рода атрибуты, в производное от богатства. Если ты богат, то можешь претендовать на свободу и равенство с другими. А нет так нет. Сложилась парадоксальная ситуация: общество, гордившееся своим демократизмом, уничтожало самые основы демократии с невиданным усердием.
В переломные моменты истории многие неотчетливые процессы в социальной и духовной жизни народов обретают ясность очертаний, их смысл становится наглядным и очевидным. Неудивительно, что Первая мировая война заставила американцев переосмыслить многое в собственной истории и идеологии. Она положила начало разрушению святынь. Об «отцах-основателях» стали отзываться иронически. Неожиданную популярность приобрели очерки Д. Лоуренса, в которых читатели находили саркастический портрет Франклина как творца нравственного кодекса, созданного словно по заказу мультимиллионера Эндрю Карнеги которому надо было как-то держать рабочих в узде.
Чем дальше, тем стремительнее шел процесс переоценки привычных, устоявшихся ценностей, подстегиваемый бурным течением экономической и социальной жизни США. Сам этот процесс разрушения святынь и переоценки ценностей был неизбежным следствием широкого осознания того факта, что попытки реализовать так называемую «американскую мечту», опираясь на принципы буржуазной идеологии и нравственности, привели к чудовищным результатам, прямо противоположным идеальным предначертаниям: неравенству вместо равенства, закрепощению вместо свободы, страданию вместо счастья и т. д.
Фицджеральд не только не стоял в стороне от этого процесса, но был захвачен им с необыкновенной силой. Как художника его внимание привлекала к себе прежде всего проблема равенства. Историография рисовала перед ним славные картины из области прошлого, когда демократия восторжествовала над аристократией, над системой наследственных привилегий, над замкнутой кастой, которая возвышалась над народом, презирала законы и жила в глубоком убеждении собственного превосходства. Но мысль о том, что эта же самая демократия породила новую аристократию, чудовищно напоминающую аристократию старую, жгучей болью отзывалась в душе писателя. Аристократия, рожденная демократией, — это представление в сознании Фицджеральда превратилось со временем в навязчивую эстетическую идею.
4
Творческое наследие Скотта Фицджеральда обладает абсолютной эстетической ценностью. Чтение его произведений сегодня, как и много лет назад, доставляет высокое художественное наслаждение, воздействует на мысль и эмоции читателя, побуждает его к сопереживанию. Такова судьба лучших творений мировой литературы. Пребывая в статусе литературных памятников той или иной эпохи, они сохраняют, так сказать, динамику бытия, живую душу и продолжают волновать все новые и новые поколения читателей.
Однако значение творческого наследия Фицджеральда не исчерпывается его абсолютной эстетической ценностью. Оно в большей степени определяется той ролью, которую книги писателя сыграли в литературной истории Соединенных Штатов.
Выше уже говорилось о том, что в духовной жизни Америки 20-е годы были эпохой идеологической ломки, переоценки ценностей, выработанных национальным буржуазным сознанием в процессе исторического развития страны. Литература, как одна из форм общественного сознания, естественно, не могла остаться в стороне. Отказываясь от традиционных понятий, представлений и принципов, она мучительно стремилась обрести новые ценности, и в этом своем стремлении искала опору в прошлом, в антипрагматических, гуманистических тенденциях минувших времен. Взоры литературной молодежи 20-х годов закономерно обратились к середине XIX века, к наследию великих философов, поэтов и прозаиков эпохи романтизма. Началась полоса романтического возрождения. Творчество Эмерсона, Торо, Готорна, Мелвилла, По, Уитмена сделалось предметом живейшего интереса.
Американские романтики были первыми бунтарями и нонконформистами в истории национальной литературы. Их сочинения были исполнены яростного протеста против деляческой философии, утилитарной этики, политической коррупции, социального неравенства и несправедливости. Они усомнились в плодотворности принципов, положенных в основу капиталистической экономики и буржуазной социальной организации. Они мучились сознанием бездуховной «новой» Америки, ее безразличием к человеку, его судьбе, его личности, его бессмертной душе.
Философы и писатели прошлого века разработали художественную систему, опирающуюся на концепцию романтического гуманизма. Центральное положение в этой системе занимала неповторимая человеческая личность, а точнее говоря, сознание человека. В сущности, вся романтическая литература была художественным исследованием различных аспектов индивидуального сознания: нравственности, интеллекта, психологии, эмоционального строя, способности к гармоническому развитию, инстинкта красоты и т. п. Усовершенствование или даже революционное преобразование индивидуального сознания мыслилось романтиками как единственно возможный путь перестройки общества. То была великая иллюзия. Несбыточность ее лежит в основе глубочайшего пессимизма, окрашивающего позднеромантическую литературу в США.
Современники Фицджеральда заново открывали романтическую литературу. В ней они находили ценности, утраченные, как им казалось, в ходе прогресса буржуазной цивилизации. Начался процесс освоения романтической идеологии и эстетики, включения завоеваний романтизма в реалистическую систему художественного мышления. Процесс этот был сложен, но плодотворен. Конечным его результатом явилось возникновение нового типа крупномасштабного реалистического повествования, в котором противоречивая картина мира предстает преломленной через личностное сознание человека. Блистательными образцами подобного рода произведений явились выдающиеся творения младших современников Фицджеральда — Э. Хемингуэя, Т. Вулфа, У. Фолкнера, но прежде всего в этом ряду следует назвать, конечно, самого Фицджеральда. Автор отечественной монографии о его творчестве справедливо замечает, что «в сложный период поисков первых двух десятилетий нашего века, когда литература США набирала силы для громадного скачка, сделанного ею после Первой мировой войны, большинство американских прозаиков гораздо сильнее привлекала задача критического изображения общества в целом, чем характерна для лириков интроспекция. Подобная тенденция, побуждавшая художников идти от общего к частному, весьма наглядно проявила себя тогда в творчестве таких писателей, как Теодор Драйзер и Фрэнк Норрис, Джек Лондон и Синклер Льюис, Эптон Синклер и Линкольн Стеффенс»12. «Громадный скачок», о котором говорит Горбунов, оказался в значительной мере возможен благодаря усилиям Фицджеральда, «перекинувшего мост» от традиции романтического гуманизма к реалистическим завоеваниям современной прозы.
Ю. В. Ковалев
1Период процветания, быстрого экономического роста 1924–1929 гг. в США.
2Кстати говоря, термин «джазовый век» вошел в обиход с легкой руки самого Фицджеральда, опубликовавшего в 1922 г. сборник «Рассказы джазового века».
3Cowley M. Exile’s return. N. Y., 1961. P. 236.
4Цит. по: Cowley M. Op. cit. P. 243.
5Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. М., 1965. С. 92.
6Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. С. 98.
7Fitzgerald F. S. The crack up. N. Y., 1956. P. 13.
8Fitzgerald F. S. The crack up. N. Y., 1956. P. 16.
9Ibid. P. 13.
10Ibid. P. 14.
11.Хемингуэй Э. Избранные произведения. М., 1959. Т. 2. С. 304.
12Горбунов А. Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда. М., 1974. С. 6—7.
Великий Гэтсби
Роман
Глава I
В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.
— Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.
К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях — привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и еще чаще делала меня жертвой матерых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за нее уцепиться; еще в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюдимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного доверия — сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере, та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаюсь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутье к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.
А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву — твердый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией заглядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я делал исключение, — Гэтсби, казалось воплощавшего собой все, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность ее умением себя проявлять, то в этом человеке было поистине нечто великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был часть одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом», — это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах.
Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего среднезападного городка. Каррауэи — это целый клан, и, по семейному преданию, он ведет свою родословную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наемника в Федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.
Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет13 в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племен. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрепанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдется места еще для одного человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тетушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору думалось — навсегда.