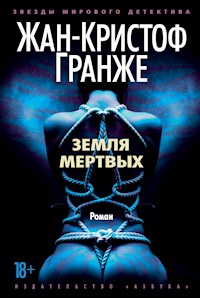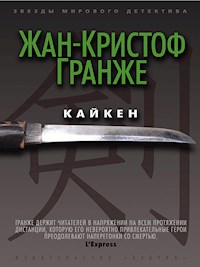
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Krimi
- Serie: Звезды мирового детектива
- Sprache: Französisch
Между Патриком Гийаром и Оливье Пассаном много общего: оба они росли без родителей, воспитывались в одном и том же приюте, самостоятельно добивались своего места в жизни. Вот только один из них полицейский, а другой — главный подозреваемый по делу о жестоком маньяке, орудующем в Париже и убивающем беременных женщин. Пассан уверен, что убийца — Гийар, но привлечь подозреваемого к ответственности не так-то просто. Тем временем Оливье Пассан обнаруживает, что в его доме происходят жуткие, загадочные события, и, судя по всему, убийца подбирается к его самым близким и дорогим людям — жене и детям... Впервые на русском языке! Новый шедевр от мастера остросюжетного романа!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
Жан-Кристоф Гранже
Кайкен
Перевод с французского Александры Ратай (гл. 1-45) и Елены Головиной (гл. 46-93)
Информация о книге
УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
Г 77
KAIKEN
by Jean-Christophe Grange
Copyright © Editions Albin Michel — Paris 2012
All rights reserved
Гранже Ж.-К.
ISBN: 978-5-389-06516-1
Между Патриком Гийаром и Оливье Пассаном много общего: оба они росли без родителей, воспитывались в одном и том же приюте, самостоятельно добивались своего места в жизни. Вот только один из них полицейский, а другой — главный подозреваемый по делу о жестоком маньяке, орудующем в Париже и убивающем беременных женщин. Пассан уверен, что убийца — Гийар, но привлечь подозреваемого к ответственности не так-то просто. Тем временем Оливье Пассан обнаруживает, что в его доме происходят жуткие, загадочные события, и, судя по всему, убийца подбирается к его самым близким и дорогим людям — жене и детям...
Впервые на русском языке! Новый шедевр от мастера остросюжетного романа!
УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44
© А. Ратай, перевод (гл. 1-45), 2013
© Е. Головина, перевод (гл. 46-93), 2013
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство АЗБУКА®
I. Бояться
1
Дождь.
Самый отстойный июнь на его памяти.
Вот уже несколько недель одно и то же: хмурая, промозглая сырость. А ночью и того хуже. Майор Оливье Пассан передернул затвор своей «Беретты Рх4 шторм» и, сняв с предохранителя, положил на колени. Снова взялся за руль левой рукой, правой подхватил айфон. На сенсорном экране крутилась программа GPS-навигатора, подсвечивая его лицо снизу, отчего он смахивал на вампира.
— Где это мы? — пробурчал Фифи. — Черт, куда нас занесло?
Пассан не ответил. Они ползли черепашьим шагом с погашенными фарами, едва различая местность. Круговой лабиринт, как у Борхеса. Кривобокие кирпичные стены с розоватой штукатуркой до бесконечности множили проезды, дорожки и повороты, неизменно выталкивая пришельца наружу, наподобие Великой Китайской стены, если бы она вдруг принялась вращаться вокруг своей оси, защищая запретный центр.
Лабиринт был не чем иным, как «свободной городской зоной»[1] Кло-Сен-Лазар в Стэне.
— У нас нет права здесь находиться, — прошептал Фифи. — Стоит полиции Девяносто третьего[2] прознать, что...
— Заткнись.
Пассан попросил напарника одеться поскромнее, чтобы не привлекать лишнего внимания. И вот нате вам: Фифи напялил гавайскую рубашку и красные шорты скейтбордиста. А уж чем он закинулся перед встречей с Оливье, лучше и не знать. Водка, амфетамины, кокс... Наверняка все и сразу.
— Надень-ка. — Не выпуская руль, Пассан взял с заднего сиденья бронежилет — такой же был под курткой у него самого.
— Еще чего.
— Надень, тебе говорят, в этой твоей рубашке ты прямо трансвестит на гей-параде.
Фифи, он же Филипп Делюк, повиновался. Оливье исподтишка наблюдал за ним. Обесцвеченная грива, шрамы от угрей, пирсинг в уголках губ, из расстегнутого ворота выглядывает огненная пасть дракона, обвивавшего левое плечо и руку. Даже сейчас, после трех лет совместной работы, Пассан не понимал, как подобному раздолбаю удалось выдержать положенные восемнадцать месяцев в Высшей государственной школе полиции, мотивационные беседы, медицинские осмотры...
Но результат налицо: из Фифи вышел полицейский, способный с пятидесяти метров всадить точно в яблочко пулю тридцать восьмого калибра хоть с правой, хоть с левой руки, ночи напролет корпеть над детализациями звонков, не пропустив ни единой строчки. Лейтенанту едва стукнуло тридцать, а он уже раз пять побывал под огнем и ни разу не сплоховал. Напарника лучше у Оливье Пассана еще не было.
— Передай-ка мне адрес.
Фифи сорвал стикер с приборной панели.
— Сто тридцать четыре, улица Сади-Карно.
Судя по показаниям навигатора, они совсем рядом, но на глаза лезли другие названия: улица Нельсона Манделы, площадь Мольера, авеню Пабло Пикассо... Каждые десять метров машина подпрыгивала на «лежачем полицейском». Эти бесконечные бугры Пассана уже достали.
Он не забыл распечатать карту квартала. Кло-Сен-Лазар — один из самых крупных населенных пунктов департамента Сена — Сен-Дени. Здесь в муниципальных домах, основная масса которых извилистой чертой пересекает лесопарк, обитают около десяти тысяч человек. Вокруг, словно часовые, стоят на страже суровые прямоугольные жилые блоки.
— Вот гадство, — сквозь зубы процедил Фифи.
В ста метрах под аркой негры метелили лежачего. Пассан притормозил, поставил машину на нейтралку и дал ей подкатить поближе. Это было избиение по всем правилам: били ногами, и бедолага пытался защитить лицо, но удары сыпались градом, каждый раз заставая врасплох. Один из мучителей в обрезанных джинсах и каскетке «Кангол» заехал ногой несчастному прямо в рот, заставив давиться выбитыми зубами.
— Оближи мои кроссовки, сраный жид! Оближи-ка их, урод! — Негр поглубже вбил кроссовку в разбитые десны жертвы. — Лижи, говнюк!
Фифи выхватил свой «CZ-85» и открыл дверцу.
— Сиди тихо! — остановил его Пассан. — А не то все испортишь.
Раздался вопль. Избиваемый вскочил, взбежал по ступенькам и бросился внутрь здания. Негры заржали, но догонять не стали.
Пассан включил первую скорость, проезжая мимо. Фифи тихонько прикрыл дверцу. И снова «лежачий полицейский». «Субару» двигалась совершенно бесшумно, как подводная лодка на большой глубине. Пассан взглянул на айфон.
— Улица Сади-Карно, — прошептал он. — Приехали...
— И где тут улица?
Справа за оградой стройки виднелось шоссе. Квартал перестраивали. Рекламный щит без тени иронии гласил: «Парк диких кошек». В глубине, среди развалин и стройматериалов, высились безликие квадратные дома того самого типа, к которому на окраине с равным успехом может относиться и школа, и склад.
— Сто двадцать восемь... сто тридцать... сто тридцать два... — вполголоса считал Пассан. — Это здесь.
Оба посмотрели на дверь металлического ангара. Пассан заглушил двигатель, выключил айфон. Снаружи ничего не разобрать, только дождевые капли барабанят по жирным черным лужам.
— И что теперь? — спросил Фифи.
— Идем.
— Уверен?
— Ни черта я не уверен. Просто идем, и все.
Послышался женский крик. Прищурившись, они поискали глазами источник звука. Какие-то типы толкали перед собой девчонку-подростка, а она с рыданиями упиралась. Один пинал ее в зад, второй подзатыльниками подгонял к строительной бытовке.
Фифи снова открыл дверцу.
— Брось. — Пассан схватил его за руку. — Мы здесь не затем. Сечешь?
— А зачем я тогда легавый? — Панк метнул в него бешеный взгляд.
Оливье заколебался. Раздался новый крик.
— Твою мать... — сказал он, сдаваясь.
В один миг они выхватили оружие и выскочили из «субару». Укрываясь за припаркованными машинами, подобрались ближе и напали на подонков, без предупреждений и предложений сдаться. Ударом головы Пассан повалил первого на кучу песка, Фифи ногой подсек второго и перевернул на живот, нашаривая в кармане наручники. Третий унесся прочь, словно демон, выкрикивая ругательства.
В тот же миг растрепанная девчонка, подобная дрожащей тени, исчезла без следа. Полицейские переглянулись. И что теперь? У них нет ни жертвы, ни нападения — ничего. Воспользовавшись заминкой, тот, что лежал на земле, вдруг ударил по пистолету Фифи и вскочил. Раздался выстрел, наручники с лязгом полетели в сторону, а негодяй уже смылся.
— Черт! — ругнулся Пассан.
Что-то заставило его оглянуться на ангар: дверь открылась. Он различил лысый череп, коренастую фигуру, голубые хирургические перчатки. Сколько раз он представлял себе эту минуту! Но в его воображении задержание происходило без сучка без задоринки.
— Ни с места! — крикнул Пассан, направив на убийцу пистолет.
Тот замер. В его мокрой от дождя лысине отражались отблески из приоткрытой двери — внутри что-то горело. Они опоздали! И тут в мозгу Пассана словно щелкнуло. Развернувшись, он увидел, как последний из насильников мчится в сторону жилого массива.
Фифи прицелился, держа палец на спуске.
— Сдурел? — Пассан ударил его по руке.
Крутанувшись, он обнаружил, что лысый тем временем убегает в противоположную сторону. Его черный плащ хлопал под дождем. Давненько они так не обламывались. Пассан глянул на Фифи: тот опять изготовился к стрельбе, целясь то в одного, то в другого беглеца.
— Брось насильника! — заорал Пассан. — Догоняй Гийара!
Лейтенант метнулся к стройке, Пассан побежал к автомастерской.
Сунув «беретту» в кобуру, он неловко натянул перчатки и толкнул рольдверь.
Он знал, что его ждет. Но все оказалось еще хуже.
В помещении автомастерской, заваленной моторами, цепями, инструментами, запчастями, в полутора метрах над землей к цистерне была прикручена молодая женщина — магрибинка в адидасовском костюме. Руки и ноги раскинуты, примотаны приводными ремнями, штаны и трусы спущены на щиколотки, футболка задрана.
Живот ей распороли от грудной кости до лобка, внутренности свисали из раны до самого пола. Перед женщиной в огненной луже пылал ее плод. Все тот же модус операнди[3]. Прошло несколько секунд, а может, несколько веков. Пассан не двигался. В смрадном дыму багровела плоть, младенец словно не сводил с Пассана выеденных огнем глаз. Наконец полицейский стряхнул оцепенение и бросился вперед, пробираясь между шинами, карданными валами и выхлопными трубами. Схватив с пола подстилку, набросил на крошечное тельце, чтобы сбить пламя. Нашел стремянку, одним щелчком раздвинул и поднялся к привязанной женщине. Он знал, что жертва мертва, и все-таки поискал пульс у нее на шее.
Зазвонил айфон. Пассан пошарил в карманах, едва не свалившись при этом со своего насеста.
— Что у тебя? — послышался запыхавшийся голос Фифи.
— Догнал его?
— Куда там! Ушел!
— Ты где?
— Сам не знаю.
— Сейчас буду.
Пассан спрыгнул со стремянки и с пистолетом наготове выскочил за дверь. Он огибал бетоноукладчики, спотыкался о блоки, мешки со штукатуркой, стальные прутья, в темноте ничего не разбирая перед собой.
Через пару метров он растянулся во весь рост, поднялся и злобно огляделся в поисках препятствия, о которое споткнулся. Это оказался Фифи, нога которого застряла под грудой гипсокартона.
— Упал я, Пассан... Грохнулся...
Оливье не знал, смеяться ему или плакать. Он наклонился, чтобы помочь Фифи подняться, но тот заорал:
— Забудь! Хватай гада!
— Где он?
— За стеной!
Пассан обернулся и метрах в ста от себя обнаружил длинную глухую стену. За ней мерцали отсветы: там проходила национальная автомагистраль. Не выпуская из рук пистолета, он бросился вперед, нашел пригорок, поднялся на него, закинул ногу на стену и, сгруппировавшись как мог, спрыгнул с другой стороны.
Перед ним простирались гектары голой земли. Вдали мчались машины. Фары высвечивали фигуру Патрика Гийара: спотыкаясь на раскисшей глине, тот с трудом продвигался к шоссе.
Пассан кинулся за ним. Кевларовый броник стеснял дыхание, ноги утопали в грязи, он едва отрывал их от вязких кочек и все же настигал врага.
Гийар уже подбирался к насыпи, по которой проходило шоссе. Пассан прибавил скорость и, когда преступник уже карабкался на дорожное ограждение, схватил его за ноги и потянул вниз. Убийца цеплялся за густую траву. Взяв за воротник, Пассан развернул его к себе и несколько раз ударил затылком о бетонный сток.
— Сволочь...
Гийар попытался его оттолкнуть. Теперь полицейский дубасил жертву рукоятью пистолета, чувствуя, как кровь заливает руки, глаза, нервы. В нескольких метрах над ними сотрясалась почва под колесами мчащихся машин.
Вдруг Пассан остановился и встал. Убрал оружие, поднялся на насыпь, подтащив тело врага к самой проезжей части.
В темноте вспыхивали фары — в их сторону мчался грузовик.
Полицейский пинком подтолкнул Гийара вперед и прижал к земле. Полуприцеп был уже в паре метров от них.
Пассан закрыл глаза.
Он — Закон.
Он — Правосудие.
Он — Меч и Приговор.
В последнюю секунду Пассан дрогнул. Подхватив Гийара, оторвал его от земли, и они, вместе перевалившись через ограждение, покатились вниз. Взревев, грузовик содрогнулся, словно в конвульсиях, и, слепя фарами, пронесся всего в нескольких метрах от их сцепившихся тел.
2
— Ты еще пожалеешь! Клянусь, тебе это с рук не сойдет!
Пассан промолчал, глядя на капитана антикриминальной бригады. Крепыш-недомерок в джинсовой куртке расхаживал взад-вперед, выставляя напоказ свой «ЗИГ-Зауэр». На рукаве — нашивка его бригады: блок муниципальных зданий в оружейном прицеле. Над кварталом кружил вертолет, сверхмощной фарой высвечивая мокрые от дождя крыши. Пассан повидал немало таких окраин и прекрасно знал, что ищет патруль: засевших в засаде отморозков, готовых броситься в атаку с бутылками, свечными ключами, булыжниками. Спецназовцы уже спустились в подвалы на поиски тележек с камнями.
Оливье с силой потер лицо, словно желая содрать с себя кожу, и отошел в сторону. Эта атмосфера боевого безумия его не затрагивала, он приходил в себя после собственного приступа помешательства. Слепящие фары грузовика, голова убийцы на асфальтовой плахе — смертоносный порыв под личиной защиты закона.
— Время поджимало, — сказал он, снова подойдя к коротышке-полицейскому.
— И ты, даже не предупредив, заваливаешься на мою территорию.
— Наводка пришла слишком поздно.
— О пятьдесят девятой статье ты не слышал?
— Мы хотели застать его врасплох, мать твою. Надо было действовать быстро и скрытно.
— И это ты называешь «скрытно»?! — Капитан злобно расхохотался.
Вокруг них, как в калейдоскопе, мелькали мигалки, ленты ограждения, люди в полицейской форме, белые комбинезоны. Антикриминальная бригада, муниципальная полиция, агенты безопасности, спецназовцы, экспертно-криминалистическая служба — кого тут только не было. Здесь же, прижимаясь к желтым лентам ограждения, толпились парни в слишком широких майках, в куртках с капюшоном.
— Ты хоть уверен, что он и есть Акушер?
— Этого тебе мало? — Оливье указал на дверь автомастерской.
С места преступления как раз выносили тела погибших. Двое сотрудников толкали носилки — жертву упаковали в пластиковый чехол. Следом шел еще один, держа контейнер со льдом и красным крестом на крышке. Внутри — сожженный младенец.
— Черт, из-за вас теперь весь квартал под угрозой. — Капитан коснулся своей нашивки.
— Да твой квартал сам по себе угроза.
— Скажи еще, это я виноват.
Пассан уловил в его взгляде смертельную усталость, и тут же весь его гнев и презрение улетучились. Капитан, измотанный многолетней беспросветной борьбой с городскими беспорядками, просто дошел до ручки. При свете мигалок Пассан снова огляделся. Прилипшие к окнам семьи, местные пацаны, толкущиеся по периметру безопасности, хихикающие детишки в пижамках на порогах муниципальных домов — и блюстители правопорядка в противоударных шлемах, с травматическими пистолетами, готовые стрелять по толпе.
Несколько «этнических» легавых — негров, арабов с полицейскими нашивками — пытались утихомирить народ. Пассан вспомнил индейцев американского Запада, служивших белым проводниками в незнакомом враждебном мире, — такими же проводниками были и эти полицейские.
Он развернулся и пошел к своей машине, прокручивая в голове события, что привели его к вратам ада. Позавчера исчезла двадцативосьмилетняя Лейла Муавад, находящаяся на девятом месяце беременности. А несколько часов назад пришло сообщение из финансового отдела: в холдинг, которым руководит их главный подозреваемый, Патрик Гийар, входит оффшорная компания, владеющая автомастерской в Стэне по адресу: Сади-Карно, 134. Этот ангар, о котором никто никогда не слышал, находится менее чем в трех километрах от мест, где были найдены три первых трупа.
Пассан позвонил Фифи. Они не медлили и все же опоздали — эти несколько минут стали роковыми для Лейлы и ее ребенка. За долгую службу Пассан всякого навидался, и бог знает какая по счету несправедливость не потрясла его до глубины души.
Внезапно чей-то вопль разорвал общий гомон. Молодой мужчина растолкал спецназовцев и бросился к труповозке. Пассан узнал его сразу: Мохаммед Муавад, тридцать один год, муж Лейлы. Накануне Оливье брал у него показания в помещении судебной полиции Сен-Дени.
На сегодня с него хватит. Вот-вот подъедет прокурор, будет назначен новый следственный судья, пусть он и разбирается с Иво Кальвини, судьей, который занимался расследованием серии убийств. В любом случае Пассану это дело не поручат. По крайней мере, не сразу. Сперва придется искупить грехи: незаконный обыск, проваленное задержание на месте преступления, нарушение запрета подходить к Гийару ближе чем на двести метров. Применение насилия к подозреваемому, на которого распространяется презумпция невиновности. Адвокаты этого говнюка сожрут его заживо.
— Валим отсюда?
Фифи курил, сидя в «субару». Из открытой дверцы торчали его волосатые ноги, одну из которых уже перевязали врачи «скорой».
— Обожди секунду.
Пассан вернулся в эпицентр событий. Теперь ему нескоро представится возможность разжиться сведениями по делу. На месте преступления трудились эксперты криминалистического отдела, вспышки фотоаппарата то и дело выхватывали куски стен, из рук в руки переходили порошки, пинцеты, запечатанные пакетики. Все это он наблюдал сотни раз, и его уже тошнило от этого зрелища.
Он высмотрел координатора криминалистов, Изабель Заккари, которую сам же и вызвал по телефону. В своем белом комбинезоне, она стояла рядом с черными следами, оставленными внутренностями жертвы.
— Уже что-то есть?
— Дело у тебя?
— Сама знаешь, что нет.
— Тогда я вряд ли могу...
— Хотя бы самые первые результаты.
Заккари стянула капюшон, как будто ей не хватало воздуха. В маске с боковыми фильтрами вокруг шеи она смахивала на мутанта. При каждом ее движении слышался шелест сминаемой бумаги. Она была в очках, обычно придававших ей высокомерный и сексуальный вид, но только не сегодня вечером.
— Пока ничего не могу сказать. Мы все отправляем в лабораторию.
Пассан окинул взглядом помещение: окровавленная цистерна, свисающие ремни, потемневшие от крови хирургические инструменты на стойке. Здесь еще держался запах горелого мяса.
— Нашли его отпечатки? — Пассана вдруг поразила одна мысль.
— Полно. Но это ведь его мастерская?
Надо искать их на теле убитой женщины, на инструментах, которыми негодяй орудовал, на канистре с бензином, при помощи которого сжег ребенка. А еще частички его кожи под ногтями жертвы — любую органику, способную связать владельца автомастерской с его добычей.
— Пришли мне результаты мейлом.
— Слушай, это же не по правилам, я...
— Это мое дело.
Заккари покачала головой. Пассан знал, что она все сделает: восемь лет работы бок о бок, немного флирта, сексуальное напряжение, всегда существовавшее между ними, — все это не прошло даром.
Снаружи ему легче не стало. Опять лило как из ведра. Столпившиеся у ограждения местные прорывали цепь спецназовцев, — того и гляди, все это плохо кончится. Только в одном повезло: журналистов пока не видно. Каким-то чудом ни один репортер, фотограф или оператор до сих пор не объявился.
Огибая машину, чтобы сесть за руль, Пассан увидел еще одни носилки, которые подкатывали к «скорой помощи». На них, укрытый серебристым термоодеялом, лежал Патрик Гийар, в шейном корсете и кислородной маске. Прозрачный полимер искажал черты, возвращая ему истинный облик — это было лысое белое чудовище с безобразной физиономией.
Санитары открыли дверцы машины и осторожно вкатили носилки внутрь. Синие мигалки отражались в складках переливчатого одеяла, и казалось, что палач выглядывает из кокона с бирюзовыми блестками.
Их взгляды встретились.
То, что он увидел в глазах убийцы, убедило его: война еще не выиграна.
Возможно даже, не эта битва.
3
Через час Оливье Пассан жмурился от удовольствия, стоя под душем в своем новом офисе. Вода была словно наделена некой магией: она смывала не только грязь и пот, но и вонь горелого мяса, видения истерзанной плоти, жажду убийства и разрушения, которая все еще не отпускала его. Он склонил голову под тугими струями — прохладными, почти холодными. Покрасневшую под напором воды кожу слегка саднило, освежающий ливень хлестал по затылку.
Наконец он вытерся и почувствовал себя обновленным. Обстановка Центрального управления судебной полиции на улице Труа-Фонтано в Нантере лишь усиливала это впечатление. Помещения в стиле хай-тек, просторные и безликие, — ничего общего с мрачным лабиринтом на набережной Орфевр[4]. Многие отделы перевели сюда, пока не начнут возводить новый дом номер 36. Хотя, по слухам, денег на строительство нет, и полицейские скоро вернутся к родным пенатам.
Голый по пояс, он изучал себя в зеркале над умывальником. Худое лицо, квадратная челюсть, стрижка ежиком: скорее десантник, чем легавый. Под шапочкой коротких волос — тонкие и правильные черты. Он опустил взгляд на свою грудь: выпуклые мускулы, четкие линии. Это зрелище стоило часов, проведенных в спортзале. Пассан тренировался не ради физической формы, красота заботила его еще меньше — для него это было вещественным доказательством собственной силы воли.
Он вернулся в раздевалку, натянул грязную одежду и зашел в лифт. Третий этаж. Стальная арматура, стеклянные стены, серый ковролин. Это холодное однообразие ему даже нравилось.
Отмытый и причесанный Фифи возился с кофемашиной.
— Что, не работает?
— Еще как работает. — Панк со всей силы пнул агрегат.
Подхватив дымящийся стаканчик, он протянул его начальнику и снова ударил по машине, чтобы раздобыть себе другой. Под намокшей гривой его продырявленная пирсингом кожа выглядела особенно нездоровой.
Они молча выпили кофе и с одного взгляда поняли друг друга: говорить о чем-нибудь еще, любой ценой сбросить напряжение. Но молчание затянулось. Помимо профессии, у них была только одна общая тема: застой в личной жизни.
— Что у вас с Наоко? — Фифи решился первым.
— Разводимся. Уже официально.
— А с домом что? Будете продавать?
— Ну нет. Только не сейчас. Оставим.
Напарник недоверчиво хмыкнул. Он знал, что решение Пассана никак не зависит от ситуации на рынке недвижимости.
— И кто же там будет жить?
— Мы оба. По очереди.
— Как это?
— Будем жить там по очереди. — Пассан смял стаканчик и швырнул в мусорку. — Каждый по неделе.
— А ребятишки?
— Они останутся, чтобы не менять школу. Мы все обдумали: это их меньше травмирует.
Фифи промолчал, вновь всем видом демонстрируя недоверие.
— Теперь все так делают, — добавил Пассан, словно пытаясь убедить себя самого. — Сейчас это очень распространенная практика.
— Это дурацкая практика. — Лейтенант тоже выкинул стаканчик. — Скоро они будут принимать вас в вашем же доме. Будете туристами под собственной крышей.
Пассан поморщился. Он неделями взвешивал это решение, стараясь уверить себя, что другого выхода нет. Неделями отбрасывал любые возможные возражения.
— Или так, или я и дальше буду жить в своем погребе.
Вот уже полгода, как он обитал в подвале собственного дома. Словно опасаясь бомбежки, укрывался в помещении, куда свет проникал через оконца на уровне земли.
— И чего? — фыркнул Фифи. — Будешь приводить девок к себе домой? Чтобы Наоко натыкалась на их трусики в постельном белье? И сама спала в той же постели?
— Начнем прямо сегодня, — отрезал Пассан. — Эта неделя за Наоко. А я перебираюсь в квартирку, которую снял в Пюто.
Панк удрученно покачал головой.
— Ну а как у тебя с Орели? — Пассан перешел в наступление.
Фифи ухмыльнулся, наливая себе очередной стаканчик кофе.
— Позавчера она уснула, когда мы трахались. — Он подул на стаканчик. — Как по-твоему, это хороший знак?
Они расхохотались. Все лучше, чем вспоминать жуткий след, оставленный Акушером.
4
Под скрип дворников Пассан рассеянно прислушивался к новостям по радио. Он направлялся в Сюрен, чтобы провести в своем доме последние часы перед переездом в Пюто, но еще не решил, завалится ли спать, продолжит упаковывать коробки или займется рапортом. Нельзя сказать, чтобы понедельник 20 июня 2011 года был богат новостями. Внимание привлекло единственное сообщение: история разведенного мужчины, объявившего голодовку в знак протеста по поводу денежной компенсации, которую его обязали выплачивать бывшей супруге. Пассан невольно улыбнулся.
С Наоко подобные трудности ему не грозят. Один адвокат, совместная опека над детьми, даже выходного пособия не потребуется: жена зарабатывает намного больше. Дом — единственное имущество, которое им предстоит разделить.
Он ехал по набережной Дион-Бутон в сторону моста Сюрен и дрожал от холода, но включать печку не хотелось. Как-никак июнь, черт побери! Проклятая погода действовала на нервы. Уродская погода, от которой привычно ныла спина, — зябкая и скупая, без намека на летнее изобилие.
От Нантер-Префектюр он мог бы добраться до Мон-Валерьен и через город, но ему хотелось простора — неба и реки под восходящим солнцем. На самом деле он почти ничего не видел: Сену слева от него с дорожной насыпи не разглядишь, а справа деревья заслоняли город. Хмурое небо пропиталось водой, словно губка. Он мог сейчас находиться в любом месте на этой планете.
Пассан вспоминал, как прижимал Гийара ногой к земле, готовый швырнуть головой вперед под колеса грузовика. Когда-нибудь дверь камеры захлопнется за ним самим не с той стороны. Семья — едва ли не последнее, что еще связывало его с нормальной жизнью, — и та потерпела крах.
Он свернул направо, поехал по бульвару Анри-Селье, потом по авеню Шарля де Голля двинулся в сторону Мон-Валерьен. По мере подъема появлялись знакомые приметы: дома, притулившиеся к склону холма, заросшие плющом стены. Одно за другим открывались кафе.
Пассан остановился возле уже освещенной булочной. Круассаны, багет, чупа-чупс. Его вновь охватило ощущение нереальности. Есть ли связь между этими безобидными вещами и кошмаром в Стэне? Удастся ли ему вот так запросто вернуться в обычный мир?
Он сел в машину и продолжил подъем. Вершина Мон-Валерьен с ее просторными лужайками напоминала поле для гольфа. Здесь царила атмосфера высокогорного плато — симметрия линий, ровная местность, водоочистительная станция с ее четко очерченными трубами. Стадион Жан-Мулен с площадками, словно выведенными по линейке, американское братское кладбище с рядами белых крестов.
Утренний свет с трудом продирался сквозь сумрак, но открывавшийся вид на Париж впечатлял. А особенно радовало Пассана расстояние. Для него эти тысячи гаснущих фонарей, чаща башен и зданий, укрытых пеленой дождя, представляли собой трагическую арену первобытной войны. Здесь, на этих высотах, он чувствовал себя в безопасности. Он вернулся в свое святилище. Свое убежище.
Добравшись до улицы Клюзере, он притормозил перед воротами, открыл их пультом и как можно медленнее проехал по подъездной аллее, чтобы сполна насладиться видом. На первый взгляд это смотрелось как белый блок на зеленом фоне. По местным меркам у него был огромный сад — около двух тысяч квадратных метров лужайки. Газон обходился недешево, но оно того стоило.
Пассан сознательно почти ничего здесь не посадил, только слева разбил небольшой японский сад под сенью нескольких сосен. Свернув направо, заглушил двигатель. Парковки у дома не было, и Пассан не стал нарушать целостность архитектуры. Построенное в двадцатых годах здание представляло собой прямоугольный параллелепипед — воплощение интернационального стиля, увенчанное крышей-террасой. Стальные несущие конструкции, железобетонные опоры, поддерживающие открытую галерею, окна в ряд. Строго, прочно, функционально. Он не сдержал горделивой улыбки.
С пакетом круассанов в руке Пассан отпер дверь и вошел в прихожую. Сунул по чупа-чупсу в карманы дождевиков Синдзи и Хироки на вешалке — сюрприз от папы. Потом разулся и прошел в гостиную.
Поначалу это была выгодная сделка. В марте 2005 года вследствие кончины Жан-Поля Кейро, последнего представителя семьи торговцев произведениями искусства, дом выставили на продажу. Пассан узнал об этом первым по очень простой причине: именно он, как офицер уголовного отдела, констатировал смерть Кейро, когда тот, погрязнув в долгах, прострелил себе горло и тем завершил историю своего рода.
А полицейский буквально влюбился в это место в тот самый миг, когда труп лежал у его ног. Пассан заглянул в каждую комнату, не обращая внимания на их плачевное состояние, — наследник давно выродился в бродягу, незаконно проживающего в собственной лачуге. Пассан представлял себе, во что сможет превратить этот дом.
Покупка состоялась благодаря Наоко. Уже год она занимала важный пост в аудиторской фирме, к тому же за время работы в модельном бизнесе сумела отложить приличную сумму. Да и ее родители, владевшие землей в Токио, внесли свою лепту. Хотя вклад жены значительно превышал сумму, которую выплатил Пассан, они стали равноправными собственниками. Зато большую часть ремонтных работ он собирался выполнить сам.
И взялся за дело с чувством, что трудится во имя прочности своего домашнего очага. Физически укрепляет его основания, защищает их любовь от внешних угроз, от износа, от эрозии... Но это не сработало. Дом устоял перед внешними опасностями, но защитить любовь не удалось.
Он направился на кухню и едва не рухнул под натиском Диего, ринувшегося навстречу. Этот огромный серый пиренейский пес определенно чувствовал бы себя вольготнее на горном пастбище с отарой. Как всегда, он бурно излил свой восторг при виде хозяина. Когда Наоко захотела купить собаку, Пассан сперва стал возражать — непременный песик в образцовой буржуазной семье. А теперь только Диего и был на его стороне.
— Заткнись, Диего, — шепнул он. — Весь дом перебудишь...
Оливье выложил круассаны в корзинку для хлеба, багет оставил на видном месте на столе. Заодно вынул и клетчатые салфетки, кружки мальчишек с их написанными по-японски именами, лакированную чашку, из которой Наоко пила свой чай с молоком. Варенье, хлопья, апельсиновый сок. Он не грустил, выполняя эти привычные действия в одиночестве: ему давно не приходилось завтракать с женой и детьми.
Пассан уже выходил из кухни, когда невольно замер перед фотографиями на стене. Включил свет, чтобы было лучше видно, и на глаза ему попалось фото, на котором они с Наоко стоят на балконе храма Киёмидзу-дэра[5] над Киото. Он — с натянутой улыбкой, а Наоко, повинуясь профессиональному рефлексу модели, приняла самую выгодную позу в три четверти. Несмотря на эту вымученность, снимок все еще дышит счастьем. А главное — взаимным уважением, гордостью за то, что они вместе.
Он взглянул на другое фото. 2009 год, групповой портрет в Сибуя, модном квартале Токио. У него на руках сидит четырехлетний Хироки в шапочке в виде Тоторо, знаменитого персонажа Миядзаки. Наоко держит шестилетнего Синдзи, в знак победы сложившего ладошки буквой V. Все они смеются, но в позах взрослых уже чувствуется неловкость, напряженность. Усталость и неудовлетворенность — прогрессирующие метастазы времени.
Слева — пляж на Окинаве, 2000 год, их свадебное путешествие. Подробности стерлись из памяти. Перед глазами — взволнованная Наоко у стойки регистрации в аэропорту Руасси, достающая бонусную карту «Флаинг блю», чтобы зарегистрировать свои мили. Наоко была фанаткой скидочных карт, постоянной участницей распродаж. Ему вспомнилось, как в тот миг в аэропорту он поклялся всегда защищать эту девчонку, верившую, будто что-то можно «застраховать».
Сдержал ли он свою клятву?
Пассан выключил свет, прошел через гостиную и начал спускаться по бетонной лестнице.
Пришло время вернуться в свои покои. В подземный дворец Мышиного короля.
5
Коридор с крашеными кирпичными стенами. Слева чулан и прачечная со стиральной машиной и сушкой, справа закуток, в который Пассан провел воду и оборудовал ванную. В глубине комната, служившая ему спальней и кабинетом.
Он разделся в прачечной, сунул одежду в бак и запустил стирку. Так он жил уже несколько месяцев, отдельно от семьи, поедая за письменным столом свои бенто и засыпая в одиночестве. Голый, он посмотрел на крутящиеся в мыльной воде запачканные кровью тряпки. Машина, стирающая кошмары.
Пассан вынул из корзинки чистую майку и трусы, пропахшие кондиционером для белья, натянул их и прошел в комнату. Прямоугольник площадью двадцать квадратных метров, с голыми бетонными стенами и слуховыми окнами. С одной стороны раскладушка, с другой — доска на козлах, в глубине верстак, на котором он разбирал и чистил оружие. В каком-то смысле этот бункер подходил ему больше, чем просторные помещения наверху, — здесь он словно в засаде.
На стенах Пассан развесил портреты своих кумиров. Юкио Мисима, совершивший сэппуку в 1970 году, в возрасте сорока пяти лет. Рентаро Таки, «японский Моцарт», умерший от туберкулеза в 1903 году, в двадцать четыре года. Акира Куросава, снявший «Расёмон» и многие другие шедевры и едва выживший после попытки самоубийства в 1971 году, когда провалился первый его цветной фильм «Под стук трамвайных колес». Не слишком веселая компания...
Пассан включил подсоединенный к колонкам айпод, уменьшил громкость до минимума. Симфоническая эклога Акиры Ифукубе для кото и оркестра. Потрясающая вещь, хотя во Франции он наверняка единственный, кто ее слушает. Пассан был страстным любителем японской симфонической музыки, совершенно не известной на Западе и едва ли более популярной в самой Японии.
Время чая. Когда-то он купил в Токио приспособление, в котором вода сохраняла температуру восемьдесят градусов. Он наполнил чайник и бросил в него пять граммов обжаренного зеленого чая «ходзитя». Пока чай заваривался (ровно тридцать секунд), зажег палочку благовоний и раздул тлеющий конец, помахав рукой. Он ни за что не стал бы на него дуть: у буддистов рот считается нечистым.
С чашкой в руке Пассан вытянулся на кровати и закрыл глаза. Кото, нечто вроде горизонтальной арфы, издавало очень сухое вибрато, одновременно горькое и меланхоличное. Чудилось, что каждый звук исходит не от струн, а от его собственных нервов. Горло сжималось, а в груди разливалась умиротворяющая волна. Дыхание сердца, освобождение ума...
Япония...
Открыв ее, он открыл самого себя. Первое же путешествие мгновенно упорядочило его существование. Он родился в 1968 году в Катманду. Его родители, распаленные гашишем, зачали сына в наркотическом угаре у подножия статуи Будды. Отец умер на следующий год, ради покупки опиума сдав слишком много крови. Мать испарилась через пару месяцев, не оставив адреса. Французское посольство в Непале сделало все необходимое: его отправили во Францию, и он стал питомцем Республики.
Следующие пятнадцать лет Оливье Пассан скитался по приютам и приемным семьям, сталкиваясь то с порядочными людьми, то с подонками, подвергаясь хорошему и дурному влиянию. В школе учился неровно, получая то самые высокие, то самые низкие оценки. Наконец определившись, он пошел по дурной дорожке: угон машин, торговля поддельными документами, рэкет. Но ему удалось выжить и избежать проблем с легавыми.
В двадцать лет он словно пробудился. Бросил западную окраину — Нантер, Пюто, Женевилье — и на накопленные преступным путем деньги снял комнату в Пятом округе на улице Декарта. Записался на юрфак Сорбонны, в нескольких сотнях метров от дома.
Три года он прожил затворником на своих семи квадратных метрах: зубрил, питался гамбургерами, вслух повторял лекции, уставившись в потолок. А еще он увлекся искусством, философией, классической музыкой — настоящий курс дезинтоксикации. Когда деньги кончились, перебрался в комнату, предоставленную организацией помощи студентам, но больше никогда не нарушал закон.
Получив диплом, поступил в Высшую государственную школу полиции. Если подумать, это был единственный выбор, способный направить его в нужное русло, одновременно позволявший оставаться в привычной среде — в мире ночи, адреналина, преступлений.
Как сказал ему однажды один из приемных отцов, вышедший на пенсию рабочий завода Шоссон в Женевилье: «Легавый — это просто неудавшийся бандит».
И Пассан решил обернуть неудачу в свою пользу. В этом выборе присутствовала и личная причина: стать офицером полиции означало служить своей стране, а своей стране он задолжал. В конце концов, именно французское государство спасло его, вскормило и взрастило.
Полтора года в полицейской школе он вел себя как пай-мальчик и получал высшие баллы по всем предметам. Когда настало время выбрать место службы, у него возникла странная идея. Вместо того чтобы занять перспективную должность в Министерстве внутренних дел или в престижном отделе Управления судебной полиции, он подал запрос о вакансиях за границей: на место связного, методиста, разведчика... В сознательном возрасте он никогда не покидал пределов Франции, но сейчас предпочел самую далекую страну и получил место стажера офицера связи в Токио.
Когда он приземлился в аэропорту Нарита, его жизнь раз и навсегда перевернулась.
Отныне Япония стала излюбленной страной его ожиданий, желаний и надежд. Каждая ее черта пробуждала в нем смутные чаяния, прежде неведомые.
Он с головой погрузился в эту культуру — как будто родился, чтобы быть японцем.
Пассан тут же стал идеализировать этот край, смешивая реальность и вымысел. Он наслаждался врожденной вежливостью японцев, чистотой улиц, общественных мест, туалетов. Изысканностью еды, непреложностью правил и предписаний. К этому он добавлял уже исчезнувшие традиции: кодекс чести самураев, очарование добровольной смерти, красота женщин на гравюрах укиё-э.
Все прочее он игнорировал — бешеный материализм, технологическую одержимость, отупение людей, работающих по десять часов в день. Чувство общности, граничащее с безумием. Он также отвергал эстетику манги, на дух ее не переносил из-за этого дикого пристрастия к огромным черным глазам — самому ему нравился только миндалевидный разрез глаз. Он ничего не хотел знать о гонке за гаджетами, увлечении игровыми автоматами патинко, ситкомами, видеоиграми...
Но прежде всего Пассан отрицал упадок Японии. Со времени первого его приезда в страну положение неизменно ухудшалось: экономический кризис, постоянно растущий внешний долг, безработица молодежи. Он все еще искал на улицах культового актера Куросавы Тосиро Мифунэ с его мечом, не замечая женоподобных андрогинов, уткнувшихся в манги гиков, сонных служащих в метро. Новые поколения, унаследовавшие не силу предков, а, напротив, накопившуюся тяжкую усталость. Общество, которое наконец расслабилось, зараженное западной расхлябанностью.
Все эти годы, даже женившись на ультрасовременной японке, Пассан по-прежнему мечтал о вневременной Японии, в которой черпал душевный покой и равновесие. Как ни странно, он никогда не интересовался боевыми искусствами, ограничившись приемами, которым научился в полицейской школе, и так и не проникся медитативными техниками дзен. Он создал для себя этот мир строгости и красоты, чтобы противостоять тяготам своей профессии. Землю обетованную, где он поселится, когда силы его окончательно иссякнут. И наутро после такой ночи, как в Стэне, у него всегда оставались эклога Ифукубе и печальный взгляд Рентаро Таки.
При этой мысли он открыл глаза и нащупал возле своей раскладушки сборник хокку. Полистал и нашел нужные слова:
При свете луны
Я покидаю лодку,
Чтобы войти в небо...
Пассан перевернул несколько страниц в поисках подходящего стихотворения, но внезапно отрубился — как умирают от пули в лоб, и сны воздвигли над ним тяжелую каменную гробницу.
6
Взъерошенная, помятая, сонная Наоко, замерев на пороге логова людоеда, смотрела на мужа.
Перед ней покоился обломок — ни человека, ни тем более полицейского — Пассан был лучшим полицейским в мире, — а обломок мужа. На этом поприще он полностью провалился, и не ей его упрекать: она достигла той же точки невозврата.
Как они дошли до такого? — постоянно спрашивала она себя. Озарявший их свет погас, любовь, подобно загару, постепенно сошла на нет, хотя никто этого даже не понял. Но почему ее сменила глухая ненависть? Откуда это досадливое безразличие? У нее было по этому поводу собственное мнение: все дело в сексе. А точнее, в его отсутствии.
В Токио девушки шепотом передавали друг другу волшебное число. Если верить знаменитому опросу, все без исключения французы занимаются любовью три-четыре раза в неделю. Это обилие восхищало японок, привыкших к вялому либидо своих мужчин. О Франция — страна романтики, сексуальный рай!
До переезда в Париж Наоко не знала главного: тщеславия французов. Но теперь, познакомившись с ними поближе, запросто представляла себе, как они похваляются своими воображаемыми сексуальными подвигами, с ухмылкой и игривым блеском в глазах.
Вот уже два года, как Пассан до нее не дотрагивался, и теперь ни о какой близости между ними не могло быть и речи. От усталости они перешли к досаде, затем к ненависти и, наконец, к какой-то бесполой отстраненности, что объединяет членов одной семьи, которыми они все-таки оставались.
Друзья настороженно наблюдали за упадком их союза. Олив и Наоко — эталон, прекрасная история любви, абсолютное единение. Образец, вызывавший зависть, но и даривший надежду. А потом появились первые неумолимые признаки. Разговор на повышенных тонах, язвительные замечания за ужином, частые отлучки... И невольные признания: «У нас все разладилось. Подумываем о разводе...»
Окружающие наивно объясняли это крушение культурными различиями. На самом деле все было наоборот: этих различий как раз и не хватило, чтобы спасти их от скуки.
Подобно ученому, Наоко наблюдала за развитием катастрофы, отмечая каждый этап, каждую деталь. Когда они только познакомились, Пассан был обращен к ней, словно подсолнух к солнцу. В то время она была его кровью, его светом. И никогда прежде она так не возносилась, потому что чувствовала себя удовлетворенной, сияющей и такой гордой... А затем он нашел источник в другом месте — или попросту в себе самом. Он, как говорится, вернулся к своим истокам: к работе полицейского, к национальным ценностям, а позже — к детям. А еще, как она знала, к ночи, насилию, пороку... В этом черно-белом мире, состоящем исключительно из победителей и побежденных, из союзников и врагов, для нее не осталось места.
Ей казалось, она уже достигла дна. Но она ошибалась — отметка опустилась еще ниже. Она стала для мужа препятствием, помехой свободе. Но что он стал бы делать с этой свободой? И разве он и так не был свободен? Если она задала бы Пассану этот вопрос, он бы не нашел ответа. Он об этом не задумывался, не желал признавать их поражение, сосредоточившись на ремонте дома, на службе и на заботе о сыновьях. Всему этому он отдавался стиснув зубы, глухой к зову плоти. Ей от него перепадали лишь враждебность и раздражение.
Тогда и она ожесточилась, ведь любовь питается чувством другого. Без практики сердце черствеет, теряешь всякую способность к взаимности. И в конце концов, пытаясь защитить себя, замыкаешься в самом грустном, что только есть на свете: в своем одиночестве.
Наоко бесшумно проскользнула в комнату Пассана — она всегда звала его на японский манер, по фамилии. Задернула занавески, выключила музыку, убрала книгу. При этом она даже не взглянула на мужа: это были не знаки внимания, а лишь рефлексы домашней хозяйки.
Поднялась по лестнице; на кухне увидела круассаны в хлебнице, накрытый стол и не удержалась от улыбки. Охотник за убийцами, сам убийца, Пассан был еще и ангелом-хранителем.
Наоко сделала себе кофе и рассеянно взглянула на фотографии на стенах. Сколько раз она смотрела на них, а теперь уже не замечает. За ними ей виделось нечто другое. Ее одинокая судьба. Скрытые искания.
Ведь Наоко всегда была одинокой.
7
Рожденная под знаком Кролика, Наоко Акутагава прошла через обычный для японских детей ад. Суровое воспитание, основанное на ремне, ледяном душе, лишении сна и еды... Террор.
С ее отцом, родившимся в 1944 году, обращались точно так же. В Европе говорили бы о наследственном насилии: ребенок, которого бьют, часто и сам становится жестоким родителем. А в Японии рассуждали просто: от подзатыльников одна польза. Ее отец, именитый профессор истории в Токио, служил тому живым доказательством.
В школе приходилось не легче, чем дома. Наоко полагалось и быть лучшей в лицее, и готовиться к конкурсу в университет, хотя две эти задачи не имели между собой ничего общего. А значит, после напряженных дневных занятий Наоко училась еще и на вечерних курсах, по выходным и на каникулах. В конце каждого триместра ей сообщали результаты национальной классификации. Так что в течение года она знала, что сейчас занимает 3220-е место в списке, и, следовательно, в тот или другой университет путь ей уже заказан. Информация не слишком обнадеживающая.
Но Наоко трудилась в поте лица, не покладая рук, без единого выходного дня и даже свободного часа.
А еще надо было выкроить время для уроков боевых искусств, каллиграфии, хореографии, школьных дежурств... При этом без конца повторяя про себя тысячи кандзи — иероглифов китайского происхождения, у каждого из которых несколько значений и вариантов произношения. И постоянно занимаясь самоусовершенствованием, нравственным и физическим, чему помогала железная самодисциплина.
И в то же время — в чем заключается один из бесчисленных парадоксов Японии — мать отчаянно баловала Наоко. До восьми лет дочка спала в ее постели. В пятнадцать она бы ни за что не заночевала вне дома, в восемнадцать не приняла бы ни единого решения, не посоветовавшись с «мама-сан».
Наконец, окончив частную протестантскую школу в Йокогаме, Наоко поступила на престижный факультет в том же городе. В эти годы она так часто ездила по маршруту Токио — Йокогама, что ей уже казалось, будто он навсегда вошел в ее кровь, впечатался в гены. И ее дети унаследуют названия его станций вместо хромосом.
Не такая способная, чтобы заняться медициной, но достаточно упрямая, чтобы противостоять отцу, заставлявшему ее учиться на юриста, она выбрала смешанное образование: бухгалтерская экспертиза, языки, история искусств.
1995 год. Новый поворот. В метро к ней подходит фотограф и предлагает сделать пробные снимки. Наоко не верит своим ушам. Ей двадцать лет, и никто никогда словом не обмолвился о ее красоте. В Японии родителям не приходит в голову хвалить ребенка за внешность, но Наоко красива. По-настоящему красива. После того первого раза она убеждается в этом изо дня в день. Она проходит кастинг за кастингом и получает, как ей кажется, безумные гонорары. Родителям она ничего не говорит и продолжает учебу, тайком откладывая деньги, чтобы добиться независимости от отца. Сбежать раз и навсегда.
Впрочем, она уже поняла: чтобы сделать карьеру, придется уехать за границу. Ее внешность не отвечает критериям азиатского рынка, в Японии предпочитают евразиек, у которых глаза не раскосые, или местных девушек, но с некой изюминкой, с возбуждающей крупицей экзотики...
В двадцать три года, получив свои дипломы, она улетает в Штаты, затем в Европу: Германия, Италия, Франция. У нее внешность настоящей японки, которая так заводит западных мужчин: гладкие черные волосы, высокие скулы, короткий носик с легкой горбинкой.
А о ее глазах один миланский фотограф сказал: «У тебя веки мягкие, как кисть, жесткие, как скальпель».
Она не поняла, что это значит, но ей было плевать: работы навалом, деньги текут рекой. Наконец она обосновалась в Париже — исключительно по деловым соображениям. Она осуществила мечту, но не свою, а материнскую: ока-сан[6] — законченная франкофилка, смотрит фильмы «новой волны», слушает Адамо, читает Флобера и Бальзака. Наоко готовила уроки под звуки «Падает снег», раз двадцать смотрела «Презрение» Жан-Люка Годара и назубок знает «Мост Мирабо».
Контраст между идеализированным Парижем матери и открывшимся Наоко враждебным городом ошеломил. Все здесь было чужим. Она плутала по грязным улицам, к ней приставали таксисты. А больше всего шокировала наглость французов: они в открытую насмехались над ее акцентом, не пытались хоть в чем-то помочь, перебивали, говорили очень громко, особенно если были против. А французы всегда против.
В психиатрической больнице Святой Анны есть отделение для пациентов, имеющих диагноз под названием «пари секогун» — «парижский синдром». Каждый год сотня японцев, разочарованных Парижем, впадают в депрессию, а то и в паранойю. Их госпитализируют, лечат и отправляют на родину. С Наоко такого не случилось.
У нее закаленное сердце — спасибо, папа! — и она не возлагала заранее на этот город никаких романтических надежд.
Через два года, подучив французский, она бросила работу модели — это ремесло и сама среда были ей омерзительны — и стала тем, чем и являлась на самом деле: женщиной, руководимой голым расчетом. Поначалу ей поручали отдельные аудиторские проверки, всегда от японских или немецких фирм. Затем она поступила в крупную компанию ASSECO, и отныне ее будущее было обеспечено.
Единственная оставшаяся трудность была связана с сексом. Наоко сражалась не за то, чтобы преуспеть через постель, а за то, чтобы преуспеть без постели. С этим она уже сталкивалась в модельном бизнесе, но в тусклом мире аудитов и налоговых экспертиз ей приходилось еще хуже. Здесь, со своим бледным лицом и чернильно-черными волосами, Наоко выглядела фантастическим созданием. Она прекрасный работник, но нанимателю всегда хотелось большего. Иногда она просто отказывала, иногда обольщала, но не уступала. Ее выматывали эти игры, а результат был всегда один: поняв, что не добьется своего, хищник подставлял ее.
Опасности подстерегали не только на работе. Однажды у нее украли сумочку — в Японии воровства не существует. Наоко обратилась в полицию. «Гуччи» так и не вернули, но каких усилий ей стоило отделаться от приставаний лейтенанта, которому поручили расследование...
С появлением Пассана все изменилось.
То была любовь с первого взгляда — без единого облачка на горизонте, без единого сбоя в программе. Новый поворот произошел благодаря брату Наоко. Когда она приехала в Париж, Сигэру, старше ее на три года, уже там обосновался. Став в пятнадцать алкоголиком, а в семнадцать подсев на героин, Сигэру покинул родительский дом, чтобы продолжить в Европе карьеру рок-гитариста. Несколько лет он прожигал жизнь в Лондоне, затем осел в Париже. Родные месяцами о нем ничего не слышали. Он дал о себе знать в 1997 году, завязав с наркотой и выпивкой, — цветущий, поправившийся на десять килограммов. Французским он теперь владел безупречно и даже отхватил место старшего преподавателя в Парижском институте восточных языков.
Наоко с братом не были особенно близки. Единственная связь между ними — клубок страшных воспоминаний об отцовских порках, оскорблениях и унижениях. Кому захочется встречаться с тем, кто видел вас со спущенными штанами или рыдающим на пороге родного дома зимним вечером? И все же, приехав в Париж, она обратилась к нему, и он помог ей устроиться. Им случалось обедать вместе, а иногда она заезжала за ним на Лилльскую улицу в Седьмом округе, когда он выходил после занятий.
Там она и встретилась с Пассаном, тридцатидвухлетним офицером полиции, помешанным на Японии и посещавшим вечерние занятия у Сигэру. Впервые поужинав с ним, кажется, четвертого ноября, она поняла, что неотесанный полицейский — тот, кого она искала всю жизнь. У этого парня не было ничего общего ни с французским псевдоромантизмом, ни с женоподобными мужчинами, которые околачиваются в токийском квартале Сибуя.
К тому же благодаря этой встрече Наоко многое узнала о себе самой. Как ни странно, страсть Пассана к традиционной Японии пришлась ей по душе, хотя она давно выбросила из головы россказни о самураях и бусидо, пусть даже сожалея о том, что все это кануло в Лету с экономическим подъемом страны и порожденными им худосочными поколениями.
И вот она обрела воплощение этих ценностей в крепком и грубоватом французе. Атлет с низким голосом, втиснутый в плохо скроенный костюм, который трещал по швам, стоило ему рассмеяться, Пассан на свой лад и был самураем. Он хранил верность Республике, как древние воины были преданы своему сёгуну. Каждое его слово, все его существо дышали прямотой и нравственностью, мгновенно внушавшими доверие.
Как все это далеко...
И вот она разводится. Отныне она не защищена, зато свободна. Говорят, что в пятидесятых годах, в великую эпоху японского кино, каскадеров не существовало. По очень простой причине: ни один актер никогда бы не отказался сыграть в опасном эпизоде, чтобы не потерять лицо.
И она готова сыграть свою роль в жизни без дублера.
Наоко взглянула на кухонные часы: 7:40. Пора будить детей.
8
— Хочу последний... Хочу последний папин круассан!
— Все, ты уже почистил зубы.
Хироки говорил по-французски, Наоко ответила по-японски. Опустившись в прихожей на одно колено, она застегивала на сыне дождевик. Ей непременно хотелось, чтобы сыновья знали оба языка, но влияние школы, друзей и телевизора склоняло чашу на сторону французского, и она вечно из-за этого переживала.
— А мой мешок для плавания?
Наоко обернулась к Синдзи, засунувшему большие пальцы за лямки рюкзака. Сегодня понедельник, он идет в бассейн. Черт! Не отвечая, она встала и отправилась на второй этаж. Держась за каменные перила, слишком резко свернула в коридор, ударилась бедром об угол и тут же возненавидела эту бетонную халупу, которая состоит из сплошных углов.
В детской она собрала плавки, обязательную шапочку для плавания, махровое полотенце, пакетик с расческой, шампунем, мылом. Все засунула в непромокаемый мешок и вышла из комнаты, взглянув на часы: 8:15. Им бы уже следовало стоять перед школой. Она задыхалась от жары, на лице выступил пот. Ладно, сейчас не до макияжа.
8:32. Наоко притормозила на улице Карно у коллежа имени Жана Масе. Она гнала как безумная, чувствуя, что нервы на пределе. Высмотрела свободное место у самого тротуара, но другой водитель оказался проворнее и опередил ее.
— Урод! — заорала она.
— Мама, ты ругаешься. — Синдзи просунул голову между передними сиденьями.
— Извини.
Она остановилась чуть дальше, во втором ряду, вырубила зажигание, включила аварийку и распахнула заднюю дверцу. Ну и жара.
— Эй, живее! Все на выход! — бросила она по-японски.
Держа в каждой руке по мальчишке, Наоко добежала до дверей. Другие мамаши спешили не меньше. Тут она заметила палочку от леденца, торчащую у Хироки из нагрудного кармашка.
— А это что?
— Папин подарок! — вскинулся мальчик.
— У тебя тоже? — спросила она у Синдзи.
Старший кивнул еще более дерзко.
— Давайте-ка их мне, — приказала она, протягивая руку.
Дети, надувшись, повиновались.
— Вы знаете правило: никаких конфет и леденцов. — Она сунула чупа-чупсы себе в карман.
— Ты это папе скажи, — проворчал Синдзи.
У Наоко защемило сердце, когда она поцеловала их и отпустила, позволив во всю прыть нестись к дверям.
При виде того, как рюкзаки подпрыгивают у них на плечах, ощутила, как снова сжимается сердце. Она в который раз задалась вопросом, терзавшим ее дни и ночи напролет: стоило ли затевать развод и позволить, чтобы все пошло прахом? Разве ради двух этих ангелов взрослым не следовало забыть о своих разногласиях? В такие минуты казалось, что ее собственная жизнь не имеет значения.
Она швырнула леденцы в мусорку и села в свой новехонький «Фиат-500». Отъезжая, Наоко сосредоточилась на предстоящем совещании. Она должна предупредить главу предприятия, что банкротство не за горами — стоит только взглянуть на цифры. Но как это лучше сделать? Какие потребуются словесные предосторожности? Японский — сложный язык, в котором, помимо трех отдельных алфавитов, существуют три уровня вежливости — своего рода три этажа, представляющие собой практически отдельные диалекты. Ну а французский? Владеет ли она языком настолько, чтобы объясниться достаточно тактично?
Она проехала по мосту Пюто. Снова зарядил ливень. На въезде в Булонский лес она вздрогнула: показалось, что за ней следят. Наоко подвигала зеркалом заднего вида, но ничего особенного не заметила. В это время дня движение было довольно плотным, и машины проезжали мимо, как обычно.
Она продолжила путь в общем потоке, не имея возможности увеличить или сбросить скорость. Вскоре вид башни отеля «Конкорд Лафайет» внушил ей уверенность. Она бросила взгляд в зеркало заднего вида — все чисто. Отогнав подозрения, снова сосредоточилась на подборе слов для совещания. Как говорят французы, тут необходима деликатность.
Наоко пересекла Порт-Майо и выехала на авеню Гранд-Арме. Завидев Триумфальную арку, почувствовала себя еще увереннее. С годами ей полюбился Париж — его грязь, его красота, серые тона и величие. Здешние нахалы и золотисто-коричневые пивные ресторанчики.
Сегодня Наоко знала наверняка: она принадлежит этому городу.
В горе и в радости.
9
— Не понимаю я вас, майор. Вы с самого начала ополчились на Гийара.
У следственного судьи Иво Кальвини было имя мафиози и лицо инквизитора — длинное, в вертикальных морщинах, с тяжелым взглядом исподлобья, которым он словно испепелял собеседника. Правый уголок плотно сжатого презрительного рта слегка опущен, образуя горькую складку. Из-за этой детали казалось, что с его лица не сходит кривая, будто перевернутая улыбка. Он сидел за столом выпрямившись, выпятив грудь, всем видом выражая непреклонность.
— Гийар звонил двум первым жертвам. — Пассан поерзал на стуле.
— Вы же не будете снова на этом настаивать? — Кальвини полистал папку. — У вас это превратилось в навязчивую идею! Двадцать второго января — звонок Одри Сёра, четвертого марта — Карине Бернар. Вот и все ваши доказательства.
— Только его имя и связывает двух первых жертв.
— Ну а третья?
— Возможно, ее он нашел в другом месте. С сегодняшней жертвой он тоже не связывался, и...
— В любом случае сам Гийар никому из них не звонил. — Судья поднял руку, прерывая его. — Мы это знаем. В первый раз звонили с одной из его автобаз на участке «Альфьери». Во второй — из его автомастерских «Фари».
Ваши «доказательства» — всего лишь звонки клиенткам, наверняка сделанные кем-то из служащих.
Ни к чему было напоминать Оливье, насколько шатки его улики. Выводы основывались исключительно на интуиции. Но он знал, что Гийар и есть Акушер, и не усомнился в этом ни разу с тех пор, как владелец автобаз попал в его поле зрения.
— А я и не говорю, будто он звонил жертвам, чтобы предупредить о намерении разделаться с ними. Думаю, он там их и высмотрел, на одной из своих автобаз.
— Там у него нет конторы. — Кальвини перевернул страницу. — Она находится на какой-то третьей автобазе в Обервилье, где...
— Месье, я работаю над этим делом почти четыре месяца. — Пассан подался к столу и повысил голос. — Гийар бывает на всех своих автобазах. Так он и выследил этих беременных женщин. Это не может быть простым совпадением.
— Еще как может, и вам это известно не хуже меня. Автобазы находятся в Кур-Нёв и в Сен-Дени. Все три жертвы жили в тех местах. Убийца охотится в этом районе, этим и ограничиваются совпадения. С тем же успехом вы могли бы подозревать охранника из ближайшего супермаркета или...
Пассан сел поглубже, застегнул пиджак. Его бил озноб. Кабинет Кальвини казался порождением чистого разума: металлическая мебель, панели из ПВХ, выцветшее напольное покрытие.
Судья продолжал излагать имеющиеся факты — а точнее, указывать на их отсутствие. Оливье уже и не пытался в очередной раз объяснять, что для него самого значит «интуитивная убежденность». Иво Кальвини был человеком редкого ума и в свои пятьдесят слыл одним из самых влиятельных судей исправительного суда Сен-Дени. Но он не имел никакого опыта работы «на земле». Это был блестяще образованный холодный разум, рассматривавший уголовные расследования как математические уравнения, без всяких эмоциональных связей с участниками.
Как-то Лефевр, дивизионный комиссар уголовки, спец по афоризмам, сказал: «Кальвини — просто ходячие мозги, но даже я не такой придурок, как он».
Пассан вновь сосредоточился на том, что говорил ему хозяин кабинета.
— В каждом случае у Патрика Гийара есть алиби.
Полицейский вздохнул: сколько можно об этом говорить?
— Мы ведь даже не знаем точное время убийств.
— Но мы точно знаем, когда пропадали жертвы.
— Допустим. Только алиби Гийара подтверждают его же служащие. Все это яйца выеденного не стоит. Ясно как божий день, он и есть Акушер. Да и о чем мы тут толкуем? Вам известно, что произошло сегодня ночью? Вам этого мало?
— Я ознакомился с протоколом антикриминальной бригады. Он говорит не в вашу пользу. Жду от вас рапорта.
Оливье насупился. Он спал всего пару часов, а проснувшись, обнаружил эсэмэску с приказом немедленно явиться к Кальвини. Принял душ, побрился и поехал обратно в Сен-Дени по магистрали А86, в это время дня забитой под завязку. Пришлось лавировать между полосами, включив сирену. В ушах до сих пор гудело.
— Мы с вами трудимся над этим делом уже несколько месяцев. — Голос Кальвини потеплел. — Мягко говоря, взаимопонимания у нас так и не возникло.
— Мы здесь не за тем, чтобы заводить друзей.
Пассан тут же пожалел о своем выпаде. Кальвини протягивал ему руку, а он в нее плюнул. Судья вздохнул и вынул из папки стопку распечаток. Оливье понял, что это собранные им же самим материалы на Гийара. Хотя он поднял ворот и скрестил руки на груди, его все еще сотрясала дрожь.
— В начале мая Патрик Гийар обвинил вас в преследованиях.
— Я вел за ним слежку.
— Круглосуточную. В течение трех недель. И без каких-либо постановлений. Кроме того, вы задержали его по простому подозрению. Вы проводили нелегальные обыски.
— Рутинные проверки.
— У него дома?
Оливье не ответил. У него дергалась правая нога. Он вдруг испугался, что из-за всех этих заморочек сорвется и задержание на месте преступления. Всякому известно, что закон защищает преступников.
— Предписание исправительного суда Сен-Дени от семнадцатого мая запрещает вам приближаться к Патрику Гийару больше чем на двести метров.
Полицейский хранил молчание.
— После той истории, — вздохнул Кальвини, — я надеялся, что вы разрабатываете другие версии. Но ошибся.
Оливье поднял глаза — пришло время выложить свой козырь.
— Я обнаружил новый факт.
— Какой же?
— Мотив Гийара. Почему он убивает женщин и сжигает детей.
Судья нахмурился и знаком предложил ему продолжать.
— Гийар — женщина.
— Прошу прощения?
— Ну, гермафродит. В его кариотипе содержится пара хромосом ХХ. Вероятно, у него аномальные половые органы. Но я не получил доступа к его медицинской карте. Все эти гребаные профессиональные тайны уже достали...
— Вы затребовали генетический анализ? Хотя я ничего не подписывал?
Майор снова заерзал на стуле. По его расчетам, значимость открытия должна была перевесить то, что сделано оно не вполне законным способом. Напрасно. В порыве гнева Иво Кальвини вскочил и встал у окна: он ждал ответа.
— На третьем трупе мы обнаружили образец неизвестной ДНК. Я решил сравнить ее с ДНК Гийара. Это ничего не дало, но в лаборатории заодно составили его кариотип.
Казалось, Кальвини высматривает какую-то загадочную точку в серой панораме Сен-Дени. Под его кожей ходили желваки.
— И каким же образом этот генетический факт может стать мотивом преступления?
— Гийар — психопат, — сказал Пассан, словно это все объясняло. — Возможно, он думает, что во время беременности его матери что-то пошло не так. Он ненавидит ее, а заодно и всех беременных женщин.
— А зачем ему жечь детей?
— Не знаю. Вероятно, он зол и на них. На всех, кто рождается просто мальчиком или девочкой. Всех их ему хочется сжечь.
— Где вы набрались этой дешевой психологии? — Кальвини наконец обернулся.
— Гийар рожден анонимно. Биологические родители от него отказались. Возможно, из-за его отклонений, не знаю. Не надо быть Фрейдом, чтобы угадать все остальное. Хорошо бы разработать этот след, но «Социальная помощь детству» отказывается предоставить его досье.
Судья снова подошел к столу, но, вместо того чтобы сесть, оперся на него руками и склонился к Пассану:
— Не все сироты, подвергшиеся жестокому обращению в детстве, становятся серийными убийцами.
— Этот тип — чокнутый, и точка! — Майор треснул по столу ладонью.
— Зачем вы напали на него сегодня ночью?
— Я не собирался. Вот уже три месяца я ищу место, где он их убивает. Вчера вечером я получил наводку, которую посчитал очень важной. Фирмы, входящие в холдинг Гийара, скрывали существование этой автомастерской в Стэне. Когда я узнал адрес, меня осенило. Три первых тела были найдены в радиусе меньше трех километров от этого места. Я понял, что там все и произошло.
— Но вы никому не сообщили.
— Время поджимало. Лейла Муавад пропала уже два дня назад.
Кальвини снова уселся. Доводы Пассана его явно не убедили.
— Кто навел вас на автомастерскую?
— Финансовая полиция.
— Вы связались и с ними? И опять же я ничего не подписывал.
— Иногда не остается времени на бумажную волокиту. — Оливье жестом отмел вопрос.
— Это не волокита, майор, а закон. Я найду того, кто помог вам, не имея на то разрешения. И все для того, чтобы вы облажались у всех на глазах. Вы вторглись в частное владение в три часа ночи.
— Мы застукали его на месте преступления!
— Я бы скорее сказал, вы превысили свои полномочия! Гийара допросили в больнице: он утверждает, что совершенно ни при чем, он, как и вы, наткнулся на горящий труп у себя в мастерской.
— Что за бред!
— Он говорит, что страдает бессонницей и по ночам приходит в мастерскую, чтобы повозиться с моторами. Зайдя внутрь, он застукал убегавшего убийцу.
— Куда убегавшего?
— Сзади есть другой выход.
Пассан стиснул зубы: он его даже не заметил.
— Есть следы взлома?
— Нет, но это ничего не значит. Были проведены анализы. На руках и одежде Гийара нет никаких следов крови Лейлы Муавад.
Оливье буквально чувствовал запах талька. Настоящая обонятельная галлюцинация.
— На нем были хирургические перчатки.
— Вы видели, как он убивал? Резал? Поджигал?
— Он смылся, когда мы пришли!
— Вы избили его табельным оружием.
Пассан хотел ответить, но не мог: во рту пересохло, горло горело.
— Полиция опросила окрестных жителей. Никто не видел, как он привез туда жертву. Никаких свидетельств против него нет.
— Я неделями рыскал в этом районе. Люди там скорее руку себе отрежут, чем станут якшаться с легавыми.
— Но их молчание говорит в пользу Гийара.
— Вы прекрасно знаете, что он убийца. Я застал его на месте преступления.
— Нет, ведь вы ничего не видели и ничего не слышали. Под присягой вы не сможете сказать ничего конкретного.
Пассан был готов взорваться. Задержание на месте преступления, оказывается, для них ничего не значит!
— Это все игра слов...
— Нет. Это факты. Патрик Гийар подал на вас жалобу за нарушение судебного запрета, нанесение телесных повреждений, попытку убийства. Он утверждает, что вы пытались убить его на шоссе.
Полицейский наконец понял, что его казнь была предрешена.
— И что теперь?
— Час назад я подписал приказ об освобождении задержанного. Нам остается только молиться, чтобы Гийар не обратился в прессу. Из-за вашего поведения пришлось быть с ним особенно снисходительными.
— А что будет со мной?
— Вас ждет дисциплинарный суд. Ваше досье уже передано туда.
— Я отстранен от расследования?
Судья покачал головой. Уголок его рта — словно выгнутый лук, нацеленный на полицейского, но в глазах было что-то похожее на усталость. Удрученное бессилие.
— А как по-вашему?
Одним махом Оливье сбросил на пол все, что лежало на столе.