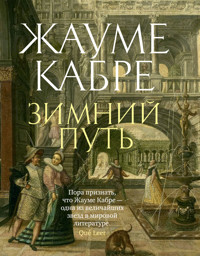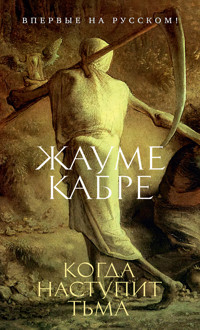Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Большой роман
- Sprache: Russisch
Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре "Тень евнуха" — смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего рода Женсана, который в поисках Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие годы вооруженной борьбе за справедливость. "Тень евнуха" — роман, пронизанный литературными и музыкальными аллюзиями. Как и Скрипичный концерт Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой своеобразный "двойной реквием". Он посвящен "памяти ангела", Терезы, и звучит как реквием главного героя, Микеля Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой оказался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан). Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных существ, связанных с домом Женсана.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
Jaume Cabrе
L’OMBRA DE L’EUNUC
Copyright © Jaume Cabrе, 2004
All rights reserved
First published in Catalan by Raval Edicions, SLU, Proa, 2004
Published by arrangement with Cristina Mora Literary & Film Agency (Barcelona, Spain)
Перевод с каталанскогоАлександры Гребенниковой
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Кабре Ж.
Тень евнуха: роман / Жауме Кабре ; пер. с каталан.А. Гребенниковой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. —448 с. — (Большой роман).
ISBN978-5-389-12774-6
16+
Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Тень евнуха» — смешная и грустная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего рода Женсана, который в поисках Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие годы вооруженной борьбе за справедливость. «Тень евнуха» — роман, пронизанныйлитературными и музыкальными аллюзиями. Как и Скрипичный концерт Альбана Берга, структуру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой своеобразный «двойной реквием». Он посвящен «памяти ангела», Терезы, и звучит как реквием главного героя, Микеля Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой оказался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в модный ресторан). Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных существ, связанных с домом Женсана.
© А. Гребенникова, перевод, 2017
©Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство ИНОСТРАНКА®
Маргарите
В твои годы мужчины — как волки, в глазах у вас — только время.
ЖуанМаргарит
...for we possess nothing certainly except the past1.
ИвлинВо
Альбан Берг
1 ...ибо ничто, в сущности, не принадлежит нам, кроме прошлого (англ.). Цитата из романа И. Во «Возвращение в Брайдсхед» приводится в переводе на русский И. Бернштейн. — Здесь и далее примечания переводчика, кроме особо оговоренных.
Действие первое. Секрет аориста
Часть I. Andante (Präludium)
1
Когда все уже осталось далеко позади, я, сидя напротив женщины с черными глазами и безупречной кожей, спросил себя: когда же в точности моя жизнь дала трещину? Этот вопрос пришел мне в голову несколько неожиданно, и я тут же переключился на Жулию, желая понять, о чем думает она. И украдкой взглянул на нее: она внимательно читала меню, все еще сомневаясь в выборе — филе или антрекот. Я посмотрел по сторонам, и мне сразу бросилось в глаза какое-то на редкость безвкусное убранство ресторана. Когда же все пошло под откос? Возможно, все началось много лет назад, после моего выхода из подполья, когда мне уже удалось привыкнуть к гражданской жизни; однажды осенью, той дождливой пятницей после обеда, — в дверь позвонили, и отец, против обыкновения, сам пошел открывать. Как будто ждал звонка. Потом мы сообща восстановили ход событий: он с кем-то разговаривал, стоя на лестнице. Кажется, он сказал нам: «сейчас приду», а может, не нам, а стенам, и больше мы его не видели. Лил дождь, а он вышел на улицу в домашних тапочках и без пиджака. Позже я укорял себя за то, что тогда не понял, как важен был тот звонок в дверь; немногие ключевые моменты, что выпадают в жизни, проходят незамеченными, и мы потом проводим остаток своего несчастного существования в бесполезных попытках их вернуть. Я жилтогда у родителей, потому что незадолго до того ушел от Жеммы.
Моя жизнь полна важных моментов, которые выскальзывают у меня сквозь пальцы, как рыбешки, пока я зеваю перед телевизором или разгадываю кроссворд. Сколько раз я просыпался, казня себя за то, что не могу забыть улыбку Терезы, когда она стояла в дверях отеля «Ритц». Не знаю, как вытравить из памяти это воспоминание: оно до сих пор заставляет меня плакать, словно в жару. Тереза улыбается мне перед светящимся фасадом отеля, а я стою в нескольких шагах от нее, в темноте, задыхаясь от бега. И вот она поворачивается и уходит, все еще улыбаясь тому, что я нем, как тряпичная кукла. Нет, сейчас я не хотел об этом думать. Я должен был сосредоточиться на меню и на категоричном решении Жулии: «мясо, какое-нибудь, и думай побыстрее, а то я очень есть хочу». Но ведь Тереза улыбалась перед отелем «Ритц», на Пиккадилли... В конце концов я решил заглянуть в меню. Оно было напыщенным и вычурным, как будто вместо повара его сочинял бульварный романист. А черные глаза и бархатный голос Жулии манили меня, как бездонный колодец, но, думал я, полюбить ее мне не дано: я очень устал.
А началось все несколько часов назад, когда Жулия предложила вместе поужинать: сказала, что никто, кроме меня, не сможет ей помочь. Или нет: вся завязка случилась еще утром на кладбище, во время похорон. С тех пор я и задумался о жизни. Скрываясь за стеклами темных очков, я стоял чуть в стороне от родственников, озадаченных этой внезапной смертью. Но Ровира все-таки узнал меня и тут же ко мне прилип. Выкурил полпачки «Кэмела» за душещипательной беседой. Там, на кладбище, еще до встречи с Ровирой, я внезапно осознал, что у меня никогда не хватит мужества опровергнуть официальную версию гибели Болоса, согласно которой произошел прискорбный и необъяснимый несчастный случай. Никто, кроме меня, не знал про таинственное сообщение на автоответчике: «Симон, говорит Франклин, за нами следят», оставленное в среду вечером. Потом пришел четверг, и мне обо всем сообщили, а в пятницу, не успел я вернуться с кладбища, позвонила Жулия с приглашением поужинать вместе.
Приятный кладбищенский ветерок напомнил мне горячий истрашный ветер, дувший на вершине Курнет-эс-Сауда. А я, несмотря на свое так называемое героическое прошлое, почти не раздумывая, решил спрятаться за темными очками и делать вид, что ничего не понимаю, и говорить: «да, да, не представляю, как могла произойти такая нелепая и страшная авария». И поспешно ушел, пока меня не разоблачил проницательный взгляд Марии. А потом позвонила Жулия.
— И что это за условие?
— Я сама выберу, куда мы пойдем, — сказала Жулия.
И я подумал: да какая мне разница, я тоже одинок, уныл, растерян, со страхом в сердце, не в силах думать ни о чем, кроме смерти Болоса. Какой же я все-таки трус — даже взгляда Марии на кладбище не выдержал.
— Хорошо. Согласен. Куда ты меня поведешь?
— Это сюрприз, скоро увидишь... Очень милый ресторанчик, недавно открылся. Нам очень о многом надо поговорить, Микель.
— О чем это?
— Обо всем. О Болосе. Мне нужно статью о нем написать.
— Статью?
— Тебе разве Дуран не говорил? Статью в память о нем.
— Да оставьте вы Болоса в покое!
— Ты чего? Тебе не нравится эта идея?
— Да нет, все в порядке. — И, не найдя, что еще сказать, я добавил: — Нет, правда.
Я никогда не умел врать, и Жулия все поняла с лету:
— Ты против.
— Да нет, что ты. Но разве ты о нем много знаешь? О Болосе?
Теперь замолчала Жулия, и я почувствовал, что это неспроста, она тоже не слишком-то хорошо умела врать.
— Ну, я посидела в библиотеке, в отделе периодики, почитала старые статьи, все такое. А что? — Пауза, неловкая для нас обоих. — Но мне не хватает информации о его юности, а ты... — Она откашлялась. — Значит, да? — И чтобы я больше не раздумывал: — Это очень красивый ресторан, там отлично готовят мясо, а тебе нужно развеяться.
Доводы ее были неоспоримы, и я ответил: «Хорошо, я в твоем распоряжении». Ведь это лучший способ не лежать надиване в темноте, не думать о Терезе, о Болосе, о себе, снова о Терезе и о том, как меня напугал хриплый голос на другом конце провода, который угрожал мне, словно не зная, что нет худшего наказания, чем всю жизнь хранить память о мокром полотенце и лампочке в двадцать пять свечей. И о Терезе.
Жулия заехала за мной в восемь и, вместо того чтобы сесть в машину, с заговорщической улыбкой протянула руку — хотела, чтобы я дал ей ключи от машины. Она все-таки решила сделать мне сюрприз. Никогда не мог устоять перед женской улыбкой, даже если от этого зависит моя жизнь. Я вручил ей ключи — пусть везет меня куда хочет — и тоже улыбнулся, но как-то неуверенно: не люблю, когда мою машину ведет кто-нибудь другой, а я сижу рядом. К тому же я знал, что Жулия, беспокойный и страстный водитель, всю дорогу будет оживленно жестикулировать, забывая про руль, резко переключать передачи, вздыхать и время от времени почти нехотя следить за дорогой. Короче говоря, я приготовился к мучениям, и мучиться мне пришлось довольно долго, поскольку оказалось, что этот милый ресторанчик находится вовсе не в Барселоне. На выезде с проспекта Меридиана машин было не очень много, но я вжимался в сиденье при виде того, как Жулия постоянно и без всякой надобности, почти что в поэтическом беспорядке, лавирует между рядами. Ну что ж, по крайней мере, это отвлекло меня от грустных мыслей.
— Не скажешь, куда мы едем?
— Не скажу. Какая тебе разница, где платить за ужин?
— Если это деловой ужин, пусть Дуран платит.
— Он не согласится.
— Я с ним поговорю.
Она положила мне руку на колено и не стала убирать. Неужели это я? С Жулией?
Мы уже ехали по шоссе на Фейшес2, движение там было куда плотнее: многие хотели поскорее выбраться из Барселоны на выходные. Сдается мне, что сидел я с самым глупым видом, разомлев от нежности Жулии и глядя перед собой на прерывистую линию, на которую она то и дело наезжала, должно быть придавая себе уверенности.
— У меня будто душу вынули...
— У меня тоже.
— Да уж, два сапога пара.
— Это будет ужин в память Жузепа-Марии.
— Какого Жузепа-Марии?
— Болоса. — И с очень наигранной переменой в голосе: — Что за водители пошли?! Видел, что творят?
— Болос был моим лучшим другом, — сказал я. — Может, тебе лучше вернуться в свой ряд?
— Ну Микель... Не начинай, ладно?
Мы замолчали, я стал смотреть на каменистый берег реки Риполь — единственное, что было видно из окна, — и постарался на несколько минут забыть о том, что Жулия не имела обыкновения двигаться вместе с потоком.
— Ты знаешь, что мы подъезжаем к моему родному городу? — сказал я, намереваясь прервать молчание, длившееся уже четыре с половиной километра.
— Правда? Я не знала. Ты разве не из Барселоны?
— Нет. Я там давно живу. Но родился и вырос я в Фейшесе.
— Вот это да!
Еще восемьсот метров молчания.
— Ну надо же.
Я ласково потрепал ее по щеке, в ответ она резко сменила ряд.
— Слушай, нет ничего страшного в том, что я родился не в Барселоне.
— Просто неожиданно. Наверное, трудно начинать жизнь на новом месте.
— Но у меня, видишь, неплохо получилось.
Сабадель остался справа, а мы все ехали вперед.
— У тебя кто из Фейшеса — отец или мать?
— Отец, деды и бабки, прадеды и прабабки. Предки моего отца поселились в Фейшесе много веков назад.
— Ничего себе.
— В смысле?
— В смысле — ничего себе.
— Вот такие дела. Если у тебя хватит терпения, могу как-нибудь показать наше генеалогическое древо. У меня оно есть, очень хорошо нарисованное. Мы были семьей с прошлым и им гордились.
— Были?
— Ну да, были.
— И у меня так же. Я знала только одного деда, и за то спасибо.
— А у меня до недавнего времени был дед — то есть двоюродный дед. Дядя Маурисий. Очень своеобразный человек.
— Почему?
— Потому что. Ему было сто тысяч лет, он никогда ни о чем не забывал и был совершенно безумен. — Я посмотрел на Жулию краем глаза, чтобы убедиться, что ей интересно то, о чем я говорю. — Дядю считали паршивой овцой.
— То есть он эмигрировал в Америку, потом вернулся и все такое?
— Нет. Просто все его ненавидели.
— А ты?
— А я — нет.
Жулия с интересом глядела на меня, сворачивая при этом с шоссе, не включив поворотника.
— Познакомишь меня с ним? — спросила она, не обращая внимания на то, что машина, ехавшая перед ней, затормозила.
— Он умер. — Мы вовремя затормозили, как раз в тот момент, когда у меня похолодело в животе. — Давай поедем помедленнее.
— Что?
— Понимаешь, все, что мне известно о семье, я узнал благодаря собранным им бумагам. Всем в мире бумагам. Он знал все.
— Прямо-таки все?
— Ну да. В каждой семье есть человек, который хранит память.
— В моей такого нет. Я даже не знаю, можно ли нас назвать семьей. — И, уже заехав в переулок, она добавила: — Кажется, правильно повернула.
— Да как сказать... Там был «кирпич», но для тебя ведь это не препятствие.
— Черт, где он был?
— Да мы проехали, — почти шепотом проговорил я, едва переводя дух. — Не волнуйся, здесь уже двустороннее движение.
— Знаешь, я уже проголодалась. — Ей явно хотелось проехать на красный свет, но в последний момент она под громкие и продолжительные аплодисменты моего законопослушания затормозила. — Сейчас уже будем на месте, если, конечно, я не заблудилась.
Я не воспользовался случаем рассказать, что последний годжизни дядя Маурисий провел в сумасшедшем доме и что я любил его, несмотря ни на что. Не стал говорить, что он был единственным моим родственником, кроме матери, с кем я неторопливо и подолгу беседовал. Я не знал, смогу ли когда-нибудь рассказать все это Жулии.
Когда я понял, что происходит, Жулия уже парковалась у входа в ресторан. Она крутила баранку, высунув язык, и так старалась не задеть стоявшую впереди машину, что даже не обратила внимания на мое внезапное молчание.
— Это и есть тот самый ресторан?
— Угу. — Вздох облегчения. — Ну как тебе?
— Ты прекрасно паркуешься. Так это и есть тот ресторан?
— Ну да, я же уже сказала.
Я предпочел промолчать. Когда я вышел из машины, ноги у меня дрожали. Было еще довольно светло, стояло лето.Я не удержался и посмотрел на земляничное дерево — оно здорово выросло, и его сильно подстригли. Я подошел к нему поближе, но не услышал слов, сказанных дядей Маурисием в его последнем, таком длинном письме. Солнечные часы одиноко висели на стене, у которой когда-то рос розовый куст; солнце уже зашло, куст давно срубили, а ветвями берез нежно играл ветерок. На первый взгляд все было на своих местах.
— Ну как тебе?
Жулия обвела широким жестом здание, как рыбак, что толькочто поймал судака и желает его продемонстрировать. И чтоя должен был ей сказать? «Да, моя милая Жулия, мы только что приехали прямиком ко мне домой, в дом Женсана, туда, где я родился, где вырос, где плакал и мечтал. В дом, из которого я сбежал, когда пришло время. Прошло уже несколько лет с тех пор, как матери вдруг сообщили, что она должна съехать отсюда, что дом ей больше не принадлежит. Тогда все мы чуточкусошли с ума, ведь после того, как отец ушел из дома в тапочках,оставив нас с кучей долгов, неоплаченных счетов и обид, не хваталотолько, чтобы мы вдруг лишились и воспоминаний. И вот тогда-то дядя Маурисий и ухватился за розовый куст. Родовое гнездо семьи Женсана, с тысяча семьсот девяносто девятого по тысяча девятьсот девяносто пятый год. Почти два столетия документально подтвержденной истории»? Я прямо как Мартин Арагонский3. Покойся с миром, дом Женсана, я не смог спасти тебя, и ты превратился в какой-то нелепый ресторан, который, к вящему позору, еще и назвали «Красный дуб», как значилось на вывеске с претензией на высококлассный дизайн.
— Держи ключи, Микель.
— Мм?
Я с трудом пробудился от грез и пошел за ней. Три ступеньки, площадка, еще две ступеньки. На стекле входной двери —наклейки «Виза», «МастерКард» и «Американ экспресс» — куда уж хуже! Неизвестно откуда взявшийся человек с улыбкой метрдотеля пригласил нас войти в мой собственный дом.
— У нас забронирован столик, — сказала Жулия с легкостью завсегдатая.
— Нет! — испуганно возразил я.
— Да, да... — очень терпеливо, по-учительски, уверила меняЖулия, обезоруживающе улыбаясь. И снова обратилась к метрдотелю: — На имя Микеля Женсаны.
И подмигнула мне — она всегда обращала внимание на такиепрактические мелочи. И на несколько мгновений, несмотря на ситуацию, я подумал: а почему бы мне не влюбиться в нее, да и дело с концом. Но это не так легко, когда столько всего в голове — в первую очередь, конечно же, Тереза, но еще страх и беспокойство, снова разбуженные телефонным звонком человека с хриплым голосом.
— Что с тобой? Тебе здесь не нравится?
Я не стал отвечать, потому что метрдотель энергично приглашал нас пройти к столику. Мы шли за ним, обходя еще пустые столики, стоящие в моей гостиной, в моей столовой и, увы, даже в библиотеке — все это самым беспардонным образомбыло превращено в один зал. И я почувствовал горячее дыханиеЖулии, когда она шепнула мне: «Микель, я попросила, чтобы для нас приготовили волшебный уголок — возле нежно журчащего фонтана».
Я почувствовал себя глубоко оскорбленным, увидев, что в углу библиотеки, где всю жизнь возле старинных книг прадедаМаура, поэта, стоял рояль дяди Маурисия, установили этот жалкий фонтанчик. Я уже был готов вызвать метрдотеля на дуэль, но отвлекся, увидев, как он изысканным жестом пододвигаетстул Жулии и вежливо кивает ей, не обращая на меня ни малейшего внимания. А потом ушел — по всей видимости, за подкреплением. И я не успел бросить ему перчатку.
— Тебе что, здесь не нравится? А, Микель?
— Да нет, нравится.
— Просто у тебя такое лицо... Они изумительно готовят мясо.
— Значит, надо будет его попробовать.
И мы принялись читать меню. Ее заинтересованности хватало на двоих, и я тут же отвлекся на дуб, служивший ресторану эмблемой: широкий и мощный, с претензией на сходство со старинной гравюрой. Он напомнил мне раскидистое, как дуб,генеалогическое древо семьи Женсана у нас дома, разложенное на коленях у бабушки Амелии. Или у дяди Маурисия, в психиатрической клинике. Все еще твердой рукой он указывал мне,какое место должна занимать тетя Карлота, его настоящая мать, чья жизнь была похожа на романтическую поэму. Или прадед Маур, поэт. Или прапрабабушка Жозефина... А еще дядя обещал составить другое, Подлинное и Доселе Неизвестное Генеалогическое Древо Семьи.
— Правда, хорошее у них меню?
— Да... — Я поглядел на блюда. — Тут, я вижу, всего понемногу.
— Мясо.
— Что?
— Здесь ты просто обязан есть мясо.
Что-то я не мог припомнить, чтобы у меня дома кто-то что-то обязан был есть, как будто мы иудеи или наступила великопостная пятница. Сдержать не совсем уместную улыбку не получилось. Жулия приняла ее за упрямство дилетанта в кулинарном искусстве и с серьезным видом подняла вверх палец:
— Мясо.
— Ладно, пусть будет мясо.
Насколько я понял из меню, несмотря на дурацкое название заведения, эти ресторанные идиоты задумали превратить его в модное место для продвинутых людей, таких как Жулия и ее невыносимые друзья.
А мне, несчастной жертве, что было делать? Я был охвачен воспоминаниями и думал: ах, если бы жизнь можно было изменить, если бы только можно было предвидеть, к чему приведут поступки и решения; если бы можно было переиграть ход, прокрутить все заново, анализируя: в чем была наша ошибка, где все пошло наперекосяк... Впрочем, быть может, истина стала бы невыносимым мучением. Или ступенькой к цинизму.
— Может, это к лучшему: не видеть дальше собственного носа.
— Что? — Жулия взглянула на меня как на сумасшедшего.
— Извини... Просто я...
— Да... — Она опустила глаза и вновь на меня посмотрела. Глаза у Жулии очень красивые. — Ты в порядке?
— В полном, — выдал я желаемое за действительное, титаническим усилием воли натянув на лицо беззаботную улыбку.
Жулия наблюдала за мной с некоторым беспокойством. Онахотела что-то сказать, но решила промолчать. Мне пришлось это очень кстати, потому что в тот момент я задумался о том, что привело к гибели Болоса. Непонятно, когда именно я должен был начать действовать иначе, чтобы теперь не винить себя в его смерти. Я думал о том же, о чем размышлял на кладбище, о безысходности на лице Марии, вдовы Болоса, и о том, что я сам себе противен. А потом ко мне подошел Ровира, и мы начали разговаривать о тысяче других вещей. Но глубоко внутри меня терзали угрызения совести из-за того, что я струсил, —ведь я-то знал, я-то знаю, от чего умер Болос. Возможно, об этомзнают только два человека — убийца и я. И возможно, еще Голубоглазый. А я все прятался за темными очками, пока не пришелРовира и не заставил меня говорить о женщинах, единственнойдля него теме разговора с тех пор, как сто лет назад он снял с себя монашеский сан.
— Я возьму филе-миньон, — сделала выбор Жулия, махнув на меня рукой. Она казалась довольной своим решением. — А ты?
Я как раз начал приходить к заключению, что за сорок восемь лет своей жизни я так и не научился избавляться от глубоко укоренившихся, хронических угрызений совести даже под страхом смерти. Не говоря уже о промокшем полотенце и лампочке в двадцать пять свечей. Всю жизнь я начинал и заканчивал один этап за другим, всегда с отрицательным сальдо для своей души. А ведь я уже сто лет как не верил в Бога.
— А теперь ты хочешь, чтобы я рассказывал тебе о Болосе.
— Да, но сначала посмотри меню.
— Ты торопишься?
— Нет, не тороплюсь.
— Дело в том, что рассказывать о Болосе — значит рассказывать о себе.
— Ну да. Расскажи о том времени, когда вы много общались.
Я с неохотой взглянул на меню. Разве можно объяснить все это Жулии?
— Что-то у меня настроения нет.
Теперь Жулия посмотрела на меня так, будто собиралась как следует отчитать. Мне стало не по себе: ничто не страшит меня так сильно, как женский гнев.
— Ты можешь выбрать хорошее мясное блюдо или нет? — И с обидой: — Мне тоже невесело, но я держусь.
— Ты же близко не общалась с Болосом.
Она положила меню на стол и вперила в меня свои угольные глаза:
— Ты что, не в состоянии со мной поужинать? Ты не в состоянии помочь мне написать статью о твоем друге?
— Конечно в состоянии. Я...
— Конечно. Ты. — Она снова превратилась в ту Жулию, знакомую по работе, рожденную, чтобы командовать, но вынужденную быть моей подчиненной. — Я изо всех сил старалась, нашла стильное место, забронировала столик, отложила все дела...
Я и не подозревал, что все так серьезно. А потому решил хорошенько изучить меню, как мальчик, знающий, что суровыйвзгляд учителя вот-вот раздавит его в лепешку. Жулия молчала, ее, казалось, раздражала моя апатия.
— Я возьму треску.
— Но ведь... — В голосе Жулии звучал не то чтобы протест,а священное негодование. Она стала похожа на Жанну д’Арк. — Ведь я же тебе сказала, здесь очень хорошее мясо!
— Тогда мясо. Точно — мясо! — И я повторил это метрдотелю, который уже вырос как из-под земли с блокнотом наготовеи недоверчиво на меня поглядывал.
— Какое именно мясо, сеньор?
— Не знаю... — И, совершенно не раздумывая: — Вот это, под двумя соусами. Вы уже приняли заказ у дамы?
— Да, сеньор. Несколько минут назад.
По-моему, это совершенно неуместный комментарий.
Переговоры длились долго. Но нам удалось разработать удовлетворяющее обе стороны, а главное, подходящее Жулии меню. Когда метрдотель, записав все до мельчайших деталей(с кровью, не солить, салат «Монпансье» без лука), удалился сосвоим блокнотом, который почему-то напомнил мне книжечку с бланками для выписывания штрафов, Жулия впилась в меня глазами:
— Ну, о чем ты думаешь? Рассказывай!
— Все дела отложила! Выдумаешь тоже...
— Слушай, не притворяйся. О чем ты думаешь?
Мне так хотелось плакать, что я рассмеялся, протянул рукучерез стол и погладил Жулию по щеке. Жулию, умную, энергичную, с угольно-черными волосами и глазами, с нежной кожей, молодую, оскорбительно молодую. Совершенно мне незнакомую, потому что мы никогда не говорили по душам. И это хорошо — значит она не поймет, что я живу, не в силах ни на чторешиться, что я, хоть и старше ее на двадцать лет, на самом деленесравнимо древнее, потому что на меня накатывают ностальгия и угрызения совести, а мысли о смерти поселились у меня в мозгу навсегда, покрыв его тонкой пленочкой. А это значит,я уже не молод. Все это очень трудно объяснить такой девушке, как она. И тем более невозможно сказать ей: видишь этот ресторан, Жулия? Здесь был мой дом. Там, где мы сидим, стояли старинные книги моего прадеда-поэта. Маур Женсана — тебе знакомо это имя? Правда незнакомо? А ты знаешь, что твойобожаемый метрдотель усадил нас посреди фамильной библиотеки? Да-да, этот волшебный уголок раньше был библиотекой.И этот... даже не знаю, как его назвать... фонтанчик расположенна том самом месте, где стоял салонный рояль моего дяди, и этоне что иное, как пощечина хорошему вкусу нашей семьи. Нет,я не мог сказать ей все это — мне совсем не хотелось умереть состыда. Но нужно было что-то предпринять, чтобы защититься от взгляда Жулии.
— Как-то раз, — загадочно начал я, — я влюбился.
— Мм? — Она удивленно подняла голову.
— Да. Это было в пассаже. Я шел вверх по эскалатору. А она ехала вниз по другому. Высокая, светловолосая, невероятно красивая. Она была прекрасна, понимаешь?
— Хм...
— Мы посмотрели друг на друга. Она пронзила меня взглядом, я был сражен. И мы проехали друг мимо друга.
— А потом что?
— Мы оба обернулись. Меня опьянил аромат ее духов. И она снова пронзила меня взглядом.
— И кто же она? Мы с ней знакомы?
Я взял кусок хлеба. Мне почудилась мечтательность в ее взгляде.
— Я больше никогда ее не видел. Это было мимолетное чувство.
— Зачем ты мне об этом рассказываешь, Микель?
Зачем? Да затем, что мне худо. Мне предстоял ужин с девушкой, в которую я слегка влюблен и которая, насколько я знал, кокетничала с несколькими мужчинами сразу. Я никогдараньше не вел с ней личных и доверительных разговоров. Нет— было бы совершенно невероятно оказаться с ней в постели. Я рассказал эту историю для разминки, потому что я очень застенчив. Потому что я только что похоронил Болоса, а этот фонтанчик посреди библиотеки совершенно нелеп. Он ровно там, где дядя Маурисий, до того как его отправили в психушку,проводил долгие вечерние часы, листая книги, перебирая семейные бумаги, играя на рояле Момпоу4или Баха. Или складывая фигурки из бумаги. Я был взволнован, потому что как чужак,инкогнито собирался поужинать в своем собственном доме, который был родовым гнездом семи поколений Женсана, где жили и умерли дед Тон, и прадед Маур, и все прабабки, где родился мой отец, где родился и вырос я и откуда дважды сбегал... Я находился в пространстве, которое было частью моей самой личной и сокровенной жизни. В пространстве, наполненном для меня воспоминаниями.
— Тебе нравится здесь, Жулия?
— Да, очень. — Она уже успокоилась. — По-моему, миленькое местечко.
Так, значит, мой дом — миленькое местечко. Двести лет семейной истории, начиная с Антония Женсаны-и-Пужадеса, официального основателя нашего рода согласно генеалогическому древу, где он фигурирует как Антоний Женсана Первый, Прародитель, до меня, с конца восемнадцатого века и до конца двадцатого, семь поколений семьи Женсана, украсивших свой особняк и обогативших историю, давших фундамент этим стенам, после продолжительных усилий достигли того, чтобы их обитель признали «миленьким местечком». Уму непостижимо.
— Да, действительно, очень милое. Ты не знаешь, раньше это был жилой дом?
— Сомневаюсь... Разве ты не видишь? В таком доме совершенно невозможно жить.
— Ты думаешь?
— Конечно, ты что! Рано или поздно захочешь выбраться из этих стен, сбежать от здешних призраков. К тому же раньше здесь, наверное, было ужасно холодно.
В этом она была права. Жулия продолжала:
— То есть если здесь кто-нибудь и жил, то, скорее всего, это были какие-нибудь чудаки и наполовину зачахшие мамонты.
И в этом она тоже была права. Я решил, пусть она дальше излагает свои идеи.
— А ты знаешь, что я знакома с хозяевами?
— Неужели? — насторожился я. — С какими хозяевами?
— С хозяевами ресторана. Ты знаешь Майте Сегарра, которая замужем, то есть была замужем, за Маноло Сетеном.
— Так сразу и не соображу.
— Да я уверена, что ты их знаешь. Он дизайнер. Не может быть, чтобы ты не...
Я зажег сигарету, пока думал, о ком она там говорит. Жулия,как сорока, набросилась на зажигалку Айзека Стерна5:
— Какая красота!
— Старинная вещь.
— Но очень красивая. Откуда?
— Ну конечно! Сетен, дизайнер!
— Видишь, я так и знала, что вы знакомы, — радостно вернулась к предмету предыдущего разговора Жулия.
— И как же ему пришло в голову открыть ресторан?
— Наверное, заскучал. Да и потом, я уверена, он делает на этом немалые деньги.
Я проследил, чтобы Жулия положила зажигалку на место, рядом с пачкой.
— Пока что тут почти пусто, — сказал я, заполняя паузу.
— Мы просто рано приехали. Если хочешь, я потом познакомлю тебя с Майте.
Я смотрел, как Жулия жует кусочек хлеба. Такие белые зубы; сколько раз мне хотелось ее поцеловать. Жаль, что в жизни не следует рассчитывать на чудо.
Я давно знал, что чудес не бывает. Я не раз приходил к различным выводам, всегда предварительным, о том, что есть жизнь и смерть. Или, например, что отличает людей от животных — это желание человечества оставить после себя след; люди с незапамятных времен из кожи вон лезут, чтобы коснуться вечности, хотя это и невозможно. Различными путями — начиная с наскальных рисунков и кончая такими несколько более замысловатыми вещами, как религии. Включая навязчивую идею о продолжении рода и о бессмертии собственных произведений. За все время своего существования человечество выработало всего три способа достижения бессмертия: дети — самый распространенный, религия — самый респектабельный и искусство — самый изысканный. Но что делать такому неверующему и бесплодному человеку, как я? Скорее всего, именно поэтому мне так интересна музыка, которую пишут одни и играют другие; поэзия, написанная незнакомым мне человеком, но способная задеть меня за живое; живопись, которую я не умею ни создавать, ни копировать. Вероятно, именно по этой причине я плачу под музыку Мендельсона и немедленно отправляюсь к какой-нибудь женщине, чтобы она осушила мои слезы. А когда слушаю своего любимого Альбана Берга, никтов мире не может утолить мою боль. Мало людей, способных это понять. Мне очень жаль, что я не музыкант, не художник и не поэт. Я просто-напросто никудышный дилетант, очень чувствительный, разумеется, но неспособный творить. Когда я был маленьким, я плохо учился в школе. Рамон, мой двоюродный брат, задирал передо мной нос, хвастая своими оценками, всегда отличными. В двадцать четыре года он стал инженером текстильного производства и принялся помогать моему отцу гробить фабрику. А я отучился в старших классах, на физико-математическом потоке, и с горем пополам сдал вступительные экзамены в университет. Потом я решил учиться на гуманитарном факультете, но воодушевился не парадигмами глагола и не этажами базилик, а всякого рода заседаниями и комитетами, маем 1968 года и многими другими вещами. Я бросил университет, недоучившись, потому что революция не терпела отлагательств, а Берта была очень хороша. Но когда закончилась война, а Франко умер в собственной постели, я снова влюбился. Наш брак с Жеммой продлился два года, два месяца, двадцать один день и тринадцать часов. Вернувшись домой,к молчаливой и грустной матери, и спросив себя, нужно личто-то начинать сначала, и если да, то что именно, я осознал, что мне двадцать семь лет и мы с отцом давно не разговариваем. А композитор Хуан Кризостомо де Арриага6, которого называют испанским Моцартом, умер в двадцать лет. Я чувствовал себя старым как мир и совершенно лишенным душевных сил. Вместо того чтобы купить билет и уехать в Индию за какой-нибудь странной лихорадкой, вместо того чтобы начать сумасшедшую гонку за вниманием благосклонных подруг, я купил абонемент во Дворец музыки и решил, что пусть другие живут своей жизнью, и от души пожелал им удачи. Пятый ряд партера, в самом центре. Я начал усердно заниматься, еще больше читать и сделался поклонником красоты. Сейчас, по прошествии многих лет, есть люди, которые думают, что я много знаю. Смешно, но это так.
— Что рассказать тебе о Болосе?
— Что-нибудь. Что-нибудь личное. Про его молодость.
— Вы ведь не были знакомы, так?
— Были, конечно. Ты сам нас и познакомил. — Она огляделась по сторонам, как будто не хотела больше ни с кем делиться этим, пристально посмотрела на меня и спросила: — Что чувствуешь, когда умирает такой близкий друг?
— Откуда ты знаешь, что Болос был мне близким другом?
— Что ты чувствуешь?
— Ты не знаешь, какое при этом чувство? — Я посмотрел на нее краем глаза и подумал, что она еще очень молода. — У тебя еще ни один друг не умирал?
— Нет. У меня нет друзей.
— Да ладно!
— Правда. Только коллеги и хорошие приятели. — И шепотом: — И любовники. Что при этом чувствуешь?
Я надолго задумался. Очень надолго. И ответил, не глядя ей в глаза, потому что мне показалось, что передо мной Тереза:
— Ничего не чувствуешь, Жулия. Просто плачешь.
2 Прототипом города Фейшес в романах Жауме Кабре является каталонский город Тарраса, расположенный в 34 км от Барселоны.
3 Король Арагона, Валенсии, Сардинии и Корсики и граф Барселоны Мартин Арагонский (1356–1410), прозванный Старшим и Гуманным, был последним представителем Арагонского дома по легитимной мужской линии. После его смерти основная ветвь Арагонской династии угасла.
4Федерико Момпоу (1893–1987) — испанский (каталонский) композитор, писал практически исключительно для фортепиано или фортепиано и голоса, разрабатывая испанские и каталонские фольклорные мотивы. — Примеч. ред.
5Айзек (Исаак) Стерн (1920–2001) — американский скрипач еврейского происхождения, один из крупнейших и всемирно известных академических музыкантов XX в. — Примеч. ред.
6Хуан Кризостомо де Арриага (1806–1826) — испанский композитор, баск по национальности, часто именуемый «баскскимМоцартом» или «испанским Моцартом» за раннее творческое начало и раннюю кончину. Творчество Арриаги находилось под влиянием современной ему французской и немецкой музыки, особенно Моцарта и Бетховена. Композитор умер в Париже от пневмонии или туберкулеза, не дожив десяти дней до своего двадцатилетия. — Примеч. ред.
2
«Я родился в Фейшесе в 1905 году, от гражданина Франсеска Сикарта и гражданки Карлоты Женсаны. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между тремя детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Богаче была моя мать, сестра выдающегося поэта Маура Женсаны Божественного и дочь депутата парламента Антония Женсаны Второго, Златоуста. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. А я почти не помню ее лица»7.
Мне кажется, это достойное начало для письма, за которое я взялся, когда ты, Микель Женсана Второй, Нерешительный, уехал на несколько недель в одно из своих путешествий. И пишу я тебе потому, что скоро умру, незаметно и без свидетелей, как все мужчины в нашей семье. Единственная неправда в этом вступлении, позаимствованном у Руссо, — профессия моего отца. Во всем остальном, Микель, будь мне судьей, если захочешь.
Ты родился тридцатого апреля тысяча девятьсот сорок седьмого года. К тому моменту у меня во взгляде уже проскакиваланенависть, напряженная, как рыболовная леска с пойманной рыбой: натянутая и тонкая, но такая крепкая, что в умелых руках может стать орудием убийства и отрезать голову. В то время я уже был Маурисием Безземельным, Изгнанником, который не будет владеть ничем, как и ты. Когда ты родился, у тебя были светлые волосы и голубые глаза. А я подносил палец к твоей ладошке, и ты изо всех сил зажимал его в кулачок. Тогда-то я ипонял, что, раз ты так крепко за меня держишься, судьбу своегобрата ты не повторишь. Ты стал третьим Микелем в моей жизни. Родители назвали твоего брата Микелем, чтобы их не мучиласовесть. А когда родился ты, повторили этот ритуал. Похоже, это имя — единственная победа, которую я одержал в этой семье,в лоне которой мне настало время умереть. Но чтобы тебя окрестили Микелем, нужно было нанести моей единственной и вечной любви смертельный удар.
В тот день, когда ты родился, в саду у дома Женсана пахло влажной землей. Это была самая дождливая весна из всех, что помнит Фейшес за целый век. Запах сырой земли, один из самых древних свойственных садам ароматов, обволакивает мои воспоминания, и он связан с твоим рождением. Сад был роскошен, великолепен, и каждый стебелек в нем рос и радовался невиданным дождям. Твой отец, любитель красивых и бесполезных жестов, велел посадить у входа в дом земляничное дерево. Пере не знал, что связывать жизнь человека с деревом неосмотрительно. Но я не смог помешать ему, смирился и стал считать земляничное дерево частью твоей жизни. В тот вечер, когда его посадили, я вышел в сад, выкопал ямку возле куста и, словно новый цирюльник царя Мидаса, доверил ей тайну своей любви, пока эти слова не унес ветер. Может быть, потому-то сейчас у меня и хватает мужества признаться. Хотя, возможно, тебе их когда-нибудь уже шептали листья в закатном свете.
Мужчины в этой семье меня ненавидели. Все, кроме твоего отца, который в молодости был мне задушевным другом. Женщины, напротив, всегда уважали меня и понимали, что единственное счастье, мне еще доступное, — это музыка Момпоу, Сати и Дебюсси. И когда я сидел за роялем, они не закрывали дверь библиотеки, как это делал с презрительной гримасой твой дед Тон, Антоний Третий, Фабрикант, чтоб ему пусто было.
Не хочу, чтобы сержант Саманта нашла у меня тетрадь тетушки Пилар. Я спрячу ее под листами бумаги, из которых складываю фигурки. И, вернувшись из своего бессмысленного путешествия неизвестно куда, где будешь брать интервью непонятно у кого, ты найдешь ее среди бумаг, оставшихся после моей смерти.
Не знаю, стоит ли сейчас рассказывать Жулии о дяде, подумал Микель.
7 Фрагмент из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо с измененными именами и географическими названиями. Цитата дана в русском переводе, выполненном Д. А. Горбовым и М. Н. Розановым. — Примеч. ред.
3
В истории Микеля Женсаны Второго есть множество важных моментов, главную роль в которых играют женщины. Вот и теперь я сижу перед Жулией, которая хочет, чтобы я рассказал ей о Болосе. А что бы я ни сказал о Болосе, придется говорить о себе, обнажаясь до такой степени, какую и представить себе нельзя. Потому что я храню Болоса в одном из уголков своей души, и Ровиру тоже, как бы причудливо жизнь нас ни разъединяла и ни соединяла снова, терпеливо ожидая, когда принесут на закуску оливок. Как же у меня дома все медленно! Когда этот дом еще был моим и я жил в нем, мне больше всего нравилось от него отдаляться, делать вид, что это величественное здание не имеет к моей жизни никакого отношения. Этим и объясняются мои попытки бежать. Но в школьные годы он все-таки был мне дорог. Самым главным в одиноком детстве Микеля были походы из дома в школу и из школы домой, книги дяди Маурисия и мечты. Поэтому я очень хорошо помню все немногие ночи, проведенные вне дома Женсана.
В автобусе мы ехали шумно, как и полагается, сердя водителя и кидая намеки отцу Романи, который сидел на переднем сиденье, на которое теперь, двадцать лет спустя, обычно садятся экскурсоводы и с микрофоном в руке рассказывают: «Обратите внимание, справа — храм Святого Семейства, проект всемирно известного архитектора Антонио Гауди», — и турист с кожей цвета вареного омара рассеянно фотографирует недостроенный храм: «До чего же древняя штука, наверняка римских времен, правда, май дарлинг?8 И Гауд-Ди этот, должно быть, из Карфагена». А у «май дарлинг» мысли далеко: она думает о сливочном мороженом и никак не вспомнит, какой оно было фирмы, «Ками» или «Фриго». И экскурсовод говорит: «Двадцать лет назад здесь, в этом самом автобусе или в каком-то очень похожем, но более раздолбанном, Микель Женсана Второй, Мыслитель, его неразлучные друзья Ровира и Болос и еще сорок бравых парней из шестого класса иезуитской школы на улице Касп ехали в дом молитвы в Эльс-Осталетс9. Они были счастливы, потому что целых три дня никто, даже учитель математики, не будет ни требовать с них домашнее задание, ни мучить контрольными, ни ругать за шум в коридоре. «Не следует забывать, что эти три дня посвящены молитве, и для вашей дальнейшей жизни гораздо важнее те решения, к которым вы можете прийти за эти три дня, чем все, чему можно научиться за несколько лет». А нам-то все равно, хоть горшком назови, у нас три дня каникул, и это очень круто. И во время поездки в автобусе отец Романи, вместо того чтобы говорить: «обратите внимание, вот справа Гауди», использовал бывшее в его распоряжении время, чтобы продвинуться в чтении молитвенника.
Мы вошли в дом молитвы через главный вход, толкаясь и издавая крики. Самые отчаянные, в хвосте, под прикрытием автобуса, курили последнюю сигарету свободы и рассказывали байки о женщинах, которых никогда не видели. Скромная монахиня с улыбкой поздоровалась с обоими священниками (вторым был отец Валеро, преподаватель религии) и начала им что-то объяснять. Войдя в просторный холл, я узнал типичный для мест такого типа запах чистых простыней, лаванды, молчания с легкой примесью щелока и еле уловимого аромата солодового кофе. Нам показали наши комнаты («Во дают, Ровира, одноместные номера, шикуем!»), а потом Микель сел на одинокий стул в своей комнате и вообразил себя монахом. В комнате, не очень хорошо проветренной, чистой и обшарпанной, пахло так же, как на третьем этаже дома Женсана, где обитала прислуга. Микаэлус Секундус, Бенедиктинец, посмотрел по сторонам: на узкую кровать с одеялом цвета солодового кофе с молоком с двумя красными полосками поперек; на крест у изголовья кровати, ставший крестом его долгого покаяния; на стол с настольной лампой, стол его многочасовых занятий теологией; малюсенький умывальник, изъеденный жуками-древоточцами платяной шкаф и красные потертые кафельные плитки пола. Некоторые из них, когда на них наступишь, скрипели и могли отвлечь меня от молитвенных размышлений. Да, все верно: я чувствовал себя в этой комнате так, будто прожил там всю жизнь, и сердце мое забилось, когда я подумал, что хорошо бы стать священником.
Это были три дня, посвященные размышлениям под руководством отца Романи, большого специалиста по пересказу краткого содержания невероятно запутанных «Духовных упражнений» святого Игнатия Лойолы: три дня неба, ад, грех, щедрость, альтруизм, забавные притчи и выдержки из Евангелия, солодовый кофе с молоком, много каши и совсем чуть-чуть мяса, небольшие перерывы, когда можно пойти поиграть в мяч. Но Ровира не хотел играть в футбол и уходил гулять, совсем один, по кипарисовой аллее; а Болос, сколько я к нему ни приставал, играл мало, потому что вечно бегал с курильщиками в запретный уголок за прачечной.
По окончании духовных упражнений я был совершенно уверен, что пойду в священники. По целому ряду причин: я нашел путь, я был спокоен и радостен, потому что пребывал в Истине. Я чувствовал, что мой долг — смиренно указывать этот путь другим, всем тем, кто по слепоте душевной или же просто потому, что им не повезло и они родились в другом месте, не знаком с Благой Вестью о счастье, пути, истине и жизни. А еще я понял, что, как только сделаюсь священником, стану миссионером и уеду в самую суровую и далекую страну: щедрость душевную всегда стоит приправлять изрядной щепотью героизма.И глаза его заблестели, и Микаэлус встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Из какой-то стыдливости я не сказал об этом своем решении отцу Барнадесу, нашему духовному наставнику, который следил за истинными плодами этих счастливых трех дней уединения с отцом Романи.
Но глаза такого синего цвета, что от них кружилась голова, будто от взгляда в глубину морскую, потрясли основы твердого решения Микеля, которое с ним разделили шесть и семь десятых процента его одноклассников, на две десятых процентаменьше, чем в предыдущий выпуск, — постепенно близятся все более тяжелые времена, и, не приведи Господи, настанет тот день, когда...
Глаза из глубины морской принадлежали сирене с ногами девушки в школьной форме школы Св. Иоанны де Лестоннак, девушки, которая каждый день прижимала к своей едва намечающейся груди учебники, не ведавшие своего счастья, и носила прелестные носочки. Кроме того, мне показалось, что я ей приятен. Звали ее Лидия. И я подумал: «Боже мой, какая девушка! Ах, если бы мне не нужно было сейчас ехать на этом поезде», и много дней я тайно ее обожал, и у меня перехватывало дух до тех пор, пока, дабы не разбилось вдребезги мое сердце,бывший миссионер Микель не рассказал обо всем Болосу, большому знатоку по части любви.
— Не понимаю, о ком ты говоришь.
И мы пошли ее поджидать — Болос с холодным взглядом эксперта, мы делали вид, что просто прогуливаемся по улицеПау Кларис, совершенно случайно, по воле случая, оказавшись напротив школы Св. Иоанны де Лестоннак в шесть часов вечера. Локтем в живот:
— Вот она!
— Да их четверо.
— Самая красивая!
— То есть?
— С длинными волосами!
— Блин, Женсана, длинные волосы у двоих!
— Но другая-то пугало огородное.
Тут Микель едва не завязал плодотворную теоретическую дискуссию о методах охраны огородных культур от птиц и женской красоте, но вдруг судьба ему улыбнулась.
— Вон та, которая смеется. Видишь? Она на меня посмотрела, да? Ну как тебе?
— Да... — Задумчивое молчание. — Да.
— Да? В каком смысле «да»? Что скажешь?
— По правде тебе сказать...
— Конечно, говори по правде! Красавица, да? Ведь ради нее и вены порезать не жалко, так?
— Не вижу в ней ничего особенного, Женсана.
Микель с Болосом за три дня не обменялись ни словом. Во время этого тяжкого испытания нашей дружбы я боготворил свою любовь, я шел в нескольких шагах позади нее, всячески стараясь ступать по ее следам, благословляя землю, которой только что коснулись ее ноги, и вздыхая в душе. Мечты об обращении камерунцев в истинную веру, ведущую от берегов озера Чад на Путь, к Истине и Жизни, разбивались о реальность красоты и становились все более туманны, сколько я ни пытался изо дня в день поддерживать этот еще теплящийся огонек в школьной часовенке.
Я окончил школу в тот год, когда в Барселоне поговаривали о том, чтобы отменить трамваи с благовидной целью сделатьдорожное движение более интенсивным и спокойно загрязнять воздух выхлопами общественного транспорта. Возможно, эта идея была чем-то вроде запоздалого гражданского покаяния за печальный конец карфагенца Гауд-Ди10. В общем, я окончил выпускной класс, не завалив ни одного экзамена. Рамье, Камос и Торрес остались на второй год. В последнем классе перед поступлением в университет занятия проводились в другом здании, нас уже не заставляли носить унизительный пиджачок, можно было курить открыто, а не по-партизански в туалете; мы уже считались взрослыми, а все, кто был курсом младше, нам завидовали, и я понял, что математика стала для меня слишком трудной, а бездонные глаза из школы Св. Иоанны де Лестоннак поблекли и действительно было бы дуростью резать себе вены из-за девушки, чье имя я уже плохо помнил и которая,смеясь, обнажала слишком неровные зубы. И когда мы с Мурильо, Болосом и Ровирой ходили играть в настольный футбол на улицу Консель-де-Сент (мне уже разрешали возвращаться домой на следующем поезде), задача просвещения камерунцев незаметно растворялась в воздухе и вдруг исчезала в свете насущной необходимости решать задачи по математике.
А потому, когда нас снова повезли в дом молитвы, я уже не с таким жаром отнесся к идее стать священником, хотя и честно задумался о своих мечтах и о том, чего бы мне хотелось достичь в жизни. И пришел к замечательному выводу, что делать, то есть действительно что-то делать, я ничего особенно и не хочу, а посвящать душу Богу — тем более. Мне было радостно освободиться от цепей, сковавших Савла две тысячи лет назад, ведь вселенная была полна прекрасных глаз: синих, черных, карих, цвета меда, зеленых, глубоких, как пучина морская, — и было счастьем думать, что мне не запрещено в них смотретьпо причинам профессиональной этики. При этом в глубине души Микель Ни-богу-свечка-ни-черту-кочерга чувствовал себятрусом, потому что не внял зову Господню; и в момент слабостион решил поговорить об этом с отцом Романи, между лекциями, в его кабинетике, а потом с Болосом, в прачечной, за запрещенной сигаретой.
— Если у тебя есть призвание стать монахом, ты ничего несможешь сделать, чтобы укрыться от воли Господней. Подумай об Ионе, сын мой.
— Но, отец мой, как узнать, призвание это или нет?
— Не тупи, Женсана, они просто вербуют молоденьких патеров, чтобы их лавочку не прикрыли.
— Да понятно. Ну а вдруг это мое призвание?
— Сын мой, зов Бога — это дар. В том, чтобы его отвергнуть, нет греха... Это просто значит, что ты не проявил должной щедрости, когда Он просил тебя об этом.
— Но я могу стать хорошим человеком, отец мой! Я могу быть добрым христианином и делать другую работу.
— Все-таки они те еще пройдохи. Романи просто хочет, чтобы тебя загрызла совесть, если ты не пойдешь в монахи.
— Нет-нет, никто не заставляет меня ничего делать. Меня же никто не заставляет выбирать ту или другую специальность.
— Где тебе хотелось бы учиться, какая специальность тебя привлекает, сын мой?
— Не знаю.
— Да ты же вообще не представляешь, чем будешь заниматься!
— Кто бы говорил!
Это была очень для меня плодотворная серия размышлений, организованная отцом Романи, членом ордена иезуитов, при поддержке Жузепа-Марии Болоса, лучшего друга, большого специалиста по разрешению чужих проблем. Не успев убедить меня в том, что нет ничего лучше, чем любить всех женщин в мире, он пришел ко мне плакаться в жилетку, потому что наполовину потерял голову из-за угольно-черных волос, покрывавших плечи девушки, ходившей по улицам выше улицы Касп, ученицы школы Иисуса и Марии. Звали ее Мария Виктория Сендра, ей было шестнадцать с половиной лет. Она жила на углу улиц Брук и Валенсия, училась играть на флейте в музыкальной школе при консерватории, а лето проводила в Виладрау. Что-что, а информацию Болос, в отличие от меня, умел добывать всегда, когда появлялась некая цель. Я же ограничивался мечтами о каких-то неясных улыбках, которые, в худшем случае, даже и обращены были не ко мне. А слухи, что век трамваев подходит к концу, потому что в вагоне с прицепом могут ехать одновременно всего триста человек, а в один автобус помещаются более девяноста, да и бензин, конечно, всегда будет дешевле электричества, оказались верны. Была весна, то время года, когда девушки еще более прелестны и ходят в кофточках с коротким рукавом, а если повезет, то и совсем без рукавов, без чулок и носков и в чуть более коротких юбках, и дышат более нетерпеливо, с более страстным, неистовым желанием. Когда деревья наряжаются в тысячи оттенков зеленого и наполняют город радостью, когда становится очевидно, что скоро придет лето, а вместе с ним и каникулы, а вместе с каникулами — свобода, и как же все-таки хороша жизнь. И Микель был потрясен, а Болос очень разозлился, когда Ровира несколько церемонно, прогуливаясь под акациями на улице Дипутасьо, сообщил им, что решил пойти в иезуиты и уже в сентябре станет послушником. И я подумал, вот те на, и тут же мне пришло в голову спросить: послушай, Ровира, блин, а девушки-то как же? Но во взгляде Ровиры читалось, что его дух выше таких вопросов, потому что взоры его устремлялись гораздо дальше, по направлению к Пути, Истине и Жизни, и пока Болос, насупившись, жевал жвачку, я чувствовал себя полным ничтожеством и завидовал Ровире, герою Ровире, который нашел в себе мужество последовать зову Господню. Не то что некоторые, кто вернулся домой, в Фейшес, и никому ничего не рассказал о школьном товарище, который пошел в иезуиты. В то время мы с отцом беседовали о том, что я решил не поступать в Инженерно-технический институт, куда обязан был поступить каждый уважающий себя член семейства Женсана, если, конечно, хотел чего-нибудь добиться в жизни. И с того самого дня отношения с отцом испортились. А дядя Маурисий молча посмеивался себе под нос, зная, что Микель, его единственный и самый любимый внучатый племянник, будет учиться совсем в другом учебном заведении. И в родовом гнезде Женсана воцарился мир, к вящему недовольству отца, но мир. И мать облегченно вздохнула.
В первый день занятий в университете Микель надел галстук и сел на самый ранний утренний поезд. Мы с Болосом встретились на площади прямо перед зданием и оба сделали вид, что ничуть не волнуемся. Скорее всего, как раз поэтому мы и отправились выпить кофе в бар напротив и время от времени кидали косые взгляды на здание факультета гуманитарных наук, словно боялись, что оно от нас убежит. Болос тоже был при галстуке. Мы молча помешивали сахар в чашках, и Болос достал трубку, вид которой тут же побудил во мне зависть. Как и в любом, окажись он на моем месте.
— Не знал, что ты куришь трубку.
— Мне всегда трубки нравились.
— Но ведь эта новая, да? — Микель ехидничал даже с лучшим другом. Он взял трубку у него из рук и осмотрел с видом знатока. — Ну да, ты прав... Когда-нибудь да нужно было начать.
Рядом с ними сидела группа студентов. Много девушек. И все смеялись, как будто были знакомы всю жизнь, как будто ходить в университет было для них самым обычным делом. И ни на одном из парней не было галстука.
— Мы ведь одни из всей школы поступили на гуманитарный?
— Ага!
Болосу стоило страшных трудов раскурить трубку. Огромное облако «Амстердамера» скрыло его от мира, за дымовой завесой у Болоса слегка закружилась голова. А через две затяжки трубка погасла.
— У тебя трубка погасла. — (Микель, что, трудно тебе быть нормальным человеком?)
— Сам знаю, болван. О чем ты там говорил?
— Что мы единственные выбрали гуманитарную специальность.
— Ну да. Мы и Ровира.
— Нет, что ты! Он ведь в послушники подался.
— Ну да, конечно, ты прав. Значит, только мы. — И, энергично затянувшись: — Жаль его, правда?
— Не знаю. Он, наверное, знает, что делает.
Надо полагать, что Ровира в тот момент, в половине девятого утра, в октябре, клял себя на чем свет стоит, повторяя: кой черт понес меня на эти галеры, что мне теперь с этой сутаной делать? А может, принимал Святое причастие с особым рвением, благоговением и трепетом, ощущая совершенное счастье. И ведь ни на одном из студентов в баре — только посмотри, ни на одном! — не было галстука.
— Все, кто учился на гуманитарном потоке, кроме меня, поступили на юридический.
Теперь трубка издавала очень странный звук, но дым из нее шел.
— А из моего математического потока я один гуманитарий. Слушай, Болос, что это за звук?
— Слюна. Мы с тобой — единственные сумасшедшие, ничего не скажешь.
В том возрасте, когда можно мечтать, этим правом следует пользоваться. Микель Женсана провел большую часть подготовительного курса, дрейфуя в океане сомнений. И дело было не только в сомнениях о том, стоит ли становиться католическим священником, миссионером, стремиться к Царствию Небесному и помогать в этом стремлении другим. Он не был достаточно уверен и во всех остальных жизненно важных вопросах — например, возможно ли обнять всех красивых девушек на свете (то есть обнять всех девушек без исключения, так как я знал, что все они красивы), курить, не кашляя, и выбрать, кем быть: производственным инженером, инженером-технологом, химиком, врачом, адвокатом, архитектором и так далее. Я выбрал «и так далее», хотя оно меня очень пугало. Но мнебыло предельно ясно, что я не хочу быть ни производственныминженером, ни инженером-технологом, ни химиком, ни врачом, ни адвокатом, ни архитектором. Давняя семейная традиция не давала мне последовать ироническому совету дяди Маурисия, единственного человека в семье с двумя высшими образованиями, который всегда говорил, что, если хочешь заработать денег, Микель, нужно заняться ремонтом машин: открыл гараж — закрыл гараж, а они все едут. Жаль, что я не последовал его совету. Но дядя говорил это только для того, чтобы позлить моих родителей и бабушку Амелию. В глубине души все мы знали, что ни один Женсана не может позволить себе не поступитьв университет; другое дело — не окончить его или не применятьв жизни полученные знания. Это несколько облегчало Микелю жизнь, поскольку возможность стать наборщиком, плотником или машинистом поезда можно было даже не рассматривать, а о профессии пастуха или постового не стоило и мечтать. Но несмотря на все эти ограничения бескрайней свободы выбора, Микель в выпускном классе страшно переживал, не зная, что ему делать дальше. До того самого дня, пока Болос не сказал: говорят, в университете можно изучать историю.
— Прямо такая специальность есть? Ее прямо так изучают, как, например, какую-нибудь архитектуру?
— Ага. — Это «ага» прозвучало увереннее, трубкой еще и не пахло: до университета было еще далеко.
— Неплохо бы туда пойти, да? Стоит разобраться, как считаешь?
Мы выяснили кое-что про историческую специальность, в этом нам помогли наши школьные патеры, которые, правда, слегка недоумевали, почему это нормальные, здоровые парни из хороших семей не хотят быть ни архитекторами, ни адвокатами, но информацию нам все-таки предоставили, и Болос с Микелем поступили на факультет философских и гуманитарных наук. И Болос (Жузеп-Мария Болос, Друг-неразлейвода) провел все лето, посвящая своего товарища, то есть меня, в секреты латинской грамматики, основательно мною с четвертого класса забытой, и как гласит слово Божие: чем дальше в лес, тем больше дров, и лето у нас прошло за «res, rei», «fero, fers, ferre, tuli, latum» и «Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris Italiam»11, и все это для того, чтобы в первый день учебы оказаться, сгорая от нетерпения и при ненужном галстуке, перед зданием гуманитарного факультета Барселонского университета. За шаг до того, чтобы начать новый этап, посвященный изучению всемирной истории, языкознания и философии, и с готовностью этот мир улучшить, обновить и возглавить.
— Сколько тут девчонок, а?
— И не говори. Наконец-то.
Привыкшие на девушек охотиться, они несколько разнервничались, а главное, обрадовались при виде их столь значительного количества. Болос и Микель вступали в мир взрослых.
— Жарко тут.
Микель украдкой расстегнул пуговицу на воротничке и ослабил для начала галстук. Болос, уже пришедший к дружескому согласию с трубкой, тоже украдкой ослабил себе узел.
— Ну что, пошли?
В восемь часов тридцать семь минут и двенадцать секунд второго октября тысяча девятьсот шестьдесят шестого года Женсана и Болос, два бесстрашных ученика выпускного класса «А» иезуитской школы, имевшие смелость пойти не в адвокаты, впервые вступили в храм мудрости — сердце в пятках, комок в горле, галстук в кармане.
8 Моя дорогая (англ.).
9 Скорее всего, имеется в виду городок Эльс-Осталетс-де-Пьерола, расположенный примерно в 50 км от Барселоны.
10 Великий каталонский архитектор Антонио Гауди (1852–1926) в возрасте 73 лет был сбит трамваем по дороге в церковь и скончался через три дня после этого. Похоронен в Барселоне, в крипте строящегося по его проекту храма Святого Семейства (Саграда Фамилия).
11 «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои — роком ведомый беглец — к берегам приплыл Лавинийским» (лат.). Начальные строки поэмы Вергилия «Энеида» (пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского).
4
— Знаешь что? Здесь, в психушке, я понял, кто я такой.
— И кто же ты, дядя?
— Самый что ни на есть Маурисий Безземельный, Летописец Ветра, Творец Истин, бывший музыкант, бывший филолог, твой бывший дядя.
— Ты все еще мой дядя.
— Нет. Теперь я Летописец. Нельзя же быть всем сразу. — И, как будто извиняясь, он доел последний кусочек шоколада и прошептал: — Ты мне как сын.
— Спасибо.
— Жаль, что у меня нет детей...
Дядя ушел в воспоминания, несколько долгих минут молчал, а потом заговорил монотонным голосом: «Жаль, что у меня их нет. Это почти так же ужасно, как если бы они у меня были. Для меня дочь или сын — биологическое продолжение, отрицание полного исчезновения. Это как сонату написать или сонет. Мы обсуждали это с твоим отцом, пока не стали друг другучужими. Он говорил: „Да, я согласен, Маурисий: иметь детей — значит продолжать свое существование. Но процесс наследования беспощаден и безжалостно стирает черты. И более искусно, чем сама смерть“. И наверное, твой отец был прав, потому что вряд ли кто-нибудь сейчас вспомнит любимый цвет мамы Амелии. А она умерла всего восемь или десять лет назад. Или двадцать, или тридцать, я не знаю».
— Пять.
— Что?
— Моя бабушка Амелия умерла пять лет назад.
— Пять...