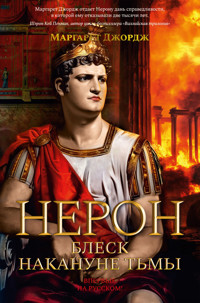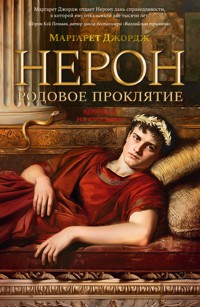
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: The Big Book
- Sprache: Russisch
Юный Луций, племянник императора Калигулы, растет в доме заботливой тетки, вдали от шумного Рима. Родителей он никогда не знал. Жизнь течет счастливо и беззаботно, и кажется, в ней не может случиться ничего необычнее встречи со старой черепахой, которая застала еще великого Августа. Но в Римской империи никто не застрахован от предательства: ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. Луцию предстоит вскоре понять, что волею судьбы он оказался в настоящем змеином гнезде и что само его происхождение является угрозой для его жизни. И усвоить суровый урок: лучше быть жестоким, чем мертвым. Впервые на русском!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
16+
Margaret George
THE CONFESSIONS OF YOUNG NERO
Copyright © 2017 by Margaret George
All rights reserved
Перевод с английского Илоны Русаковой
Оформление обложки Егора Саламашенко
Карты выполнены Юлией Каташинской
Джордж М.
Нерон. Родовое проклятие : роман / Маргарет Джордж ; пер. с англ. И. Русаковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — (The Big Book).
ISBN 978-5-389-25820-4
Юный Луций, племянник императора Калигулы, растет в доме заботливой тетки, вдали от шумного Рима. Родителей он никогда не знал. Жизнь течет счастливо и беззаботно, и кажется, в ней не может случиться ничего необычнее встречи со старой черепахой, которая застала еще великого Августа.
Но в Римской империи никто не застрахован от предательства: ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. Луцию предстоит вскоре понять, что волею судьбы он оказался в настоящем змеином гнезде и что само его происхождение является угрозой для его жизни. И усвоить суровый урок: лучше быть жестоким, чем мертвым.
Впервые на русском!
© И. Б. Русакова, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа “Азбука-Аттикус”», 2024Издательство Азбука®
Посвящается моей внучке Лидии Маргарет, которая (мне нравится в это верить) происходит от великой воительницы царицы Боудикки
Я БЛАГОДАРНА
Бобу Фейбелу, который много лет назад предложил: «Почему бы тебе не сделать своим героем императора Нерона?»
Профессорам Античности Барри Б. Пауэллу и Уильяму Айлварду из Висконсинского университета в Мэдисоне за переводы и за то, что помогли познакомиться и пообщаться с Нероном.
Моему вдумчивому и проницательному редактору Клэр Зайон и моему бессменному и незаменимому агенту Жаку де Шпельберху, которые с энтузиазмом приняли идею рассказать историю Нерона и всецело меня поддерживали.
I
ЛОКУСТА
Я не в первый раз в заточении, поэтому надеюсь, что оно лишь для виду и новому императору Гальбе скоро понадобятся мои уникальные способности; он втайне пошлет за мной, и я снова буду свободно прогуливаться по залам императорского дворца. Там я чувствую себя как дома. Может ли быть иначе? Я много лет оказываю властям предержащим своевременные услуги.
Я — отравительница. Почему не сказать это прямо? И не какая-нибудь отравительница из старых времен, а настоящий знаток и первая в своем деле. Великое множество людей хотят стать второй Локустой, то есть мной, в будущем. Поэтому-то я и основала академию — чтобы передать свои знания и подготовить следующее поколение отравителей, ведь Рим всегда будет в них нуждаться.
Я могла бы посокрушаться и рассказать, как мне жаль, что Рим опустился до такого, но с моей стороны это было бы лицемерием. К тому же я не уверена, что смерть через отравление — не лучшая из смертей. Подумайте о способах умерщвления, которые предлагает Рим. Вас могут разорвать на арене дикие звери, могут удушить в тюрьме Туллианум1, ну и самое пресное — могут приказать вскрыть себе вены, и вы истечете кровью, как жертвенное животное. Вот еще! А от хорошего яда я не откажусь. Разве Клеопатра на своем ложе не приняла с благодарностью яд змеи, который сохранил ее красоту нетронутой?
Покойного императора Нерона я впервые увидела, когда он был еще совсем ребенком и носил имя Луций Домиций Агенобарб, данное ему при рождении. Он был в низшей точке своей жизни — брошенное дитя во власти его дяди Калигулы. (Это уже потом он не оставлял меня без дела!) Его отец умер, его мать Агриппина была в изгнании, а дядя часто забавлялся с ним, как со своей игрушкой.
Помнится, он был славным ребенком — впрочем, он всю жизнь оставался славным и умел расположить к себе, — но робким. Его многое пугало, но больше всего — громкие звуки и те моменты, когда дядя неожиданно призывал его к себе. Была у Калигулы такая привычка — посылать за людьми посреди ночи. Однажды он вынудил меня посетить во дворце ночное театрализованное представление, где сам выступал в роли Юпитера. Иногда, как в тот раз, все проходило безобидно. А иногда заканчивалось смертью какого-нибудь беззащитного призванного бедняги. В общем, Нерон (давайте я буду так его называть, как во избежание путаницы называю Калигулу Калигулой, а не Гаем Цезарем Германиком) очень рано осознал, насколько опасен — смертельно опасен — его дядя.
О, какие воспоминания!
Здесь, в моей камере, я ловлю себя на том, что постоянно к ним возвращаюсь. Так легче скоротать время в ожидании того дня, когда Гальба пришлет за мной, чтобы поручить работу. Я знаю, он призовет меня!
II
НЕРОН
Луна, круглая и яркая, освещала озеро — тоже круглое. Из-за этого казалось, будто луна опустилась на землю и многократно увеличилась в размере. Золотистым светом она поднималась вверх по склонам окружавших озеро холмов и превращалась в яркий шар высоко в небе.
Лунный свет заливал широкую палубу корабля. Я сидел рядом с дядей и слушал, как он речитативом возносит хвалы богине Диане, храм которой стоял на берегу. Само озеро для дяди тоже было сакральным.
Помню красные отсветы факелов на лицах окружавших меня людей — они так контрастировали с голубовато-белым лунным сиянием, которое окрашивало все остальное. Дядя был похож на демона в преисподней.
Это все впечатления, промельки ни с чем не связанных воспоминаний. Отражение в воде, факелы, высокий козлиный голос дяди; нервный смех тех, кто был тогда рядом; холодный воздух.
Мне было всего три года, так что неудивительно, что воспоминания столь обрывочны.
А потом передо мной всплыло лицо дяди.
— Что же мне делать с выкормышем этой суки? — произнес он шелковым голосом.
Снова нервный смех. Грубые руки берут меня за плечи и поднимают в воздух. Я беспомощно дрыгаю ногами.
— А вот что! Я принесу его в жертву богине!
Дядя решительно подходит к поручням и держит меня над водой, покрытой рябью. Я все еще вижу волнообразное отражение луны, оно как будто ждет меня.
— Богиня хочет человеческой жертвы, а что может быть лучше, чем этот мой мелкий сородич и потомок божественного Августа? Для Дианы все самое лучшее. И возможно, это послужит искуплением за те времена, когда Август с большим усердием поклонялся ее брату Аполлону. Так-то!
И я взлетел в воздух, а потом плюхнулся в воду.
Вода была такой холодной, что я даже вскрикнуть не смог и сразу стал тонуть. А потом меня схватили сильные руки и вытащили из воды — я вдохнул. Меня усадили на палубу. Рядом, подбоченившись, стоял дядя.
— Не повезло сегодня, повезет завтра, да, Херея? Ты слишком мягкосердечен, если спас из воды этот мусор. Все, что приносит в мир моя сестра, испорчено.
III
Я сидел рядом с Хереей, меня трясло от холода. С моего места просматривалась вся покрытая мозаикой палуба огромного корабля. Белая мраморная рубка сияла в лунном свете.
Сумасшедший, который бросил меня в воду, теперь расхаживал туда-сюда и смеялся. В следующий раз я услышал точно такой же смех, когда стал старше, — так повизгивала, хныкала и подвывала посаженная в клетку гиена.
«Забери меня, забери меня с этой лодки!» — умолял я любого из богов, лишь бы кто-то меня услышал.
Херея положил мне на плечо огромную ладонь:
— Вставай, парень, чтобы согреться, надо походить.
Он заставил меня подняться и водил вдоль палубы, пока я снова не почувствовал онемевшие от холода ноги. Когда мы проходили мимо гребцов, они поворачивали в нашу сторону голову, как цветок на стебле. Один или два улыбнулись, остальные были похожи на расставленные на палубе статуи.
— Видишь, уже близко. — Херея поднял меня на руки и указал пальцем в сторону суши. — Скоро мы сойдем на берег и вернемся домой.
Как и когда я вернулся домой, не помню. Я уже говорил, что те ранние воспоминания словно подернуты туманом и не связаны между собой. Они как облака, проплывающие в моей голове, — каждое само по себе, и каждое вмещает что-то свое.
Моя маленькая кровать в доме тети, где я жил, была узкой и жесткой. Думая о ней, я даже чувствую грубые простыни, но что еще было в той комнате, увидеть не могу. Знаю, что дом был в сельской местности: по утрам я слышал кукареканье петухов и помню, как собирал на соломенной подстилке теплые яйца. А еще помню много самых разных бабочек и цветы на длинных стеблях — теперь я знаю, что это были сорняки.
Я звал тетю Бабочкой, потому что одним из ее имен было Лепида, что означает «прекрасная и утонченная», а она была очень красивой. Ее волосы отливали медью, но не яркой, будто только что начищенной, а потускневшей от пыли. Будучи младшей сестрой моего отца — он умер до того, как я успел его узнать, — она рассказывала мне о нем разные истории. Однажды я вслух заметил, что у нее волосы светятся на солнце.
— В нашем роду у всех волосы цвета бронзы, — рассмеялась тетя в ответ. — Вот у тебя волосы светлые, а я все равно вижу легкий бронзовый оттенок. Хочешь, расскажу, почему так получилось?
— Конечно хочу!
В надежде, что история будет длинной, я поудобнее устроился рядом с тетей.
— Хорошо, слушай. Когда-то очень давно один из наших предков шел по дороге и вдруг увидел двух высоких и красивых молодых мужчин.
— Это были боги? — попробовал угадать я.
Когда вдруг возникают высокие незнакомцы, это всегда боги.
— Да, боги-близнецы — Кастор и Поллукс. Они сказали нашему предку, что римляне одержали победу в великой битве, затем велели ему пойти в Рим и всем об этом рассказать. А чтобы доказать, что они боги и говорят правду, близнецы прикоснулись к его черной бороде, и борода сразу стала рыжей. Так наш род получил свое прозвище: Агенобарбы, Рыжебородые.
— У моего отца тоже была рыжая борода?
Я хотел больше узнать об отце, хотел услышать, что он был прославленным героем, а его смерть явилась настоящей трагедией. Позже я понял, что ни то ни другое не соответствовало действительности.
— О да, он был истинным Агенобарбом. А еще наш род необычен тем, что его мужчины носят только два имени: Гней и Луций. Имя твоего отца — Гней, тебя зовут Луций. Твоего деда тоже звали Луцием, он был консулом, но еще и колесничим, причем прославленным.
У меня были игрушечные колесницы из слоновой кости, я любил устраивать гонки на полу.
— А когда я смогу стать колесничим?
Тетя Бабочка запрокинула голову и рассмеялась:
— Еще не скоро. Чтобы править колесницей, надо быть очень сильным. Поводья придется держать крепко, иначе их у тебя вырвут лошади. К тому же колесница так подпрыгивает, что можно выпасть, а это крайне опасно.
— А если в маленькую колесницу запрячь пони, я с такой управлюсь?
— Может быть, — сказала тетя. — Но ты все равно еще слишком молод для этого.
Я действительно помню тот разговор про колесницы и рыжие бороды. А вот почему жил у тети Бабочки и что случилось с моими матерью и отцом, понятия не имел. Я знал, что отец умер, но о матери не знал ничего, кроме того, что ее со мной не было.
Тетя определила ко мне двух наставников. Одного звали Парис, он был актером и танцором. Второго звали Кастор, и он работал парикмахером. Он брил бороду тетиному мужу (не рыжую, а обычную коричневую), зашивал порезы и еще много чего полезного умел делать. Парис лишь развлекал меня. Он только и делал, что играл и притворялся кем-то другим. Сначала он рассказывал историю — обычно про греков, потому что у них лучшие истории, — а потом изображал всех ее героев. В жизни Парис был темноволосым и не очень-то высоким, но, клянусь, изображая Аполлона, он становился выше, а глаза и волосы его светлели.
— Нет, малыш, — рассмеялся Парис, когда я ему об этом сказал, — это все твое воображение. Такая у актера работа: благодаря ему ты видишь и слышишь то, что ты представляешь в голове.
— Значит, актеры занимаются магией?
Парис быстро огляделся по сторонам, в глазах у него промелькнул испуг.
— Конечно нет! Магия только в твоих мыслях.
Это было незадолго до того, как я узнал, что колдовство запрещено и что именно его практиковали в этом доме.
Расти единственным ребенком в доме как-то странно. Играть мне было не с кем, кроме разве что Париса — который во многом казался ребенком, но все же оставался взрослым — и детей-рабов. Тете не нравилось, что я играю с этими детьми, но она не могла следить за мной весь день, да и чего еще ей было от меня ожидать?
Скажу прямо: я был одинок. Одинок, словно в молитвенном уединении; словно в тюрьме — так может быть одинок лишь тот, кто не такой, как все. Тетя не уставала повторять, что выделяться и отличаться от других — это особое качество сродни славе, но для меня это было сродни наказанию или заключению.
Я обретал свободу, играя с детьми-рабами моего возраста или изображая разных персонажей, чему меня учил Парис. Иногда я выступал в роли какого-нибудь бога, иногда — в роли девушки: например, играл Персефону, когда Парис изображал Аида (мы всегда использовали греческие имена, а не римские, Прозерпина и Плутон). Порой я изображал взрослых. На сцене — на самом деле это был внутренний двор — я мог быть кем угодно, а в реальной жизни, как постоянно напоминала мне тетя, я был потомком божественного Августа. Но, как рассказал мне Парис, моим предком был еще и соперник Августа, Марк Антоний. И для меня Антоний был гораздо интереснее, чем скучный, лишенный эмоций божественный Август.
— Антоний отправился на восток, в земли, где говорили на греческом, и в Египет. Там он наслаждался музыкой, цветами, вином и дионисийскими мистериями. Он командовал огромным флотом, а его жена Клеопатра была царицей Египта. Он...
— Разрушил себя и опозорил звание римлянина, — прервал рассказ Париса резкий голос.
Мы обернулись и увидели, что в дверях стоит муж тети, Силан. Он редко бывал дома, поэтому его неожиданное появление испугало нас вдвойне. Силан подошел ко мне, наклонился и посмотрел прямо в глаза:
— А теперь пусть Парис расскажет тебе всю историю. — Он вскинул голову и посмотрел на моего трясущегося от страха наставника. — Продолжай, Парис!
— Уф... у берегов Акция его флот сошелся в морской битве с флотом Октавиана Августа, и он потерпел поражение.
— Однако, вместо того чтобы упасть на меч, как поступил бы любой уважающий себя римский генерал, он бежал обратно в Египет, — подвел итог Силан. — Перед тем как переметнуться на восток, он женился на сестре Августа и оставил с ней двух прекрасных дочерей, Антонию Старшую и Антонию Младшую. Божественный Август и Марк Антоний оба твои предки. И никогда не забывай, что ты наследник Марка Антония — римлянина, а не развращенного и опозоренного грека.
Силан говорил с такой яростью в голосе, что я сразу кивнул, лишь бы он отвел от меня взгляд. Наконец Силан выпрямился и велел Парису вернуться к нашим обычным занятиям и выкинуть эту греческую чушь из головы.
В общем, все обошлось, а когда Силан удалился, я спросил Париса:
— Но что было с Антонием после возвращения в Египет?
— Август настиг его там, и он умер. Он похоронен в Египте, а не в Риме. Что ж, Египет — очень интересное место, там древние руины и громадные пирамиды, множество гробниц... Весьма неплохое место для вечного упокоения, — громко сказал Парис, а потом уже шепотом заметил: — У Антония в Египте были еще дети, Август привез их сюда и воспитал, как римлян.
— И они были хорошими римлянами?
— Насколько можно судить — да. Девочка выросла и стала царицей Мавритании, а ее сын уже потом вернулся в Рим. Он мог бы стать твоим кузеном2.
— А что с ним случилось?
— Калигула приказал его казнить, потому что он осмелился появиться в присутствии императора в пурпурных одеждах. Теперь понимаешь, как тебе повезло, что он всего лишь выбросил тебя за борт? Да еще и позволил вытащить из воды, а потом только посмеялся.
Однажды тетя призвала меня к себе. Она держала на руках младенца и счастливо улыбалась, потом поставила его на пол. Малыш покачнулся и сделал несколько неуверенных шажков, при этом булькал и лепетал что-то бессвязное.
— Вот, теперь тебе есть с кем играть! — сообщила тетя, будто я мог играть с соплей, которая ни ходить, ни говорить толком не умеет. — Моя внучка Октавия!
То есть она решила, что мне лучше играть с этой мелкотней, чем с детьми-рабами? И что мне с ней делать?
Я наклонился, чтобы лучше разглядеть малышку. Она потянулась и вцепилась мне в волосы, а потом заплакала. Очень неприятное создание. Я выпрямился и только тогда заметил, что из-за плеча тети выглядывает женщина.
— Это твой маленький кузен? — спросила, выйдя вперед, незнакомка так, как будто и правда ожидала, что малышка ответит; когда же этого не произошло, обратилась ко мне: — О, маленький Луций, у тебя волосы вьются, как у всех в нашей семье! Это очень хорошо! У меня тоже.
Она немного взбила свои кудри.
— Знаешь, мы с тобой двоюродные родственники... то есть очень близкие!
Она наклонилась и поцеловала меня в обе щеки. Я сразу почувствовал аромат толченого корня ириса. Голос у нее был низкий и теплый.
— Я мама Октавии. Надеюсь, вы полюбите друг друга.
Тетя Лепида ревниво за нами наблюдала.
— Это моя дочь Мессалина, — представила она. — И хотя она замужем и сама уже мама, у вас разница всего в семнадцать лет.
— Как я вам завидую, — сказала Мессалина сладким и тягучим, как сироп, голосом. — Живете на природе... я так по этому скучаю.
— Она живет в Риме вместе с мужем Клавдием, — пояснила мне тетя. — Он брат твоего прославленного деда Германика.
— Наверное, очень старый, — ляпнул я.
— Если встретишь его, никогда так не говори! — рассмеялась Мессалина, и смех ее был столь же чарующий, как и голос.
Хоть я и был тогда совсем юным, сразу отметил про себя, что она не стала оспаривать мои слова.
— Так, значит, у нас гости... семьи? — спросил Силан, входя в комнату.
— Да, гости семьи, — проворковала Мессалина.
— Гости семьи — самые желанные гости, — заверил Силан.
Почему они все время упоминают семью? И почему всегда собранный и невозмутимый Силан вдруг так разволновался?
— Да, давно... очень давно вы нас не навещали. Но я понимаю, из Рима выбраться не так просто.
— Но и не так уж трудно, если очень захотеть, — сказала Мессалина и чуть подалась ему навстречу.
Это был лишь один шаг, такой маленький, что я его заметил только потому, что наши ступни оказались рядом.
— Уверен, Клавдий очень ценит твое присутствие, — сказал Силан и едва заметно попятился.
Почему эти взрослые двигаются как крабы, хоть и медленно? Тут Октавия завопила, появилась рабыня и взяла ее на руки.
— Давайте насладимся подогретым вином, — предложил Силан. — В эти дни нам так не хватает тепла.
Они вышли из комнаты, предоставив меня самому себе.
«Порядок» — любимое слово Силана, только вот поддерживать порядок в семье было очень сложно: из-за множества близкородственных браков казалось, что все друг другу родня. Одной из моих любимых комнат в доме тети была та, где стояли бюсты предков. Я часто и подолгу их разглядывал, так что внешность связалась с именем. Все они давно умерли, и я не мог с ними повстречаться, и в то же время они казались мне вполне живыми, как прочие родственники, ведь их имена постоянно всплывали в разговорах. Великий Германик, Антония Старшая, Марк Антоний, Октавия Младшая... Можно было подумать, что они живут где-то по соседству.
В этой тихой комнате, не знавшей смены времен года (зимой мраморные полы были теплыми, а летом — прохладными, но воздух всегда стоял одинаковый), главенствовали бюсты. Это было их маленькое царство. Все беломраморные, и только один Марк Антоний — из темно-красного порфира. Густые волнистые волосы, мощная шея — я представлял его мускулистым и коренастым. Он казался каким-то взъерошенным, и я был уверен, что никогда бы его ни с кем не перепутал.
Рядом стоял бюст Антонии Старшей. Такой свою дочь Антоний не знал, ведь в последний раз он видел ее маленькой, в возрасте Октавии. Их бюсты были неподвижны и навеки разлучены. Я внимательно изучил ее лицо. Хотелось бы мне назвать бабушку красавицей, но она была самой обычной дурнушкой: сколько раз с такой ни встреться, все равно не запомнишь лицо. Говорят, ее младшая сестра, моя прабабушка по другой линии, была гораздо красивее. Она умерла, когда я родился или чуть раньше. Возможно, когда-нибудь я увижу ее бюст и смогу сравнить с сестрой.
Бюст главы нашего рода Германика был крупнее всех и стоял особняком. Мой предок был красив и молод, таким и останется в наших историях. Смерть он встретил, когда правил вдали от Рима. Порой людей, которые умирают, не исполнив своего предназначения, превозносят вопреки их заслугам. Так случилось и с Германиком. Я слышал, как люди сетовали, что судьба обманула его и не дала стать великим императором. Но кто знает, каким императором он бы стал? Надежды далеко не всегда оправдываются, и бутоны не всегда превращаются в прекрасные цветы. Если Германик был невзрачным цветком, смерть спасла его от разоблачения.
Было еще много других бюстов: Луции и Гнеи из рода Агенобарбов и их жёны, черты которых слабо угадывались в их потомках. Я решил, что все они жили в далеком туманном прошлом, и не стал тратить на них время.
IV
Время на вилле тети тянулось очень медленно, но не могу сказать, что один день был похож на другой. В солнечную погоду двор был словно позолочен, но чаще стояли холод и сумрак, и мы сидели в доме, греясь возле жаровен. В общем, скука и почти никаких развлечений. Я мог часами играть со своими колесницами, растянувшись на полу, и меня никто бы не заметил.
Сбор урожая оливок нарушил однообразное течение дней. Это было осенью, и мне поручили идти за рабами и следить, чтобы ни одна оливка не осталась лежать на земле. На самом деле это придумали, чтобы чем-то занять маленького мальчика, но у меня, пока я высматривал на земле маленькие округлые плоды, было ощущение, что я выполняю очень важную и нужную работу. Многие оливки были побиты и раздавлены, в воздухе висел густой и сладкий запах оливкового масла.
— Жидкое золото, — сказал мне надсмотрщик. — И намного полезнее, чем настоящее. Оно и в еду годится, им можно освещать жилье, с его помощью залечивают раны и смягчают сухую кожу, в него можно макать хлеб... Настоящий дар богов. Без оливкового масла мир стал бы безвкуснее, а твоя тетя — беднее. Оливки, может, и не такие притягательные, как золото, но они уж точно более надежный источник дохода.
У нас за спиной послышался шум, я обернулся и увидел, что к нам идет тетя Лепида с каким-то мужчиной — то ли хромым, то ли качавшимся на ходу.
— Клянусь Посейдоном, это же сам Клавдий! — изумился надсмотрщик.
А потом он повернулся ко мне и улыбнулся, причем улыбка его была скользкой, словно оливковое масло, которое он только что расхваливал.
— Да, урожай в этом году прекрасный, — говорила тетя спутнику, пока тот рассеянно смотрел по сторонам и подергивал свой плащ.
— Я в-в-вижу, — сказал мужчина, глядя на оливковую рощу, разросшуюся по склонам холмов.
Солнечный свет падал на деревья под косым углом, придавая зеленой листве серебристо-серый оттенок.
— Видеть вас — большая честь для нас, о принц, — низко поклонился надсмотрщик.
Я быстро огляделся по сторонам: все вокруг поклонились, и я тоже поклонился.
— Т-ты не обязан мне к-кланяться. — Мужчина взял меня за руку, и я сразу выпрямился. — Я твой д-двоюродный дед Клавдий, б-брат твоего деда Германика.
Я чуть не рассмеялся, но вовремя удержался. Это что, шутка? Все говорили, что Германик был воплощением мужественности, а судя по бюсту в комнате тети, он еще и красив был, как Аполлон. Этот же человек — какая-то развалина, а не мужчина.
— Тем больше у нас оснований беречь его как дражайшее сокровище, — сказала тетя Лепида и взяла Клавдия за руку (тот как будто растерялся). — Он — все, что нам осталось от этого образцового воина.
— Я не р-реликт! — возмутился Клавдий.
— Нет, ты — супруг моей любимой Мессалины, а слишком хорошо для нее не бывает.
О, Мессалина! Женщина, которая источает спелость, превосходящую спелость всех оливок на этих холмах. Та странная женщина с неинтересным ребенком.
— Она в п-пути, — сказал Клавдий. — З-задержалась в Риме, но с-следует за мной.
— Я благодарна, что ты взял ее с собой. В последнее время я так редко ее вижу.
— Н-новый ребенок т-требует внимания, так что я т-тоже редко ее в-вижу.
Клавдий улыбнулся, а тетя вдруг наклонилась ко мне, будто захотела поделиться чем-то очень интересным.
— Луций, у тебя появился кузен... Малыш по имени... как его зовут, Клавдий?
— Т-тиберий Клавдий Германик. Г-германик — чтобы сохранить б-благородное имя и показать, что линия п-продолжается.
Так я впервые услышал имя своего будущего соперника, который претендовал на мою жизнь и мое положение.
В следующий момент Клавдия всего передернуло, и он стал заваливаться на надсмотрщика, едва не сбив того с ног. Глаза у него закатились, челюсть отвисла.
— Тише-тише... — Тетя поддержала Клавдия. Она вытерла его лоб и погладила по щеке, потом повернулась к нам и сказала: — С ним случаются такие припадки, но быстро проходят. Не обращайте внимания.
Если бы мы могли! Я во все глаза смотрел на Клавдия. Лицо у него было каким-то пустым, будто в него вошел дух (повар рассказывал мне о духах или демонах, способных завладеть человеком). А потом все прошло, в точности как говорила тетя. Клавдий заморгал, закрыл рот и вытер ладонью стекавшую по подбородку слюну. Он огляделся по сторонам, словно припоминая, где находится.
— Да, благородное имя, — сказала тетя так, будто разговор и не прерывался.
И они пошли к дому, причем Клавдий опирался на ее плечо.
— Да уж, бедняге не позавидуешь, — заметил надсмотрщик, — пусть он и брат Германика. Как так получилось? Его мать была распутницей или боги действительно любят с нами поиграть?
— Ты говоришь о моей прабабке, — сказал я со всем достоинством, на которое был способен в том возрасте, а потом рассмеялся. — Так что мне придется придерживаться теории, что мы для богов — всего лишь игрушки.
Я вернулся в дом и тут же увидел, как в холл стремительно вошла Мессалина. С ней была маленькая девочка, а в руках она держала сверток, который, как я догадался, и был прибавлением в их семействе.
— О, Луций!
Мессалина бросилась ко мне и прижала к своей пышной груди так, будто мы были самыми близкими друзьями. Сверток, от которого скверно пахло, оказался зажат между нами, и его содержимое пискнуло.
— Это твой новоиспеченный кузен Тиберий!
Я посмотрел на его личико и постарался изобразить улыбку, но больше всего в тот момент мне хотелось высвободиться из объятий Мессалины.
— Очень милый, — сказал я.
Мессалина притянула к себе Октавию и заключила в свои объятия нас обоих — или, вернее, троих, если считать со свертком.
— Кузены, разве это не прекрасно? Как же хорошо, что мы есть друг у друга!
Мессалина внезапно отпустила нас и выпрямилась. Голос у нее изменился. Она послала за рабом, чтобы тот присмотрел за детьми. К детям она, естественно, причисляла и меня, однако я медленно, но уверенно отошел от нее и направился в свою комнату. Еще чего, решила приравнять меня к своим младенцам!
Довольно долго я играл с колесницами, наслаждался тишиной и примерял миниатюрные театральные маски, которые специально для меня сделал Парис. Потом начался дождь, мягкий стук капель по крыше убаюкал меня, я положил голову на руки и задремал.
Сколько я так проспал, не знаю, но, когда проснулся, за окнами уже было темно. За дверью послышались тихие шаги, и кто-то заглянул в мою комнату — я закрыл глаза и притворился, будто все еще сплю, а потом с трудом расслышал, как в соседней комнате кто-то доложил, что никто не подслушивает и можно говорить. Последовала беседа, в которой принимали участие несколько человек; они говорили негромко и часто перебивали друг друга, так что я не мог различить и разделить голоса.
Что у них за секрет такой, если они боятся, что я — или кто-то другой — их услышу? Мне так захотелось это выяснить, что я потихоньку вышел из комнаты и опустился на четвереньки, чтобы можно было медленно, но верно двигаться вперед и оставаться незамеченным, если кто-то посмотрит в мою сторону.
Они собрались в библиотеке вокруг большой жаровни. Тетя, Клавдий и еще одна женщина, которую я раньше не видел, сидели на скамьях; остальные стояли. Увидев их всех, я юркнул обратно в коридор и навострил уши. Перед глазами еще стояла картина: все жестикулируют, мужчины ходят взад-вперед.
Первое, что я услышал:
— ...он не сошел с ума окончательно, просто на него накатывает безумие, а потом все приходит в норму.
Второе:
— Только накатывает быстро, а приходит в норму очень медленно.
И дальше:
— Если это никому не вредит, пусть себе рядится в Юпитера или соединяет свой дворец с его храмом, но число убийств растет с каждым днем. Да, я утверждаю: число убийств растет. Даже то, что я это говорю как само собой разумеющееся, — ненормально.
Они наверняка о Калигуле. Я мог бы свидетельствовать, что он — убийца... он пытался убить меня.
— Говори тише, рабы...
К сожалению, они заговорили тише, и пришлось напрячь слух.
— Он был болен, и я подумал, что может и не оправиться. Но он выздоровел. И потом, случись с ним что-нибудь, кто его сменит? Его единственный ребенок — маленькая девочка, и он не усыновил взрослого в качестве наследника.
— Об этом действительно небезопасно говорить. Даже здесь. Шпионы могут быть повсюду.
— Тогда нам следует признать, что он нас контролирует и мы бессильны. Хоть кто-нибудь чувствует себя в безопасности? Он ведь бьет наугад.
— Никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже собравшиеся в этой комнате, хоть мы ему и родня. Мы знаем, что он убивает родственников. Хоть Птолемея Мавританского спросите... Только он уже не сможет заговорить.
Я вскочил на ноги и вбежал в комнату. Страх и ненависть к Калигуле заставили забыть об осторожности.
— Я! Я могу говорить! Он хотел меня утопить!
Все одновременно повернулись в мою сторону.
— Луций! — изумилась тетя Лепида. — Ты должен немедленно вернуться к себе. Иди и ложись спать.
— Уже п-поздно, — сказал Клавдий. — Он все с-слышал, и он с-слишком большой, чтобы з-забыть. Но у него есть честь. Он никому не расскажет о т-том, что услышал. Т-так, Луций?
У Клавдия тряслась голова, но говорил он здраво.
— Да. И никто не должен повторить того, что я скажу сейчас. Он взял меня на свой корабль и хотел принести в жертву Диане. Он по-всякому меня называл, а потом бросил в воду. Меня спас один солдат.
— Думаете, солдаты по-прежнему ему верны? — спросила Мессалина.
— П-преторианцы т-традиционно верны императору, — сказал Клавдий. — Но они могли бы...
— Я слышала, он их унижает и всячески над ними насмехается, — заметила Мессалина. — Станут ли они и дальше это терпеть?
— Зависит от т-того, с-скольких он унижает, — отозвался Клавдий.
Еще одна здравая мысль.
Тут встала женщина, которую я до того дня никогда не видел.
— Я могу предложить другое решение, если вы пожелаете с ним согласиться, — сказала она.
У нее были темные волосы, но прежде всего я отметил спокойствие, с каким она говорила, и ее осанку.
— Меня знают под псевдонимом Локуста, в целях безопасности я не стану раскрывать свое настоящее имя. Мое ремесло — приготовление амброзии, которая уже многих отправила на Олимп... Хотя на вопрос, превратились ли отправленные туда в богов, я не смогу вам ответить.
— Другими словами, ты отравительница, — заключила Мессалина. — Мы не опустимся до подобных методов. Но в подтверждение собственных слов не могла бы ты поведать нам хоть об одном... своем успехе?
— Конечно нет. Я не настолько глупа. У меня чистая репутация, и мне никогда не выдвигали обвинений. Только круглая дура может объявить на весь свет, что приложила руку к тому, что все считают естественным ходом вещей. Доверьтесь мне, а я продемонстрирую вам свое умение на любом животном, какое вы выберете. Кроме того, вы можете заказать средство очень медленного действия, среднего или мгновенного. Все зависит от... от события, соответствующего вашим целям.
— Мы могли бы на это пойти, — сказала Мессалина.
— Я не с-стану в этом участвовать! — возвысил голос Клавдий. — М-мои уши этого не слышали! Все п-поклянитесь! — Он оглядел собравшихся в библиотеке и остановил свой взгляд на мне. — И ты, маленький Луций. Я не слышал н-ничего из т-того, что было з-здесь сказано.
— Да, Клавдий, ты — мой двоюродный дед, и ты не слышал ничего, что было сказано в этой комнате. Тебя даже здесь не было!
Пойдем еще дальше.
— Именно, — сказал Клавдий и похромал в сторону столовой. — Мессалина, м-мы в-возвращаемся в Рим.
— Да, любовь моя, — отозвалась та. — Рим... В наши дни никто не знает, что нас там ждет.
— Не беспокойся так, дорогая, — сказала тетя. — Ты жена Клавдия, а потому в безопасности. Для Калигулы твой супруг — ручная зверушка, убивать его скучно, гораздо веселее унижать.
Мессалина поджала губы и кивнула.
— Силан тоже в безопасности, и на том спасибо.
Ко мне подошла Локуста:
— Что ж, малыш, ты вошел в эту комнату и высказался, хотя я видела, как у тебя тряслись колени. Это очень смелый поступок. Только настоящий смельчак способен на такое, пусть и с трясущимися коленями.
— Я сказал правду. И я ненавижу Калигулу. Нельзя, чтобы он поступал с другими так, как поступил со мной.
— О да, но кто повесит на кота колокольчик?
— Не уверен, что понял тебя.
— Это такое присловье. Как-то совет мышей собрался решить, что делать с бродячим котом. Сошлись на том, что лучше всего будет повесить на шею коту колокольчик, чтобы можно было услышать, как он приближается, и убежать в укрытие. Да, план был прекрасный, оставалось только найти мышь, у которой достанет смелости, рискуя жизнью, запрыгнуть на загривок коту.
— Понятно, — кивнул я: никто не решится напасть на Калигулу. — Но амброзия...
— Умный мальчик. Это все равно что поставить перед котом блюдце с молоком, но, чтобы добраться до молока, ему придется сунуть голову в петлю с колокольчиком. И в момент, когда ловушка сработает, того, кто ее установил, рядом не будет. — Локуста вздохнула. — Однако, если они не желают воспользоваться моими услугами, им придется попытать удачи с более опасными средствами.
V
Говорят, когда человек узнаёт о событии, которое изменяет его жизнь, место, где он об этом услышал, навсегда остается в его памяти. Ты запоминаешь мельчайшие детали, но не можешь увидеть картину целиком. Это как во сне — мелочи видишь четко, но значение происходящего и окружающая обстановка остаются загадкой. Так и я помню, что был в саду и наблюдал за двумя порхающими вокруг друг друга белыми бабочками. Все остальное — будто в тумане.
Вот тогда я впервые услышал чей-то крик: «Калигула мертв!»
Кто это крикнул? Не знаю. Откуда донесся тот крик? Не знаю. Я стоял как вкопанный и наблюдал за бабочками. Калигула мертв. Калигула мертв...
В дом тети я наверняка вернулся бегом. Тогда-то мне, скорее всего, и сказали, что император умер — убит из ненависти... А значит, подозреваемых более чем достаточно. Но убийц схватили, а их лидером оказался не кто иной, как Кассий Херея — человек, который меня спас. А потом мне наверняка сказали, что Клавдий теперь император. Я помню все это, но не помню, как именно об этом услышал. Помню, какую радость испытал, когда узнал, что мой мучитель мертв.
В семье тут же произошли перемены. Тетя стала матерью императрицы Мессалины, которой на тот момент едва исполнилось двадцать лет. Преторианская гвардия объявила Клавдия императором, так как он оказался одним из немногих выживших членов императорской семьи и был у них под рукой.
— Он пытался отказаться, — покачала головой тетя. — И правильно, ведь его не назовешь величественным. Но в его жилах течет кровь императоров, и нет ничего важнее этого.
— А Мессалина теперь императрица, — сказал я. — Ты, наверное, очень гордишься.
— Так и есть. И Силан очень горд, что его падчерица заняла столь высокое положение.
А я сильнее, чем когда-либо, почувствовал себя отщепенцем, бедным воспитанником обретшей высокое положение семьи. Мой отец умер, мать ушла, отцовское наследство присвоил Калигула, так что я жил на попечении тети и только благодаря ее милости. И что теперь? Не захочет ли она избавиться от меня, как от какой-нибудь помехи или неудобства?
Во время тех событий я был последним, о ком стали бы думать. Я превратился в невидимку, и меня это очень даже устраивало. Иногда я прятался в комнате с бюстами предков. Там мне, сам не знаю почему, было спокойно. Потому что они давно ушли и унесли с собой свои проблемы? Потому что спокойно взирали на меняющийся на их глазах мир? Антоний не мог знать, что станет с его римскими дочерьми, он даже не мог знать, доживут ли они до взрослого возраста. Я уж не говорю о его детях от Клеопатры. Или о том, что сенат лишит его всех почестей, запретит праздновать его день рождения и распорядится убрать все официальные статуи. Смерть наградила его блаженным неведением и даровала свободу.
А мы не были свободны. Как только мы узнали о случившемся, страх поселился на вилле, причем такой густой, что даже ребенок мог его почувствовать.
Калигулу убили его самые верные гвардейцы под предводительством Хереи. Его зарубили и оставили истекать кровью, совсем как фламинго, которого он успел принести в жертву в тот день. Его жену и маленькую дочь умертвили, после чего разъяренные убийцы отправились на поиски других членов императорской семьи. Вполне возможно, я уцелел лишь благодаря своему низкому статусу в доме тети, который к тому же был очень далеко от Форума. Согласно истории, они и Клавдия чуть не убили, но его спас преторианский гвардеец, который нашел его спрятавшимся за шторой.
— На твоем месте я бы сомневался в правдивости этих слухов, — однажды прошептал мне на ухо Парис. — Клавдий гораздо умнее, чем может показаться со стороны. — Тут я растерянно заморгал, и Парис объяснил свою мысль: — Если Клавдия и обнаружили случайно, то только потому, что он сам все так устроил.
У меня холодок пробежал по спине. Получалось, даже благожелательность и очевидная слабость Клавдия были его маской?
— Ты хочешь сказать, что он... он сам все это организовал?
— Не обязательно, — пожал плечами Парис. — Но если он знал о готовящемся убийстве племянника, то точно постарался извлечь из него выгоду.
— Что сделали с Калигулой?
— Его тело поскорее сожгли, а прах захоронили в неглубокой могиле в Ламианских садах. Говорят, его дух еще кричит там по ночам.
Клавдий начал ходить в пурпурных одеждах и к данному при рождении имени добавил Цезарь Август. В начале лета Мессалина пригласила своих родственников, тогда мы впервые и вошли во дворец. Я надеялся, переступив его порог, избавиться от страхов и ночных кошмаров: мне снилось, что призрак Калигулы входит в мою комнату и никак не исчезает. Я надеялся, что новый император не будет меня преследовать, а, наоборот, станет защищать.
Мои воспоминания о тех временах по большей части разрозненные, как кусочки мозаики. Карета медленно везет нас в Рим... Въезжаем в город... Дома стоят вплотную друг к другу, некоторые из красного кирпича, некоторые из белого мрамора... Меня пересаживают в паланкин, тот всю дорогу раскачивается... Подъем по холму становится круче, меня откидывает назад... Потом — зеленые сады на плоской вершине холма... В подножии холма множество домов...
— Все это построил Тиберий, — сказала тетя. — Божественный Август жил в простом небольшом доме, сорок лет кряду спал в маленькой спальне на низкой кровати, укрываясь тонким покрывалом, и его это устраивало.
Мне показалось, что в голосе тети прозвучали нотки недовольства образом жизни, который выбрали для себя наследники Августа. А если так, исчезнут ли они, когда появится Мессалина и пригласит нас войти во дворец?
Мессалина изменилась. Теперь она носила шелка и в ее волосы были вплетены золотые и жемчужные нити.
— Моя дорогая матушка. — Она поцеловала тетю в щеку, но не по-родственному, а формально; потом долго молча смотрела на Силана и наконец сказала: — Силан, я очень рада принять вас у себя.
Она наклонилась ко мне:
— Луций.
Я не почувствовал и капли тепла, которое она источала на вилле тети. Мессалина как будто заново меня оценивала.
— Не стоит тебе носить зеленый, он тебе не идет, — заметила она.
— И какой же цвет мне стоит носить, моя госпожа?
Мессалина прищурилась и как будто задумалась.
— Красный, может быть. Золотой. Но определенно не пурпурный.
Даже я понял, что именно она хотела сказать: «Знай свое место и не вздумай лезть выше».
В первом зале потолки были такими высокими, что я даже не смог их разглядеть. Мы долго шли по скользкому мраморному полу; миновали другой зал, потом еще один. Открытые окна обрамляла зеленая листва, которую покачивал легкий бриз; в воздухе стоял запах живой изгороди и мяты. Везде нас сопровождал шорох шелков Мессалины.
Наконец мы дошли до зала с огромным балконом, откуда открывался вид на великий город. Я увидел поле в форме вытянутого узкого овала.
— Что это там? — спросил я.
— Луций! — одернула меня тетя. — Ты должен стоять рядом с нами и молчать, пока тебе не позволят заговорить.
— Все в порядке. Он всего лишь маленький мальчик, а мальчикам трудно устоять на месте, да еще и молча. — Мессалина повернулась ко мне. — Это Большой цирк. На этом поле проводятся гонки на колесницах.
Колесницы!
— О! И когда?
— Мы их постоянно устраиваем, — сказала Мессалина. — От них такой шум...
— И вы можете их смотреть прямо отсюда?
— Да, но нужно хорошее зрение, поле ведь совсем не близко.
Я так хотел, чтобы меня пригласили посмотреть на гонки, но не осмелился об этом попросить. А Мессалина не предложила.
Вскоре к нам присоединился хромающий и шаркающий Клавдий. В отличие от супруги, он показался мне прежним, разве только его одежда теперь была пурпурной.
— Очень рад п-принять вас у себя, — сказал он, и все поклонились в ответ. — Я бывал в этом д-дворце на разных эт-тапах моей жизни, так что т-теперь словно в-вернулся домой. Однако, вселяясь в чужой д-дом, в-всегда стараешься переделать его п-под себя, так что перемены им-меются. Я пересмотрю ук-казы Калигулы, и, н-надеюсь, людям это п-понравится.
Император поглядел на меня:
— И я хочу п-пригласить т-тебя п-поприсутствовать на одном особенном с-событии.
У меня чаще застучало сердце. Неужели на гонках колесниц?
Клавдий повернулся к тете и что-то тихо ей сказал — та кивнула в ответ, и он снова обратился ко мне:
— Это сюрприз. Н-настоящий финал, к-который очень тебя порадует.
С этими словами Клавдий совсем не по-императорски мне подмигнул.
Затем слуги принесли подносы с освежающими напитками в золотых инкрустированных кубках. Я словно завороженный рассматривал эти кубки — они были тяжелыми, но какой же божественной была эта тяжесть! И тогда я понял для себя, что быть императором — это пить самые простые напитки из тяжелых золотых кубков, в любое время смотреть гонки колесниц со своего балкона и иметь под рукой толпу слуг, которые ждут твоих распоряжений и, выполнив их, тут же бесшумно исчезают.
— Луций выглядит таким усталым, — ни с того ни с сего сказала Мессалина. — Думаю, ему лучше прилечь отдохнуть.
И прежде чем я успел возразить, она взяла меня за руку и передала слуге, который отвел меня через бесконечно длинные залы в комнату с застеленной шелковыми простынями кроватью. Пришлось смириться с мыслью, что надо лечь и притвориться, будто отдыхаю после долгой дороги.
Сквозь ставни проникали косые лучи солнца, но в комнате было прохладно и темно. Я едва различал на стенах красно-черные рисунки на темно-желтом фоне. Откуда-то из другой укромной комнаты доносился нежный звук флейты.
Быть императором — это возлежать на таких кроватях в таких комнатах и слушать льющуюся из потаенных мест музыку.
Почему Август предпочитал жить в небольшом доме и спать на узкой кровати с обычными простынями, как моя у тети? Да, он был божественным, но могу ли я позволить себе дерзкую мысль, что он был глуп? Глуп как минимум в мирских делах?
Полдень миновал, и теплый воздух в комнате постепенно становился прохладнее. А потом флейта умолкла, и ее сменила музыка, такая чистая и прекрасная, какую мог исполнить только сам Аполлон. Музыка, которая лилась и переливалась, словно жидкое золото.
Я лежал тихо, как будто любое мое движение могло спугнуть волшебство, и не знал, происходит это наяву или только мне снится. Но я точно не спал и вскоре понял, что должен приблизиться к источнику музыки и слушать его напрямую, а не сквозь стены.
Крадясь через комнаты на звук, я наконец дошел до той, откуда доносилась чудесная мелодия. Долго стоял снаружи с закрытыми глазами и упивался божественным звучанием. Мне не хотелось заглядывать в ту комнату — я боялся увидеть исполнителя. Парис рассказывал множество историй о волшебной музыке, которая, соблазняя людей, приводила их к погибели. В них музыкант всегда оказывался демоном или богом в обличье какого-нибудь персонажа. Но я все же не устоял и заглянул в комнату.
Там возле окна стоял стройный юноша. Он играл на довольно большом инструменте: левой рукой поддерживал его снизу и пощипывал струны, а правой с помощью плектра3 ударял по струнам с внешней стороны. Сам инструмент представлял собой разомкнутый круг с завитками на окончаниях. Звуки, рождаемые пальцами, были мягкими, а те, которые юноша извлекал с помощью плектра, — чистыми и резкими. Вместе они создавали сложную, подобную водопаду мелодию. Вдруг музыкант понял, что кто-то вошел в комнату, и резко повернулся в мою сторону.
— Я... прости. Я просто хотел послушать вблизи...
У меня задрожали колени, но не от страха, а оттого, что божественная музыка вдруг умолкла.
— Я всего лишь упражняюсь, — сказал юноша. — Кифара — строгая госпожа, она не так просто делится музыкой, и не с каждым. Она заставляет себя упрашивать.
Я понимал, что такой инструмент под силу только взрослому (для ребенка он был слишком большим и тяжелым), но в тот момент решил для себя, что, как только вырасту, обязательно научусь на нем играть.
— Ты кто? — спросил юноша.
Я понял его озадаченность, ведь я был слишком большим, чтобы сойти за сына Мессалины, и при этом слишком прямолинейным для раба.
— Луций Домиций Агенобарб, — ответил я.
— Понятно, внучатый племянник императора, — сказал юноша. — Мы все про тебя знаем.
— Знаете? Что знаете?
Мне стало интересно, как получилось, что этот музыкант что-то обо мне знает.
— Ну, по правде говоря, мы знаем о твоем происхождении, а больше ничего. Например, мы не знаем, что ты любишь больше — кефаль или мясо ягненка. Или умеешь ли ты плавать.
— Мне больше нравится кефаль, — уверенно заявил я.
Но про плавание не ответил... Меня даже передернуло, когда он об этом упомянул.
Юноша, взмахнув правой рукой, извлек из кифары еще один божественный звук, и мелодия умолкла. Я ждал, но он так и не продолжил.
— Спасибо тебе, — сказал я. — Возможно, когда я подрасту, ты дашь мне уроки игры на этой кифаре.
— Если ты об этом вспомнишь, — улыбнулся юноша. — И если я все еще буду здесь.
Я медленно вернулся в отведенную мне комнату, и день снова стал обычным.
VI
Лето в том году выдалось жарким. В моей комнате на вилле тети было очень душно, и я сказал ей, что, когда ложусь спать, чувствую себя тестом, из которого вот-вот испекут лепешку.
— Что ж, полагаю, тебе нужен раб, который будет стоять над тобой с опахалом, — ответила тетя. — Только лишних рабов у нас нет.
На полях чахли бобы, раскрывающаяся с утра ипомея к полудню сморщивалась; пруды с рыбой пересыхали; из фонтанов перестала бить вода, и они стояли, словно разинув рот. Это было время Сириуса, когда безумная звезда восходит и насылает среди лета палящий зной. Римляне покидали город: кто-то уезжал к морю, кто-то — в горы, если у них там были дома. А мы сидели под шпалерами с увядающей зеленью, но там было не намного прохладнее, чем в доме.
И вот однажды на виллу доставили письмо из императорского дворца. Тетя жадно его схватила в надежде, что это вести от Мессалины (дочь редко ей писала, хотя Силана довольно часто вызывали в Рим), однако, прочитав письмо, сразу скисла и посмотрела на меня:
— Это для тебя, Луций, и для Силана. Император желает, чтобы вы сопровождали его в поездке. Куда вы направитесь, не пишет. И меня, в отличие от супруга, в который раз не пригласили! Ступай и приготовься в дорогу. Он, видимо, уже в пути.
Вскоре приехал Клавдий, я забрался в карету и сел рядом с ним; следом за мной забрался и Силан. Клавдий пока не прислал приглашение на гонки колесниц, но это его появление говорило о том, что он обо мне не забыл.
— Куда мы едем? — не утерпев, спросил я.
— Отправим п-призраков на вечный п-покой.
— Но где?
— Д-доверься мне. Разве я не г-говорил, что это с-сюрприз?
Силан тем временем оглядывался по сторонам, и явно не из праздного интереса к окружающей обстановке.
— Моей с-супруги здесь нет, — сказал Клавдий.
— Я вижу, — отозвался Силан.
— Надеюсь, т-ты не разочарован.
— Нет, меня это не расстраивает, хотя я всегда рад ее компании.
Клавдий хмыкнул, и карета тронулась с места.
Спустя несколько часов пути карета начала подниматься по довольно крутому склону холма. Когда добрались до вершины, я увидел, что она замыкается в большой круг, а в центре его сверкает на солнце озеро.
Круглое озеро... отражает небо... спокойная, неподвижная вода... И на воде два огромных корабля, напоминающие силуэтом гигантских скатов-хвостоколов. Я схватился за подлокотники своего сиденья.
— Не бойся, сегодня они сгинут. — Клавдий мягко взял меня за руку.
И карета покатилась вниз.
Мы стояли на пристани, а перед нами плавали два монстра. Я снова увидел, но уже не при свете факелов, бронзовые головы кабанов и волков, которые указывали на место каждого гребца. Увидел и рубку из белого мрамора, которую в тот раз заливал лунный свет. Все, что преследовало меня в ночных кошмарах, теперь лишилось своей магической силы. Яркий солнечный свет изгнал, выжег дотла мистику луны.
Клавдий поднял руку и приказал работникам, которых собрали на пристани:
— Разорить и утопить! З-заберите все ценное, затем ув-ведите в центр озера и затопите. — Он наклонился ко мне и взял за руки. — Сенат хочет осудить Калигулу на «проклятие памяти»4. Он был с-сумасшедшим и жестоким, я не м-могу позволить кому-то п-публично обесчестить м-моего кровного родственника. Н-но я могу сделать это сам. Его исключат из официальных с-списков, его статуи снесут, имя сотрут с м-монументов. Все с-свидетельства его безумия, р-расточительства и жестокости будут уничтожены. С-сегодня лунное затмение, и Диана не оскорбится: она н-не увидит, что мы с-сделаем.
Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать его слова за громким стуком молотов и треском досок обреченных на смерть кораблей. Работники перебрасывали на берег бронзовые морды, на каждой было закреплено большое кольцо.
Клавдий поднял одну и, прищурившись, на нее посмотрел:
— М-мастерская работа. Х-хочешь такую?
— Нет! — Я даже отшатнулся. — Уничтожь их всех!
— Мы их переплавим.
Клавдий повертел голову кабана в руке, и клык зверя поцарапал ему палец.
На закате разоренные корабли с бульканьем ушли под воду посреди озера. Пузыри, рябь на воде, а потом — тишина.
— Все, м-маленький Луций, их больше нет, — сказал Клавдий, — и т-тебе больше не н-надо бояться воды.
Обратно мы ехали молча, но где-то на полпути нас встретила группа конных преторианцев.
— Он здесь, з-заберите его и п-препроводите в Рим. — Клавдий повернулся к Силану. — Ты под арестом п-по обвинению в заговоре п-против императора. Я ожидал, что ты н-нанесешь удар во время этой поездки, п-поэтому весь день за нами с-следовали мои телохранители. — И он кивнул преторианцам: — Уведите его.
— Я ничего не сделал! — взвизгнул Силан. — Ничего! Я твой верный подданный!
Но Клавдий только грустно на него посмотрел.
— Тогда я скажу! — выкрикнул Силан. — Спроси свою жену! Спроси Мессалину! Она не один месяц меня преследовала, пытаясь затащить в свою постель. Я отказался, и вот ее месть!
— Уведите его, — повторил Клавдий.
Преторианцы спешились, подошли к карете, выволокли Силана и заставили его сесть верхом на лошадь.
— Она шлюха! — не унимался Силан. — И убийца, если готова убить меня за это! За то, что я ей отказал... Я, ее отчим. Она — мразь!
— За клевету на м-мою супругу ты заслуживаешь с-смерти, — сказал Клавдий.
И на моих глазах императорские гвардейцы увезли Силана. Какое-то время я еще слышал его крики, а потом все стихло.
— Луций, на этой р-развилке мы расстанемся, — повернувшись ко мне, дружелюбно сказал Клавдий. — Я вернусь в Рим, а тебя с-сопроводят на виллу к тете. В-вот письмо, которое объяснит, п-почему ты вернулся один.
И он сунул письмо мне в руки.
Вся радость, какую я испытал, глядя, как уходят под воду преследовавшие меня по ночам монстры, исчезла на фоне ужаса, охватившего дом тети. Лепида, прочитав письмо, будто сломалась. Она заголосила, убежала в свою спальню и там, заливаясь слезами, рухнула на пол.
— Силан, Силан... Что он сказал? — спрашивала она, цепляясь за мою руку.
Моя высокочтимая тетя превратилась в скулящее нечто, которое умоляло меня рассказать хоть что-то о случившемся. А я... я не мог толком ей ответить, потому что все произошло слишком быстро.
— Он... он все время кричал, что невиновен.
Это все, что я мог вспомнить.
— Конечно он невиновен! — Тетя усилием воли села и вытерла слезы со щек. — Но кто на него донес? Клавдий пишет о снах, которые видели Мессалина и его вольноотпущенник Нарцисс, и якобы они доказывают измену...
— Силан сказал, что Мессалина хотела ему отомстить... и сделала это таким образом.
— Отомстить? Но за что? Я всегда думала, что он ей нравится.
И тут осмелился подать голос один из сопровождавших меня преторианцев:
— Слишком нравился. Силан сказал, что она пыталась его соблазнить, а получив отказ, пообещала его уничтожить.
— О нет! — Тетя схватилась за голову. — Нет! Не может быть!
Но так оно и было. Вскоре вся история всплыла. Не о соблазнении — это осталось частным делом, которое никто не мог обсуждать. Заговор против Силана основывался на соучастии Мессалины и ее сообщника Нарцисса: то он, то она приходили к Клавдию с жалобами на сны о Силане, который якобы замышлял убить императора. Легковерный Клавдий счел, что их схожие сны служат для него предупреждением о задуманном покушении. На деле же это лишь доказывало, что Мессалина и Нарцисс прекрасные актеры и сообщники.
То, что ими двигало, достойно лишь презрения. Мессалина принесла в жертву собственному тщеславию жизнь человека и сделала свою мать вдовой. Это был мой первый жестокий урок, благодаря которому я понял, на какое зло способны люди, движимые грязными резонами. И я выучил его на всю жизнь. Всегда надо быть настороже. Пусть меня считают жестоким. Лучше быть жестоким, чем мертвым.
Тетя слегла и не вставала с постели несколько дней, а в это время шла подготовка к фиктивному суду. Как-то вечером она послала за мной. Меня проводили в комнату с бюстами, там возле жертвенника с дымящимися углями стояли тетя и какой-то мужчина с закрытым вуалью лицом.
Холодная и неподвижная, тетя сама была почти как статуя. Она умерла и воскресла, обретя новую форму, — теперь я видел перед собой ее бледное подобие или даже пустую оболочку.
— Мы приняли решение спасти Силана, — без выражения сказала тетя. — Есть только один способ. Не секрет, что император верит в вещие сны. Причем даже во сны других людей. Естественно, собственные имеют для него гораздо большее значение. Мы знаем, как прислать ему сон, особый сон, который раскроет правду.
Тут стоявший рядом с тетей мужчина молча кивнул, но она так его и не представила.
— Широко известно, что невинный и незамутненный разум юного создания — лучшее вместилище для снов, — сказал мужчина тихим и мягким голосом, который напомнил мне шорох песка в пустынных долинах. — Поэтому мы и выбрали тебя, Луций. Мы покажем тебе картину, посмотри на нее и хорошенько запомни. А потом вдохни эти испарения.
И он бросил на угли какие-то крупинки или семена — угли зашипели, от них поднялся пар, и в воздухе разлился резкий горький запах.
— Это запечатлит картину в твоих снах. Спокойно иди в свою комнату, ложись и не двигайся до утра. Картина просочится во сны Клавдия, вытеснит все остальные и останется в его разуме.
Все происходящее и так было похоже на сон: просторная, освещенная всего двумя факелами комната с углями в жертвеннике, едва различимые в полумраке бюсты и похожие на призраков люди, которые взяли меня за руки и подвели к жертвеннику.
Мне хотелось закричать: «Нет! Нет! Я не стану этого делать! Не впускайте свою магию в мой мозг!» Но вместо этого я, словно лунатик, прошел весь ритуал: наклонился над углями и вдохнул дым, от которого помутилось в голове; затем посмотрел на картину, где похожий на Силана мужчина отворачивался от Мессалины, а та хватала его за тунику и пыталась затянуть на кровать. Была и вторая картина, на ней Силан, без ножа, совершенно безоружный, стоял на коленях перед Клавдием.
Тетя взяла меня за плечи:
— А теперь я отведу тебя в комнату и уложу в кровать. Лежи тихо и не открывай глаза до самого утра.
Могу сказать, что мне не приснилась ни одна из показанных картин, хотя по прошествии времени они не раз всплывали в моем сознании. Но я надеялся, что благодаря магии тети Лепиды они каким-то образом переместятся в сознание Клавдия.
Вскоре Силана казнили, так что вряд ли это произошло.
VII
Жизнь на вилле тети претерпела изменения, да и как иначе? Мы следовали привычной рутине, а тетя, словно призрак, бродила из комнаты в комнату.
Однажды она крепко прижала меня к себе и прошептала:
— У меня нет детей. Моя дочь мне не дочь. Луций, теперь ты мой единственный сын.
Но больше она никогда этого не повторяла. Мы с Парисом вернулись к нашим занятиям, какие-то были правильными, но большинство — интересными.
Стоит ли говорить, что приглашений из императорского дворца не присылали, и я понимал, что никогда не увижу гонок на колесницах и больше никогда не услышу божественных звуков кифары. Ничего не будет, кроме этой спокойной, однообразной сельской жизни. Солнце будет подниматься и опускаться над полями и лесами, времена года будут перетекать друг в друга, но земля под его лучами не изменится и навсегда останется прежней.
За мной приглядывали гораздо меньше, чем до того «случая» (так мы это называли, чтобы укротить воспоминания и жить дальше). Я мог не только играть со своими колесницами, но и рисовать довольно грубые картинки и лепить из глины кособокие горшочки. Я даже сумел уговорить Париса добыть мне маленькую флейту, чтобы научиться играть простенькие мелодии.
Тишина виллы то усыпляла, то напоминала землю зимой, которая вынашивает то, что вырвется весной наружу. Все это однообразие, покой и рутина служили хорошей почвой для семян, которые проросли и зацвели пышным цветом в моей будущей жизни. Но для этого требовалось время. Спешка вредит творчеству, у творчества должны быть крепкие корни.
Я лежал на полу и рисовал сорванный в саду цветок, который уже начал увядать. Это продлилось недолго — вскоре в коридоре послышались шаги, но я не придал этому значения. Потом я услышал тихие голоса, но тоже не обратил на них внимания, подумав, что какой-нибудь торговец доставил на виллу свой товар.
— Так вот как вы тут с ним обращаетесь! — воскликнул вдруг кто-то на пороге моей комнаты.
Я поднял голову и увидел незнакомую женщину, которая не сводила с меня глаз.
Если скажу, что она занимала весь дверной проем, будет ли это чем-то вроде послезнания? Она не была толстой или даже крупной, но при этом казалась очень внушительной. Я тогда сразу вспомнил об амазонках, про которых мне рассказывал Парис, и подумал: «Вот, значит, какими они были?»
Волосы женщины были забраны назад, только локоны спускались с висков. Нос был прямой, губы изогнутые, но не крупные. Глаза широко поставлены, взгляд пристальный. Женщина смотрела на меня, а я думал, что она очень похожа на Афину.
— Я хорошо о нем забочусь, — сказала тетя Лепида. — Для меня он как родной сын.
— О, значит, ты бы поселила родного сына в комнатушку с жесткой кроватью, одела в тряпье и приставила к нему бездарных учителей? Актера и парикмахера? Как ты можешь так обращаться с внуком Германика и праправнуком божественного Августа?
Моя одежда — тряпье? Никогда не замечал. И Парис был прекрасным наставником, без него моя жизнь стала бы невыносимо скучной.
— Это несправедливо! — воскликнул я. — Я люблю своих учителей, они хорошие. И тетя прекрасно ко мне относится.
— Ха! — рассмеялась странная женщина, но смех ее прозвучал неестественно. — Это потому, что ты не знаешь лучшего. Да и откуда тебе это знать? Ты так мал, что скоро все это забудешь.
И тогда я с грустью подумал, что пусть я мал, но у меня уже есть куча воспоминаний, которые я бы с радостью навсегда забыл: Калигула, корабли, Силан, магия. А теперь еще эта женщина хочет, чтобы я забыл обо всем хорошем, что было в моей жизни.
— И других слов при встрече с ним у тебя не нашлось? — возмущенно спросила тетя. — Ты не заслуживаешь называться матерью!
Мать! О нет! У меня не было матери. Во всяком случае, я ее не знал — то есть знал лишь ее имя и то, что она исчезла. В отличие от моего отца, от нее не осталось праха, который мы захоронили бы в семейной гробнице Домиция. Она была нереальной.
— А ты? Ты — мать шлюхи и убийцы! Боги не позволят, чтобы ты и дальше воспитывала моего любимого Луция. — Женщина наклонилась и посмотрела мне прямо в глаза. — Я твоя мать. Я пришла, чтобы забрать тебя домой.
Так закончилось мое проживание на вилле тети Лепиды — внезапно, как и оборвалась жизнь Силана. Меня увезли, даже не дав попрощаться с Парисом и Кастором. Забрали, как какой-нибудь бездушный предмет, и переместили в новый дом с новой женщиной, которая объявила себя моей матерью и ожидала, что я тоже стану так ее называть.
Новый дом был в Риме, на полпути к холму Палатин и совсем недалеко от императорского дворца. Женщина — Агриппина — без умолку говорила всю дорогу до Рима, но при этом смотрела прямо, так что со стороны могло показаться, будто она беседует не со мной, а сама с собой.
— Ну хоть дом я подыскала. Калигула забрал все наше имущество, даже мебель... и все продал. Обобрал до нитки. Дядя Клавдий был так добр, что все нам возместил, но старый дом, естественно, вернуть не смог. Но у нас все получится. Это лучше, чем проклятый остров, на который меня сослал брат. — Женщина хмыкнула. — Конечно, я могла бы превратить захоронение его пепла в настоящее зрелище, но на деле предпочла бы развеять его над Тибром.
О да, она была сестрой Калигулы. Все это с трудом укладывалось в голове, но даже одно то, что у них была общая кровь, пугало меня до смерти. Вдруг она сорвется и обезумеет, как брат?
Паланкин остановился, нам помогли сойти на землю. Мы стояли перед домом на полпути к вершине холма. У входа росли кипарисы, вокруг простирался регулярный парк. Меня вели к дому, а я смотрел на зависавших над пионами пчел, пока...
— Шевелись! Что ты там забыл? — окликнула женщина.
Мы вошли в залитый светом атриум с блестящим мраморным полом и высоким, облицованным слоновой костью и золотом потолком, в центре которого было огромное, пропускающее солнечный свет окно. Под этим великолепным потолком был небольшой пруд. Я подошел к нему и опустил в воду пальцы. Пруд был мелким, но из-за выложенного голубой мозаикой дна казался довольно глубоким. Я посмотрел наверх, на проплывающие в небе облака, которые были словно продолжением потолка.
— Идем же! — Агриппина взяла меня за руку.
Она потянула меня за собой, прежде чем я успел разглядеть выполненные в желтых, ржаво-красных и синевато-зеленых тонах росписи на стенах. Теперь меня тащили по проходам, которые вели к закрытому, окруженному комнатами саду. В беседке в центре сада сидели работники — увидев нас, они сразу вскочили на ноги.
— Нечем заняться? — спросила их Агриппина. — Уже закончили?
— Нет, — ответил один из работников. — Просто присели перекусить.
— Я вам не за перекусы плачу, — отрезала Агриппина. — Вставайте и принимайтесь за дело.
Она провела меня в комнату по соседству с садом. Комната была маленькой, свет внутрь проникал в основном через дверь в сад, но там стояла довольно крепкая кровать, а еще светильник с масляными лампами, несколько трехногих столов, небольшая кушетка и сундук.
— Ну хоть комнату смогли приготовить, — сказала Агриппина. — Она твоя, Луций.
И тут она присела на корточки и впервые по-настоящему посмотрела мне в глаза. У нее даже голос изменился.
— Я подолгу думала о тебе в изгнании. Ты просто не можешь понять или представить, каково это. Мой единственный ребенок... Нас разлучили, а тебя отдали на милость родственникам. Все это время я не знала, смогу ли когда-нибудь вернуться к тебе и снова быть с тобой. Перечень женщин нашего рода, которых сослали на остров, просто пугает: Юлия — дочь Августа и моя бабка; Юлия Младшая — ее дочь; моя мать Агриппина, в честь которой меня назвали. Я должна была стать следующей, но я здесь, и ты теперь со мной. Больше нас никогда не разлучат, и мы больше никогда не будем зависеть от милости других. Это я тебе обещаю. Честью клянусь. Я все сделаю, чтобы ты был в безопасности, я всегда буду рядом, буду защищать тебя и направлять.
Она не сводила с меня глаз, а глаза у нее были серые, как у Калигулы. По спине пробежали мурашки, и я даже испугался, что она заметит.
— Я твоя, а ты — мой, мы одни против всего мира. Но я больше не позволю взять над собой верх, так что не бойся, малыш, теперь ты можешь спать спокойно.
Она стиснула меня так сильно, что стало трудно дышать. Ее тело было крепким, и я, прижатый к нему, поверил, что оно и правда послужит мне укрытием от всех грядущих бурь.
Дети выносливые, они через многое могут пройти. Какое-то время я скучал по тете Лепиде, но вскоре новая жизнь в Риме захватила меня целиком. Обстановка большого дома, в котором я теперь жил, с каждым днем становилась все богаче. В атриуме и гостиных не покладая рук трудились художники. Работники на мускулистых плечах вносили в дом кушетки с ножками в форме черепашьих лап, столы из мавританского дуба, бронзовые инкрустированные треноги и жаровни. Затем дело дошло до предметов искусства: мраморные скульптуры, бронзовые бюсты, мозаика. Некоторые скульптуры были настолько совершенны, что я подолгу на них смотрел и ждал — вдруг задышат?
— Греки, — как-то сказала мне Агриппина, — ни в чем они особо не преуспели, но их статуи! Тут они действительно непревзойденные мастера. Всегда можно отличить римскую копию от греческого оригинала.
Я нахмурился, и она это, конечно, заметила.
— Если греки хороши только в искусстве, почему ты именно греков выбрала мне в наставники?
Наставников у меня было двое — Аникет и Берилл.
— Что ж, мне следовало сказать, что они хороши только в двух вещах — искусстве и науке.
Двух важнейших вещах в этом мире!
— Агриппина...
— Перестань называть меня Агриппиной, — сказала она. — Я понимаю, мы с тобой в каком-то смысле еще чужие люди, но ты должен называть меня мамой. Если не будешь этого делать, никогда не станешь воспринимать меня как свою мать. Агриппиной меня может называть кто угодно, но матерью — один-единственный человек. Я жду и надеюсь, что он будет так делать.
Она обняла меня и поцеловала в висок.
Время шло, и постепенно большой дом стал казаться мне своим. Я освоился и, если можно так выразиться, пустил корни, даже роскошь приелась и стала для меня обыденностью. Разве не все так живут? Рабы всегда где-то поблизости и всегда готовы выполнить любое распоряжение матери, да и мое тоже; цветы в теплицах не знают смены времен года; пол подогревается снизу, так что мои маленькие ступни не мерзнут, даже когда на изгородях из можжевельника появляется изморозь.
Новые наставники были очень внимательны, но трепетали передо мной, — в общем, с Парисом не сравнить. Аникет — дюжий молодой грек — был вольноотпущенником с широким открытым лицом; смешливый и всегда готовый угодить. Берилл из Палестины был потише и более сдержан. И оба страстно увлекались грековедением.
Однажды Берилл нарисовал большую схему, в которой отразил всех гомеровских персонажей и соединил их линиями — получилось словно паутина.
— Ты должен это увидеть! — сказал мне Аникет.
Он взял меня за руку и отвел в большой атриум. Небо в тот день было безоблачным, и солнечный свет заливал все вокруг.
— Вот! — Берилл остановился напротив одной из больших фресок. — Кто это?
Я посмотрел на очень мускулистого разгневанного мужчину с трезубцем в руке, изображенного на сине-зеленом фоне.
— Нептун.
— Мы говорим о Гомере! — возвысил голос Берилл. — Не следует называть богов римскими именами. Его правильное греческое имя — Посейдон. Посейдон!
— А почему он так зол? — спросил я, не в силах понять: боги всегда на кого-то или на что-то разгневаны?
— Его недовольство вызвала Троя, — пояснил Аникет. — Но рассуждать, чем именно, нам не обязательно. А теперь посмотри сюда — вот она, Троя.
Он подвел меня к следующей фреске: на ней был изображен расположенный на вершине холма огромный город с высокими стенами и башнями. Вокруг до самого моря простирались широкие долины. У берега стояли на якоре корабли, а на суше — шатры, целый город из шатров.
— Эта картина искажает действительность. Кораблей должно быть больше — тысячи! Но конечно же, художник не мог изобразить их все. Да, тысячи кораблей прибыли к Трое, чтобы вступить в сражение с троянцами.
— А зачем? — задал я смыслообразующий вопрос.
— Чтобы вернуть Елену, — ответил Берилл и вздохнул так, будто ему было тяжело представить, что кто-то не в курсе всей этой истории.
— А кто такая Елена? И почему они так сильно хотели ее вернуть? Одного корабля для этого бы не хватило?
— Кто такая Елена? — переспросил Аникет и, улыбнувшись, закрыл глаза. — Елена — воплощенная красота. Она — наши недостижимые желания. Она то, что ты утерял и должен снова найти. Елена — то, чем невозможно обладать.
— В своей витиеватой манере Аникет пытается сказать, что существуют Елена настоящая и та, которая живет в твоем сознании, — пояснил Берилл. — Реальная Елена была царицей Спарты в Греции, и она была замужем за Менелаем из рода Атрея. Она сбежала с троянским принцем Парисом... Или ее похитили? И ее супруг вместе со всеми своими сородичами и подданными отправился в Трою, чтобы ее освободить. Они объявили войну Трое, осада города продлилась десять лет, и по прошествии этих десяти лет Троя пала и была разрушена.
— Совсем? До основания?
Мне не хотелось верить, что прекрасного города, изображенного на фреске, больше не существует.
— Да, — сказал Аникет, — но троянец по имени Эней смог бежать из горящего города. Он вынес на спине своего старого отца и сумел добраться в Италию. Его наследники основали Рим, так что в каком-то смысле Троя хоть и была разрушена, но продолжила свое существование.
Я посмотрел на следующую фреску из той серии. На ней было изображено спасение Елены Менелаем. Он крепко держал ее за запястья, а свой смертоносный меч уронил на землю. И смотрел он не на прекрасные груди Елены, а ей в лицо.
— Она не такая уж и красивая, — заметил я.
И правда, ее лицо было ненамного красивее тех, что мне уже приходилось видеть.
— Ни один художник не в силах запечатлеть ее красоту, — заступился за фреску Аникет. — Это невозможно. Кроме того, автор фрески никогда ее не видел и, стало быть, не мог справиться с этой задачей. Что ему оставалось? Он использовал замену, все, что смог найти.
— А как она на самом деле выглядела?
— Гомер не стал ее описывать, — сказал Берилл. — Он лишь передал чувства тех, кто ее видел. И этого достаточно.
— Знаешь почему? — спросил Аникет, присев рядом со мной, чтобы мы могли смотреть в глаза друг другу. — Так вот послушай, это очень важно. Вся суть в том, что у каждого свое представление о красоте. Любая попытка описать красоту потерпит поражение, потому что ее невозможно описать для всех. У всех красота разная, поэтому Елена — царица в разуме людей. В твоем разуме, в твоем воображении.
— Кроме того, — добавил Берилл, — Гомер и сам ее не видел.
— Куда уж ему было, слепому? — рассмеялся Аникет.
Они уводили меня дальше, а я все оглядывался в надежде хоть мельком увидеть, какая она была на самом деле, но фрески так и не выдали мне этот секрет.
На других стенах были изображены греческие и троянские герои, с которыми я позднее познакомился очень даже неплохо. Ахилл, Агамемнон, Одиссей, Патрокл, Гектор, Приам, Гекуба.
А потом мы подошли к фреске с изображением человека, который разительно отличался от всех героев. На нем были штаны, головной убор наподобие колпака, и он был вооружен луком со стрелами. Последняя фреска в том атриуме.
— А вот Парис, — сказал Аникет. — Первопричина всего!
Здесь, в углу, освещение было более тусклым, и я подошел ближе, чтобы лучше его разглядеть. Лицо благородное; смотрит с городской стены Трои на равнину; натянул тетиву и целится в противника.
— Неудивительно, что Елена с ним сбежала, — заметил я.
— Луций! — возвысил голос обычно сдержанный Берилл. — Парис вовсе не благородный герой. На самом деле он трус.
— Почему?
— Потому что он не сражался на мечах или копьях, как другие. Вместо этого он прятался в укрытиях на стенах и убивал издалека.
— Но если цель войны — уничтожить врага, есть ли разница, каким способом? И разве не разумнее убивать издалека, избегая опасности быть убитым самому?
— Когда-нибудь ты поймешь, — сказал Берилл, — а сейчас ты еще слишком молод.
— А в кого он целится? — спросил я, потому что не видел, куда должна была прилететь стрела Париса.
— В Ахилла, — ответил Аникет. — Ему надо было попасть в единственное уязвимое место великого воина — только так он мог его сразить.
— И он его убил?
— Да.
— Получается, трус убил самого сильного воина греков?
— Да. В жизни такое часто случается. Пусть это послужит тебе уроком.
— А я думаю, что урок таков: быть метким лучником — очень ценное умение, а новые способы добиться цели могут быть лучше старых.
— Ты слишком молод, тебе не понять, — покачал головой Берилл.
VIII
Времена года снова сменили друг друга, и только тогда пришло приглашение из императорского дворца. Это случилось в разгар лета, незадолго до восхода Сириуса, когда жители бегут из Рима в более прохладные области.
— Ну наконец-то, — сказала мать. — Сучка дает мне понять, что мы ниже всех на ее горизонте. Последние гости перед отбытием на императорскую виллу в Байи.
— Почему она так к нам относится?
Мессалина была странной, но мы не сделали ничего, чтобы она нас невзлюбила.
— Мы для нее угроза. Но не из-за того, что и как мы делаем, а из-за того, кто мы. В нас течет кровь самого Августа, а в них — нет. Более того, в нас течет кровь Энея, а значит, и кровь самой Венеры.
Эней!
— Это правда? Мы правда происходим от Энея?
Август меня совсем не волновал.
— Да, линия Юлия идет от Энея. Естественно, все это дела давно минувших дней. Эней был сыном смертного и богини Венеры. — Мать, с которой мы сидели рядом на диване, притянула меня ближе к себе. — Анхис был так красив, что даже богиня не смогла в него не влюбиться.
Мать погладила меня по спине, потом легонько взяла за подбородок и повернула лицом к себе.
— О да, очень красив, — тихо пробормотала она и пробежалась пальцами по моей щеке.
Когда она так делала, я словно таял изнутри и в то же время чувствовал себя очень неловко. Я слегка отодвинулся от матери.
— Буду рад снова повидать двоюродного деда. — Я соскользнул с дивана.
Мать пригладила волосы.
— Будь добр, постарайся там пореже открывать рот, все важные разговоры я возьму на себя.
На этот раз дорога к императорскому дворцу была недолгой, ведь мы жили на Палатине. На его склонах теснились дома, а вершина была отдана правителям и богам.
Здесь, рядом с храмом Аполлона, когда-то жили Август с Ливией, а неподалеку была пещера, где волчица кормила своим молоком Ромула и Рема. Но Тиберий не желал довольствоваться столь скромными покоями и построил просторный дворец, который теперь хоть и выглядел не особо современным, но вполне хорошо сохранился.
— Держись прямо! — сказала мать, когда мы подошли к входу, и слегка подтолкнула меня в спину. — Выше голову, не забывай, ты — потомок Энея!
Я расправил плечи и с гордым видом зашагал рядом с ней.
— О, госпожа Агриппина, добро пожаловать, — поприветствовал раб, сопровождавший нас в императорские покои. — Добро пожаловать, юный Луций.
Послышался какой-то шум, и появился прихрамывающий Клавдий.
— Агриппина! — Он протянул руки к моей матери (она взяла их в свои и низко поклонилась). — Н-не нужно этого! Я все т-тот же дядя, что д-держал тебя маленькой на руках.
— О, я помню, дядя, я помню, — сказала она, выпрямившись.
Они бок о бок прошли в одну из комнат, я последовал за ними. Это был не тот зал, где принимали нас с тетей Лепидой. Комната была меньше, фрески на стенах — тусклее, и окна выходили на противоположную от Большого цирка сторону. Там и балкона не было, зато имелось огромное окно с видом на сад, где цвели белые лилии, высокие синие дельфиниумы и желтые хризантемы. Сладкий цветочный запах лился через окно в комнату.
— С тех пор для всех нас многое изменилось, — заметила мать. — Твои же перемены возвысили тебя до пурпурных одежд, и ты смог вернуть меня домой. За одно лишь это мне следовало бы припасть к твоим ногам и осыпать поцелуями ступни.