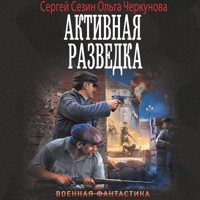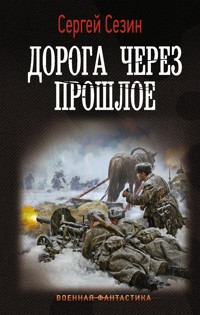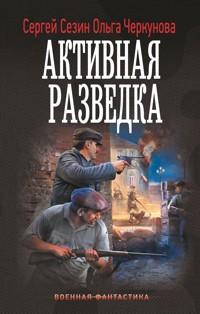
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ленинград ИД
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
Это была операция Разведывательного Управления Красной Армии под названием «Активная разведка». Позднее этим занимались и в Азии, в Китае, Афганистане — другие люди и с другими целями. Боец невидимого фронта Егор Лощилин побывал и белым, и «вашим благородием», и бойцом в Первой конной армии, и в «Активной разведке», а ныне он «Длинная рука Разведупра Красной Армии». Поэтому старается не пустить войну в свою страну. Пусть лучше ее носители лягут в землю за границей, а не внутри страны.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Сезин, Ольга Черкунова Активная разведка
© Сергей Сезин, 2025
© Ольга Черкунова, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
* * *
Михаилу Александровичу Шолохову посвящается
Глава первая
– Мишатка! Сынок!
Егор обнимал сына, слушал его рассказ, как и что происходит на хуторе, и прямо млел от ощущения, что все плохое – уже позади. Он тут, он рядом с сыном, на родном подворье.
Из этого состояния его вывел щелчок затвора.
– Отпусти мальчонку и поворотись-ка, сынку, как в «Тарасе Бульбе» сказано.
Щелкнул второй затвор, досылая патрон. Надо вставать.
– Мишатка, не боись.
Отпустив сына, он медленно распрямился и повернулся к тем двоим, что щелкали затворами.
Да, их двое. Кирилл Шатов, по прозвищу Полтора рубля, его однохуторянин и однополчанин и незнакомый паренек, только-только доросший до призывного возраста. Заслуживала в нем внимания только винтовка в руках. Кирилл – лучше такого против себя не иметь.
– А, господин сотник Лощилин! Каким ветром в наш курень?
– И командир эскадрона Первой конной. А в родной курень – надоело рубить и стрелять, семь лет уже… без передыху.
– Оружие у тебя есть?
– Нет, в реке утопил, и патроны тоже.
– Ну и зря, если ты не врешь и не зарыл ее под приметным дубом. Пошли в Совет! И не вздумай бежать, ты меня знаешь, я не промажу.
Это да, Кирилл редко мазал, как Егор помнил по германской войне.
– Мишатка, я сейчас с дядями пойду, а домой вернусь, как с ними закончу гутарить.
Кирилл за спиной хмыкнул, но ничего не сказал.
– Я ждать буду!
Егор погладил сына по голове и повернулся к выходу со двора. Незваные гости пропустили его вперед и пошли следом. Не доходя десятка шагов до ворот, Егор обернулся – Мишаня смотрел на него, и лицо его кривилось в попытках не заплакать. Он улыбнулся сыну. Махнуть бы рукой, да еще подумают конвоиры, что он на них замахнулся или гранату кинуть собрался… и будет в нем на одну дырку больше. От природы, как говорил один фершал – в нем девять дырок, от немцев – три, от бывших своих еще три, от поляков – одна. Пока хватит.
Хуторской Совет располагался в доме хуторского атамана. Иван Козятин после развала Донской армии в родном хуторе не остался, собрал добро и уехал к родным на Кубань. Во время Вешенского восстания не возвернулся. А позже – кто бы на его месте это сделал при красной власти! Разве что, когда жизнь набрыднет, как Иуде, а самому удавиться что-то мешает. И пойдет он под суд скорый, но не своей рукой.
В хуторском Совете сейчас был только секретарь, парнишка лет семнадцати, которого Егор никак не узнавал. Да, когда он уходил на службу, был этот секретарь сопливой мелюзгой, а сейчас его можно и обвенчать с какой-нибудь девкою. Можно счесть, что «ишшо молодой», а можно и оженить. Батюшка против не будет, если невеста подросла и в недозволенном родстве для венчания не состоит.
Кирилл сказал:
– Колька, давай записывай. Это вот Егор Лощилин, бывший сотник, бывший повстанец и сума переметная, а можно сказать – перекати-поле. Все его прыжки из красных в белые и обратно я даже счесть не смогу.
– Ничего, дядя Кирилл, их будет пять. Садитесь, в ногах правды нет.
Секретарь подвинул к себе лист бумаги и начал писать по неисписанной стороне его.
Егор подумал, что на его стороне будет написано про поимку врага Советской власти, а на исписанной уже – про пьяный дебош или потраву скотом посевов, что случились лет пять-десять назад. Во всякое время свои песни.
Паренек написал начало бумаги и стал спрашивать, а Егор отвечать.
– 1893 года рождения, призван в тринадцатом, в 12-й Донской полк.
– Какое хозяйство было у покойного отца? А черт его знает, наверное, среднее, в богатеях не числились, но поесть что было, и бабы голыми не ходили. Хотя выставлять на службу старшего Ивана и потом Егора – тяжело вышло, но как-то справились.
– Образование?
– Ну, как у всех: «Трехзимняя» школа. – У его одногодков только у некоторых еще и учебная команда. Егора же туда не взяли, за дерзость во взоре и поведении, он тогда еще не обтесался. На хуторе только сын бывшего атамана (не Козятина, а допрежь него) Василий Хромцов училище закончил и в офицеры вышел.
– Чин в царской армии?
– Подхорунжий.
– Служил ли в белых армиях?
– Да, служил. При атамане Краснове, до развала фронта. Чин – хорунжий, генерал Краснов всех Георгиевских кавалеров на службе повысил. В деникинской армии – сотник.
– А не подъесаул?
– Нет, не производили. Под Новороссийском сдался красным именно сотником, разве что Антон Иванович, за море уплывая, в чине повысил, но о том сообщить забыл.
– В отряде у Лысого?
– Не было там никакого чина, был только сам атаман Лысый и у него порученец, родной племянник, и все остальные, без различия по длине чуба и цвету глаз.
– Оружие есть?
– Нету, винтовку и патроны, а также шашку утопил в реке, чтобы они не выплыли и в руки не дались больше.
– Зачем пришел на хутор?
– К семье. Надоело воевать.
Затем присутствующие ознакомились с содержанием карманов, сумки и патронташа Егора и забрали пузырек с ружейным маслом и небольшой ножик для хозяйственных нужд. Бритву тоже.
Что интересно, деньги ему оставили.
– Вставай, Егор, посидишь пока под замком, сегодня поедут в станицу и тебя отвезут, разбираться.
– Пошли, полчанин!
– Еще нужно спички забрать, чтобы не закурил и не поджег все! – это встрял второй паренек.
– Не знаком ты с Егором, а то знал бы, что он один у нас в сотне не курил, отчего народ и шутил, что будущий святой у нас растет. На что Егор отвечал, что не выйдет из него святого, вино ведь пьет. Ну и по бабам тоже, хоть он этого не говорил, но все знали его историю. Пошли, святой с нашего хутора!
Егора вывели из дома и отвели в баз, в котором сейчас скотины не было. Секретарь открыл подпертые колом ворота. Все зашли внутрь.
– Можно лечь вон на ту соломку.
– А как же до ветру?
– Вот в тот дальний угол.
Секретарь принес глиняный кувшинчик с колодезной водой.
– Поставь, где удобно, потом, может, еще принесу.
Ворота захлопнулись.
Значит, до отправки в станицу? Ладно. Полфунта хлеба есть, значит, сегодня поесть что будет.
Егор прошел к этим охапкам соломы, пристроил свою сумку вроде подушки и устроился. Не заметил, как задремал.
Во сне же он шел по коридору, пока не остановился. Вокруг была кромешная темнота, про какую говорят: «Хоть глаз выколи». В такой тьме зрячий глаз видит не больше, чем выколотый.
И из тьмы звучал хрипловатый голос:
И от негромких слов этих Егор проснулся и взглянул вокруг.
Нет, он один, ничего с ним не происходит. Судя по движению солнечного луча через щелястую стену – прошло немного, может, час или полтора.
Сна уже больше не было. Он полежал, потом встал, обошел баз, оглядел свою темницу. Худая тюрьма, худая. Баз давно никто не чинил, так что можно было даже попробовать и убежать. Шурин его, Митя, из такого сарая сбежал, когда его австрияки полонили. Выглядел он тогда страшно – морду ему при взятии разбили, а руки, которыми он проламывал выход, – еще страшнее, но вырвался.
Что это был за голос? Из будущего, вестимо. На дворе шел 1922 год и совершался поворот истории в некоем направлении. То есть двери открывались, рычаги клацали, шестерни зацеплялись – и история менялась. Но, кроме глобальных перемен, происходили и внеплановые изменения. Кто-то попадал в чужие времена, кому-то в голову приходили очень нехарактерные для него идеи и музыка, и стихи звучали, и такие, что до того здесь не слышали. Например, сразу множество народа стало размышлять о космических полетах, освоении Луны и прочего. Ну ладно уж, литераторы вроде Алексея Толстого – для них полет на Луну или Марс в яйцевидном корабле – литературный ход, чтобы рассказать, скажем, о революции. Сам Толстой учился в Политехническом, потому мог и сочинить что-то технически похожее на то, когда ракеты и впрямь туда летать стали. Написал бы про тарелкообразный или мискообразный межпланетный корабль – для романа о революции это не важно. Это будут литературоведы потом говорить: как писатель додумался до «летающей тарелки» за двадцать лет до кошмара Америки? Но ведь были и Кондратюк, и Оберт, и многие другие. С чего они дружно начали про космос писать? К тому времени самолеты уже летать стали, но еще не давали сильно больше 400 километров в час, а о космических скоростях – пока очень-очень рано. Но они трудились. Возможно, в некую дверцу потянул порыв ветра перемен, и творцам досталось немного вдохновения? Если так, то отчего бы Егору Лощилину не достался кусок стиха, написанного через полвека после его смерти? Раз механизм мироздания от этого прорыва стиха не ускорится и не испортится, то и ладно, поволновался Егор Павлович и будет с него. Не первый раз и не последний. Разве сравнишь это волнение с сабельной рубкой, хоть с австрийским драгуном, хоть с немецким, хоть с рубакой из 33-й дивизии, хоть с польскими уланами? Нет, конечно, щекотка одна, или пиво по сравнению с хлебным вином.
* * *
Где-то в два часа пополудни за ним пришли. Один казак и один из иногородних, и обоих Егор не знал и даже раньше не видел. Но явно в деле побывавшие, особенно вот этот казак. Росту в нем два аршина с фуражкой, небось, чтобы девку поцеловать – на плетень залезал, но взгляд у него охотничий, еще до пули находит в тебе сердце или печенку и по следам взгляда прилетит пуля, туда, куда хозяин поглядел и куда решил ее всадить. Так что предупреждать не нужно было, все всё правильно друг про друга поняли.
«Я о тебе наслышан, поэтому буду начеку».
«Я тебя вижу и даже шутить поостерегусь».
Везти Егора собрались не на волах, а на пароконной подводе, что немного радовало, хоть до вечерней зари в станицу прибудут. В тюрьмах при царе он не сиживал, но кое о чем был наслышан от тех, кто там не раз бывал. Рассказывали всякое, потому что тоже видели всякое и в разных временах, и при разных властях, но общего было вот что: чем ближе к темноте, тем менее активны работники тюрьмы. В бумажки-то запишут, а вот в смысле устроить и покормить арестанта – велик соблазн отложить на завтра. И это станица, а не Ростов и не Новочеркасск. Может, и спать придется на голых досках или похуже. А сам он сидел… ну разве что в начале Вешенского восстания, с вечера и до утра.
Пока конвоиры курили, прибежала сестра Даша с узелками в руках. Конвоиры оказались людьми и позволили ей брата обнять, не испугались возможной передачи бомбы или чего-то еще.
– Ты, братик, не переживай, мне Миша говорил, что к Первому мая будет амнистия, кого вообще карать не будут, а у тех, кто уже в тюрьму посажен, обычно третью часть срока там прощают. В прошлом годе даже две амнистии были, в мае и в ноябре. Наверное, те, кто прошлой весною в тюрьму посажен, на Первомай домой пойдут.
– Год вместо расстрела – это неплохо. Но бог с ней, с тюрьмой и прочим, ты-то как?
– Живем с Мишей-старшим, и Мишутка при нас. Мой Миша малого не обижает, учит его разным премудростям, и Мишутка к нему тянется. Надя в прошлом году глотошной захворала. Мы ее в станицу отвезли, но фершал ей не помог, но хоть не мучилась, а во сне тихо умерла, не от задухи. Мама умерла перед Покровом, сердце у нее болело. Перед смертью нас с Мишей благословила, хотя Миша ей сказал, что венчаться не будет, он в партии и им нельзя. Она вздохнула и сказала, что Бог всё видит, и раз уж вместо церкви идут в Совет и на бумажке подпись ставят, он это тоже увидит.
– А где твой Михаил сейчас?
– Их сейчас на какие-то курсы послали, чему-то учить будут. Миша мне сказал, но я так и не запомнила. Я баба неученая, Мишины книжки читать пыталась, но я их не понимаю. В школу-то только одну зиму ходила, пока батюшка не сказал, что нечего девкам там делать. Он тогда старшего брата на службу отряжал и от расходов сам не свой был. Так что я к тебе подходила и просила немного подучить, и ты, спасибо тебе, никогда не отказывал. Книжки про любовь или про природу я читать могу и читаю, когда в руки попадут, но Мишины для меня никак не понятны.
– Не горюй, Дашутка, есть книги для всех, вроде сочинений графа Толстого, там все понятно, кроме слов на французском языке, а есть книги специальные. Если твоему Мише или мне дать книгу по тому, как плуги на заводах делают, мы тоже поймем только то, что книга закончилась, потому что дальше ничего нет.
Даша засмеялась.
– Я Мише напишу, чтобы он поспрашивал, что там с тобой будет, и помог, если можно будет.
– Не нужно, сестренка, еще Мишу укорят, что свойственника-бандита поддерживает. Что будет, то и случится. Мишутку только не забывайте, ему еще жить да жить, а я… Уже накуролесил столько, что на всю семью хватит и даже останется.
– Эй, пора ехать! Обнимитесь, и ты, Егор, садись на подводу!
Даша сунула брату узелки, обняла, поцеловала. Потом сделала шаг назад и перекрестила:
– Спаси тебя Христос от злобы людской, от неправедного суда и кары не по винам!
– Бывай, Дашутка, Мишутку поцелуй и Мише-старшему пожелай от меня удачи во всем. Если у вас дочка будет – назовите ее Надею. Прочие бабы наши хоть пожили, сколь вышло, и чего-то хорошего им досталось. Может, Наденька на небесах порадуется, и что-то у престола Небесного для сестры выпросит.
Ой, зря он это сказал, и самому на душе нехорошо стало от мыслей о дочке, и Даша разревелась.
К подводе подошли возница, Иван Коноплев, из тех Коноплевых, что «Густопсовые» (наверное, его очередь в подводчики подошла), и незнакомый мужчина с кожаным саквояжем. Все уселись на подводу, а из конвоиров поехал «Два аршина с фуражкой». Иван на приветствие Егора не ответил, хотя ничего плохого меж ними вроде бы не было. Наверное, решил, что здороваться с врагом для него опасно. Пущай думает, что если не поздоровается, то его в большие начальники возьмут, и будет он не землю пахать и в обозе служить по старости, а в Ростове или Москве делами воротить.
До станицы доехали часа за три, благо дорога не размокла и лошадки еще не заслужили звания кляч. И вечереть начало, но еще не смеркалось. Завели Егора в станичный исполком, снова записали в бумаги, снова проверили, но ничего не забрали и отправили в станичную тюрьму. Гордого звания тюрьмы она, конечно, не заслуживала, это раньше была так называемая «холодная», поскольку основной контингент арестантов был из набузивших по пьяному делу казаков и иногородних. Вот им посидеть в холодке самое то, и не ощутят даже, что вокруг холодно, пока вино внутри бушует. До того, как помер богатый казак Бушуев, было в станице здание «холодной» из обмазанных глиной досок, но покойный завещал построить каменное здание для отсидки казаков, помня, как сам в молодости сиживал. Церковь в станице уже была, да и денег бушуевских на еще одну не хватило бы. Так вот Мирон Бушуев и оставил память о себе. Правда, потом пришлось просить начальство добавить денег на железные двери и разное другое, отчего камеры использоваться стали поочередно. Сначала две, потом все остальные четыре.
В Новороссийске, где Егор сначала сдался красным, а потом в Красную Армию пошел, была губернская тюрьма. Про нее говорили, что строили ее с четырьмя камерами, так что его станица Верхне-Михайловская губернский город ненадолго опередила.
Но город не долго пас задних, и перед тем, как Егор там оказался, в тюрьме на 230 отсидочных мест сидело полтысячи арестантов, а в одну камеру набилось аж полсотни сидельцев, чтобы вшам и клопам далеко бегать не надо было.
Есть уже хотелось, но станичная «Бушуевка» арестанта оделила только кипятком, в который кинули сухих ягод шиповника. Он поел Дашиных харчей, выбирая то, что от хранения пропадет, а хлеб оставив на завтра.
Пора спать. Уже темно, арестантам свечек и ламп не положено, раз в окошко свет не заходит, значит, и время сна пришло.
«Мне малым-мало спалось, да во сне привиделось…» Это в песне пелось, а Егору ничего не привиделось и не развиделось. Лег, полежал малость и заснул до утра и без всяких сонных видений.
Наступило завтра, став сегодня, и его повезли на железнодорожную станцию, а потом в Ростов.
Вызывали на допросы, из которых он понял две вещи. Виноватят его больше в том, что он ушел в отряд Ефима Лысого, и, в общем-то, если честно сказать, без серьезных оснований, поскольку власть его не арестовывала тогда, и в нем он воевал несколько месяцев, пока с атаманом не поссорился. А это признак «нераскаявшегося и упорствующего грешника», как рассказал в камере один сиделец из учителей, или как они там правильно назывались, в духовной семинарии. А таких приговаривали суровей, чем впервые попавшихся на ереси. Учитель рассказывал, что если католическая церковь кого-то обвиняла в ереси, то есть неправильном толковании Священного Писания, и тот раскаивался, что по темноте своей и недостатку знаний говорил или писал эдакое, то мог он отделаться кратковременной отсидкой и разными епитимиями. Но если время проходило, а он дул в ту дудку снова, то к этому уже относились как к упорству в ереси. И могли казнить. Казнь проводилась без пролития крови, то есть либо заживо сжигали, либо душили, причем удушение – это было как бы милостью.
Тут понятно и без знания церковной истории, а только на основании того, что на службе повидал. Урядники к повторному впадению в ересь относились так же, как и католические священники, разве что кары были полегче. «Стоять под шашкой» – это не костер, но можно и без чувств грохнуться, особенно если поставлен в жаркую погоду. Поскольку Егор уже дважды против красных воевал до Лысого – как это все называется? Так и зовется: повторное впадение в ересь.
Об этом-то можно догадаться было и раньше, когда ушел в ночь с конем и оружием и не остался у какой-то бабы.
Но было еще кое-что, о чем Егор раньше и не догадывался. Как оказалось, сейчас власть к тем, кто приходит и сдается, относится так: если ты пришел и сдал свое оружие, то как бы показал, что из своей войны вышел. И обычно, если чем-то особо нехорошем не прославился, вроде расстрела подтелковцев, то пойдешь домой. А он? Он оружие в реке утопил, расставшись с прежними грехами. Но это сам Егор знает, а красная власть-то не спросит донского сома, лежит ли на той излучине винтовка, шашка и 54 патрона? Не спросит. Оттого есть сомнение, действительно ли оружие утоплено, или просто хорошо смазано и закопано на случай нового прихода генерала Врангеля или какого-то другого.
Тогда он дважды виноват: за повторное впадение в грех и за то, что доказать, что он разоружился, сложно.
А что ему за это может быть? Конечно, если бы Кирилл вгорячах или по злобе его пристрелил «при попытке к бегству», то ему бы ничего за это не было, кроме «пары ласковых слов» от Даши. Бандит, белоповстанец и опасный враг – да и не в поселковый Совет пришел сдаваться, а на родное подворье. Красный орден за это не дадут, но спасибо скажут. Но вот теперь с ним разбираться будут не на скорую руку, а с холодной головой.
Поскольку в камере в ним сидели всякие, в том числе и повстанцы, то он задавал вопрос, как в известных им случаях поступали? Ему отвечали:
– А, мил человек, смотря кто решать будет. Если ревтрибунал, то у него писаных кодексов нет, зато есть… как это… А, «революционное правосознание», вот как. Я сам это понимаю как то, что надо, то и пришпандорят.
– У нас был такой Коломийцев, по имени, кажись, Егор. Или Федор? Начальником штаба служил в отряде Ветрова. Пять лет отсидки.
– В концентрационный лагерь отправят, в Юзовку, у нас бывших офицеров туда отправляли за службу белым, от двух до трех лет они получили.
– А что за штука такая – концентрационный лагерь?
– Спроси что полегче!
– Концентрационный лагерь – это что-то вроде тюрьмы, но легкого типа. Я в таком сидел, за то, что казенное белье потянул с собой и продал. Мне дали год, но отсидел половину. Сидели на бывшей мельнице, и даже на ночь не запирали, но выйти со двора можно было только на работу или на побывку домой. Работали в нем, и когда работа была, можно было и всю неделю подряд, но можно было и две недели из угла в угол слоняться. Хотя был у нас Елисей Зельдин, которого пекарня себе выпросила, чтобы он и дальше продолжал хлеб печь. А я то дрова колол для клуба, то мусор вывозил со двора завода, пару раз вагоны разгружал. Отпускали домой раз в месяц, с вечера и до утра. Но надо было заявление писать начальнику, а я писать не умел, приходилось просить грамотного и за то хлеб отдавать.
– А кто там за что и насколько долго сидел?
– Надолго посадили одного буяна, что по пьяному делу чуть красного командира не застрелил. За бандитизм тоже были двое, что на двадцать лет посажены. Еще один с таким сроком за взятку. За кражу – от полугода до года. В начале прошлого года много сажали за безбилетный проезд. Обычно от трех месяцев до полугода. Хотя рыжая Машка из Елисаветграда на диво всем пять лет за это заработала! Я так думаю, что там еще что-то было, а не только за проезд. Но она через месяц сбежала – повели их на работу и тогда пара баб утекли. Одна кинулась влево, другая вправо, а без них еще пять баб. Побежишь за ними – остальные тоже убегут, а конвойный только один. Стрелять он в этих дур не стал, только ругался вслед, но скверноматерные слова их не остановили. Но было много мужиков из деревни – как заложники. Они вообще не всегда знали, на сколько и за что сели за решетку. Но, правда, их и быстро отпускали, и еще баяли, что губернское начальство на уездное много ругалось, зачем этих подгребло неизвестно за что, даже бумаги не приложило, а им сидеть бог весть сколько. Вот их потихоньку освобождали и домой отправляли. Однажды начальник лагеря, когда ему таких вот из уезда нагнали, взбеленился, поехал в губернский исполком, где за пару дней оформил их освобождение. Народ потом пошел к нему в ноги поклониться, что спас их от тюрьмы, всего меньше двух дней сидели, но он уехал по делу, поэтому пошли они на станцию, искать, на чем домой поехать. Это нам конторщик рассказывал, который тоже в лагерь на отсидку попал и здесь пост конторщика тоже получил.
– Сам сидит и сам себя считает! И за что его посадили?
– Он отмалчивался. Ходили слухи, что пил какую-то забористую самогонку, на табаке настоянную. И от того чудил – на этой неделе делил бумаги на две части и половину выбрасывал, на другой – выбрасывал только треть. Вот и дали ему четыре месяца полного воздержания от всего – и от вина, и от баб, и от шалостей с казенными бумагами.
Послушаешь одного – вроде и ничего страшного, послушаешь другого – наоборот, будет все и ничем не ограниченное. А как будет с ним? Наверное, как с жизнью и с любой ее частью. Может быть всякое, а каким именно выйдет? Надо прожить и увидеть. Или вообще на свет не рождаться.
* * *
Такие частушки в народе поются, про житие-бытие. И все такое с Егором тоже было. Или будет… Чего тогда переживать? Все как у всех, и нельзя сказать, что не за дело.
Глава вторая
Наступил день гнева и скорби.
Что по-русски звучит приблизительно так:
Егора вывели из камеры, провели в некую комнату, в которой он раньше не бывал, прочли вот такую бумагу:
Выписка из протокола № 201 заседания Донского областного отдела ГПУ от 18 апреля 1922 года
Председатель – Емельянов, начальник особого отдела – Сетель, нач. секроперотдела – Каминский, начальник отдела ББ – Самойленко, врид начальника КР отдела – Окунев, начальник ЭКО – Эммануилов, врид секретаря – Рябиков.
Дело 131447
Слушали: По обвинению гр. Лощилина Георгия Павловича, 29 лет, в бандитизме.
Постановили: ввиду доказанности состава преступления применить к Лощилину Г. П. концлагерь на 5 лет с лишением свободы.
По квитанциям хозчасти № 203 и 193 – деньги вернуть владельцу.
Дело следствием прекратить и сдать в архив.
Секретарь. Подпись.
И добавили, что он будет отправлен в Рязанский концентрационный лагерь, где и будет отбывать наказание. Когда отправят? Точно не сегодня. Бумага осталась у Егора, и его повели обратно в камеру.
* * *
После долгого переезда и не менее долгого подпирания семафоров и столбов арестантский вагон прибыл в Рязань. Конвойные бегали к местным властям, и пока бегали, арестанты томились, ожидая, когда все решится и они выйдут на вольный воздух.
И наконец-то все решилось, и их начали выводить. Вывели, построили, пересчитали – все 34 арестанта налицо, никто по дороге не помер, не убежал и привидением не стал. Можно строиться в колонну по два и шагом идти в женский монастырь.
Да, никакой ошибки, лагерь принудительных работ в Рязани располагался именно в бывшем женском монастыре.
В стране победившего атеизма нужды в монастырях в каждом приличном городе властью не предусматривалось, а губернский город мог иметь и несколько их.
Были и специфические надобности, проистекающие из необходимости содержать достаточно большие массы людей и довольно долго. Нормативная вместимость лагеря принудительного труда составляла 300 заключенных. Фактически было и больше, в том же Рязанском лагере бывали времена, когда и по 1700 сидело, и даже по 6000, но для того обычно создавались филиалы лагеря. Но даже если взять нормативную вместимость – нужна довольно приличная площадь для размещения.
Воспользовавшись нормой для особых лагерей (она значительно более поздняя и жесткая), для барачного содержания заключенных нужны два-три барака или приспособленных здания, с полезной площадью помещений в 540 квадратных метров, исходя из вместимости барака либо здания в 100–200 человек. Практически это достигается использованием помещений, скажем, неработающего завода (один-два цеха). При этом дооборудование помещений требуется минимальное (устройство печного отопления и двухъярусных нар). Теперь в случае содержания заключенных в меньших камерах на 15–20 человек с тем же нормативом полезная площадь та же, но потребуется оборудовать дополнительные перегородки, разделив имеющиеся помещения на 15–20 камер. Это дополнительные расходы сами по себе, к которым нужно добавить необходимость использования значительно большей общей площади (разделив цех на несколько камер, приходится выделять дополнительную площадь на коридоры). Пожелав иметь камеры на 4 человека, нужно оборудовать 75 отдельных помещений и так далее. К этим расходам добавляется установка замков на каждую камеру (кстати, это весьма нетривиальная задача в рассматриваемый период). Фактически оборудовать в лагере здания с камерной системой содержания при минимальных затратах можно было, только используя для этого крупные монастыри, где были жилые корпуса для монахов с кельями, либо казематы в крепостных сооружениях.
Монастыри обычно имели стены и башни, когда чисто декоративные, когда вполне пригодные как крепостные. Поэтому, если имелся монастырь и не было необоримых его нынешних арендаторов, которые стоят насмерть на защите своих площадей, то монастырь так и напрашивается как место размещения лагеря. Там уже есть кельи, пригодные под камеры, есть какая-то кухня, где монахам и прочим готовится пища, есть погреба для хранения запасов, есть ограда, есть сады и огороды. Все это пригодится. И даже колокольня – в Рязанском лагере в ее помещениях разместили школу для обучения неграмотных заключенных. А в каком-нибудь ските может разместиться изолятор для заразных больных. Если этого нет – пользовались тем, что найдется: сгоревшей паровой мельницей, бараками близ станции Ряжск, помещениями винодельческого хозяйства в Абрау-Дюрсо.
От царского режима, конечно, остались тюремные здания, но они и при Николае Последнем работали с перегрузкой. В 1897 году Новороссийская губернская тюрьма имела вместимость 130–140 человек, а арестантов в ней бывало и 300, и больше.
Потом в ней построили новый корпус, доведя вместимость до 230 человек (это был такой стандарт для тюрем), но, как сказано в Всеподданнейшем докладе тому же Николаю Второму за 1914 год, губернская тюрьма «по кубатуре воздуха рассчитана на 230 арестантов, но в ней, бывало, содержались и 300 человек». То есть в относительно спокойные, не голодные и не военные года тюрьмы перегружены. Во время мировых и гражданских войн, плавно переходящих друг в друга, народные массы стремительно нищают, и на мораль их происходящее вокруг тоже плохо влияет.
Согласно книге задержанных Кременчугского губернского управления милиции, за период с 25.01.1921 года по 31 декабря 1821 года имеются 843 записи о задержанных (записи номерами с 531 по 1374). С 1.01.1922 года по 30.05.1922 года их было 981 человек. Большинство их – за кражи.
Даже если не вспоминать про политику, то по стране перемещаются многие тысячи людей, зачастую без документов, со сложными биографиями и не всегда понятным поведением.
А если вспомнить про нее, то все еще сложнее. Вот, например, Новороссийская катастрофа армии Деникина, в которую попал и Егор. На берегу оставлено 22 тысячи пленных, и кто знает, сколько гражданских, которым места на пароходах не нашлось.
Автор для широты рассказа добавит, что нашлось место не только для санитаров, но и для вин удельного имения в Абрау-Дюрсо. Да, в частушке присутствует намек на то, что сестры милосердия нужны для разврата. Поверье такое ходило еще с минувшей мировой войны, чему свидетельство книга А. А. Свечина, где сестры милосердия, вино и карты стоят в одном ряду признаков разгула офицеров полка в период, когда Свечин убыл в отпуск, и это то, что он по возвращении искоренял. Автору безразлично, был ли разврат с сестрами милосердия или нет, но честность исследователя требует сказать о том, что такое поверье ходило.
Итого есть двадцать две тысячи тех, кто воевал против, и среди них не только простые души, которым сказали: иди и руби, там сплошь христопродавцы, а те пошли. Там были и более сложные фигуры вроде Харлампия Ермакова, ставшего прототипом героя «Тихого Дона». Про него позже всплыло такое: «Но вот неожиданно появляются показания некоего Андрея Александрова, который утверждает: „Во время боев на реке Дон, под командованием Ермакова, было потоплено в воде около 500 красноармейцев, никому из комсомольцев, комсоставу красных пощады не давал, рубил всех“». Был и Николай Свиридов, добровольно вызвавшийся расстреливать пленных из отряда Подтелкова и Кривошлыкова. К расстрелу из подтелковцев было приговорено 85 человек, а добровольцев-палачей отобрано 17. Если разделить 85 на 17, то получается пять. Но Свиридов хвастал не только тем, что добровольно вызвался, но и тем, что застрелил не пять, а семь человек.
То есть с ними нужно долго и серьезно разбираться: по темноте ли казак станицы Евлампиевской стал врагом или случай более сложный.
Это с приехавшим Пуришкевичем все просто – хоть и приехал, но заболел сыпным тифом и не выжил, ничего делать не надо. Покрыл нужными словами «известного чудака и психопата» (это термин не от красных, а от одного из сочувствующих Союзу Русского народа харьковчан) и занялся живыми.
По итогам работы с живыми Черноморская Окружная ЧК отчиталась, что по приговорам коллегии ЧК с 1.04. по 1.01.21 года отправлено в лагерь принудительных работ и тюрьму на срок 1 месяц – 1 человек.
На 3 месяца – 2,
на полгода – 4,
на год – 7,
два года – 1,
на три – 1,
на полтора года – 3,
на пять лет – 7,
на 10 лет – 2.
К расстрелу приговорены 22 человека (в те годы приговор не означал его обязательного исполнения). Немного надо добавить на работу Особых отделов 9-й армии и флотских Особых отделов. Есть намеки на бессудные расстрелы сразу после захвата города, но тут массовым расстрелам противодействует новороссийская почва – рыть большие и многочисленные могилы в городе и под городом крайне затруднительно. Топить в море тоже.
Поэтому не старые и здоровые казаки пополнили Красную Армию. Правда, на Польском фронте на сторону поляков почти сразу же перешла 3-я бригада 14-й кавалерийской дивизии – около 700–800 человек. Позднее из нее образовали кавбригаду Сальникова, которая на польской стороне воевала. Была еще бригада Яковлева, возможно, из перешедших на польскую сторону уральских казаков.
Так что все непросто, и оттого взятых в плен офицеров армий закавказских республик, в чьей лояльности были сомнения, отправили в Рязанский лагерь. А также других военнопленных с Северного Кавказа.
Поскольку упоминалось название «Концентрационный лагерь», нужно немного уточнить по этому термину.
Автор принял позу вещающего с кафедры и сообщил:
– Итого для осуществления внутренний политики Советской власти требовалось больше мест заключения, нежели имелось, а хозяйственные условия препятствовали строительству новых тюрем.
Выходом из положения было создание лагеря принудительного труда (он же концентрационный лагерь – в те годы это были синонимы).
Поскольку со временем под термином «Концентрационный лагерь» стали понимать место уничтожения, следует произвести краткий экскурс в историю этого явления.
Исторически первыми концентрационными лагерями следует считать лагеря в САСШ вроде Андерсонвилля и испанские лагеря на Кубе, организованные генералом Вейлером-и-Николау.
Но самая оригинальная версия о происхождении концентрационных лагерей высказана польским историком В. Конопчинским (1991), что таковые были впервые созданы для содержания конфедератов Барской конфедерации русскими властями в восемнадцатом веке.
Сказать об этой версии можно только одно: «Закусывать надо получше».
Андерсонвилль – этот лагерь предвосхитил некоторые черты последующих концентрационных лагерей и фактически стал первым лагерем, функционирование которого было признано преступным, что выразилось в смертном приговоре коменданту.
На то время концентрационный лагерь являлся местом содержания военнопленных в лагерных условиях, юридически правомочным, и на относительно ограниченный срок (реально – до окончания гражданской войны в стране). Под лагерными условиями понимаются условия, соответствующие условиям летнего содержания войск в лагерях.
Условия эти являются в идеале привычными и знакомыми военнопленному и не подразумевают появления массовой смертности в лагере.
Привлечение к труду не является самоцелью для этих условий и ограничено участием военнопленных в хозяйственных работах по лагерю. Высокая смертность военнопленных, достигавшая десятков тысяч, обусловлена невниманием к санитарно-гигиеническим условиям содержания и отсутствием полноценного питания. Хотя практика вывода войск в летние лагеря из казарм, наоборот, показывала резкое улучшение состояния здоровья солдат.
Спустя три десятилетия после Андерсонвилля появился и сам термин «концентрационные лагеря» (исп. campos de concentración). Для подавления восстания кубинского населения испанским правительством был прислан генерал Вейлер-и-Николау, устроивший такие лагеря на Кубе. Деятельность Вейлера на острове описывается двояко, в зависимости от политических симпатий авторов. По одной из версий, устроенные генералом концентрационные лагеря предназначались для лишения кубинских партизан поддержки мирного населения, а согнанные туда крестьяне умирали от голода и болезней. Число жертв мирного населения по этой версии достигает до четверти миллиона. Существует и противоположное мнение, что лагеря предназначались для защиты лояльного испанской короне населения от террора повстанцев, для чего они располагались при крупных гарнизонах и даже были укреплены. Жертвы же в лагерях возникли из-за казнокрадства испанских интендантов, не обеспечивших перемещенное население продовольствием. В дальнейшем появился пример английских лагерей для бурского населения, а также австрийских и турецких лагерей для нелояльного населения, а также белогвардейские лагеря в Иоканьге и Мудьюге.
Выводом из их деятельности может служить то, что при необходимости в лагерных условиях можно содержать большие массы людей с минимальными затратами, но необходимо обратить особое внимание на противоэпидемические меры, чтобы лагерь не превратился в гигантское кладбище.
Автор налил в стакан воды, промочил пересохшее горло и продолжил:
– Чем же принципиально отличается концентрационный лагерь 1919 года от тюрьмы и иных исправительных заведений, существовавших до 1919 года?
Принципиальное отличие – отсутствие камерного режима содержания. Остальные различия менее существенны, ибо нестойки и сильно варьируют в разных ситуациях. Камерное содержание заключенных следует рассматривать как утяжеляющий наказание фактор. Поэтому место наказания заключенных, имеющее камерный режим заключения, в позднейших лагерях СССР первоначально называлось карцером, потом штрафным изолятором, бараком усиленного режима, затем помещением камерного типа.
То есть в идеале в тюрьме заключенный всегда заперт (за исключением короткой прогулки раз в день) – либо в своей камере, либо в тюремной мастерской. Да и прогулка на полчаса в день по тюремному двору очень условно отличается от пребывания в камере.
Теперь возьмем для рассмотрения концентрационный лагерь вроде Андерсонвилля, где нет обязательного привлечения к труду. Заключенный в нем не заперт никогда и в пределах лагеря перемещается свободно, если не пересекает «дедлайн», то есть границу охраняемого периметра, за нарушение которой он может быть застрелен.
В концентрационном лагере 1919 года с обязательным привлечением к труду заключенный работает не более 8 часов, чаще всего на некоей работе вне лагеря (скажем, колет дрова для отопления красноармейского клуба имени Троцкого). Вернувшись в лагерь, он время до сна проводит в нем опять же не взаперти. 1919 год назван потому, что в этом году в РСФСР были изданы два документа, предписывающие организацию таких лагерей и регламентирующие их работу. До этого в республике существовали такие лагеря, но не везде и без регламентации.
Таким образом, отказ от камерного содержания для заключенного создает впечатление, что он хотя и изолирован, но не в тюрьме, а для организаторов позволяет значительно экономить на организации этого лагеря, ибо отпадает необходимость строить либо переоборудовать здание под тюремный корпус с камерами.
Эти соображения хорошо иллюстрирует стоимость постройки тюремных зданий в 1870–1880-е годы. В Пруссии на постройку тюрьмы с одиночными камерами для всех заключенных требовалось затратить сумму в 2550–3784 марки на одного заключенного. При постройке же тюрьмы с общим содержанием заключенных расходы на одного заключенного были значительно меньше – 1278–1912 марок. В случае переоборудования под лагерь зданий другого назначения ситуация еще более упрощается.
Следует заметить, что в Декрете ВЦИК упоминается о размещении заключенных в камерах общих и одиночных, но реальное камерное содержание, как в тюрьмах, широко реализовано не было.
* * *
Судя по окружающим домам, вели их явно не на окраину, в тьмутараканские бездны. Улица Владимирская. Вот тут они подошли явно к зданию колокольни и прошли внутрь скопления построек. Все было похоже на монастырь. Это вот явно церковь, это колокольня, а вот это какие-то там кельи, так же вроде называются комнаты, где монахи живут? Арестантов построили «покоем» и велели ждать. Стояли, наверное, с четверть часа. Потом к строю подошел среднего росточка мужчина и, не представляясь, начал:
– Вы здесь в лагере принудительных работ, где и будете отбывать свои вины. Сколько у кого срока есть, то и отбудет, если за хорошее поведение и работу его не скостят. В том году на революционные праздники многим треть срока убрали. Было три года, стало два. Но снижение срока само не случается, это не котята у кошки – вроде на улицу на ходила, а пузо и выросло. Его заработать надо. Поэтому работа прежде всего, оттого и лагерь называется «Принудительного труда». Когда их открывали, то думали, что будут там сидеть нетрудовые элементы вроде буржуев, торговцев и прочих таких. Нюхнут трудовой жизни и поймут, как жили до сих пор девять из десяти жителей страны. К сожалению, нетрудовой элемент и трудящимся голову успел задурить, и на глупости и гадости толкнуть. Поэтому и трудящиеся сюда попадают, у кого руки такие, что уголек в них можно держать и не обжечься. Вот такой поработает, и ум на место станет. А тот, кто не хотел мирно трудиться у себя дома, будет трудиться тут, по приговору суда, трибунала или подотдела принудительных работ. Кандалов тут нет, решеток тоже немного, но способы исправления для бегунов есть. Поэтому сбежавших много чего ждет, разрешено Декретом даже десятикратное увеличение срока наказания за побег. Так что у кого три месяца лагеря – можно и побегать. У кого пять лет или больше – отсюда можно и не выйти, было пять лет, станет пятьдесят годков срока, и еще дожить надо до конца его.
По рядам прошел вздох.
– Кормить здесь будут, и паек такой, как у работника, который на свободе трудом занят. Деньги при работе по заказу тоже платить будут, но с вычетом на содержание лагеря. Тех, кто в городе живет, могут и к родным отпускать.
К мужчине подбежал конвойный и что-то шепнул тому на ухо.
– А, извиняюсь, я думал, что это команда из местных, скопинские, а тут гости издаля. Ну что же, значит, это не про вас, но паек – про вас и про деньги тоже. Если кто мастеровым работал, то потом скажет, где и кем, может, здесь ему дело подберут. У кого такого нет – будет ходить на разные работы, вагоны грузить или на стройку. Все остальное покажут и расскажут. Сейчас пойдете в корпуса, будут вас регистрировать. Это не больно, просто бумаги на вас заполнят, кого как зовут и откуда он сюда прибыл. Если кто грамотный, то может и сам заполнить, а потом подпишется, что все так и есть, что зовут его Иван, ему 30 лет, бороду бреет, рогов и копыт не имеет. Потом обед будет, а после него с вшами бороться будем. Бани в лагере нет, а с городской договориться надо, когда вас повести. Больные сейчас есть?
Никто не вызвался.
– Ну вот и славно. Сейчас придут люди и поведут в книги записывать.
И, не прощаясь, ушел. Громко его обсуждать не стали, «чтобы не было беды от соленой воды».
А дальше подошли еще сотрудники лагеря и начали забирать группы из ожидающих. Сначала забрали тех, кто пленные из армянской и грузинской армий, потом тех, кто осужден за невыполнение продразверстки – такой нашелся один, Егор успел удивиться, ибо разверстку отменили еще в прошлом году. Позднее ему сказали, что всеобщую продразверстку действительно отменили, но так в обиходе продолжали называть разверсткой какие-то индивидуальные обязательства, скажем, на кулацкие хозяйства.