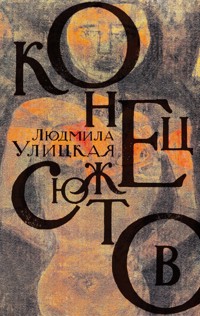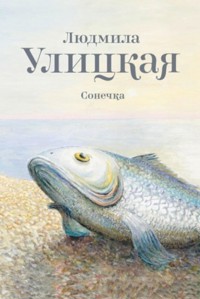Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Новая Улицкая
- Sprache: Russisch
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЮ) ПРОИЗВЕЛ ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ УЛИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, ЛИБО МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО ИНОСТРАННОГО АГЕНТА. Эта книга о нерасторжимости человеческих связей. О попытке сбежать от обыденности, неразрывном переплетении лжи, а точнее – выдумки, с реальной жизнью («Сквозная линия»); размышления о том, что же есть судьба, если она так круто меняется из-за незначительных на первый взгляд событий («Первые и последние»); долгое прощание с жизнью, в котором соединяются «тогда» и «сейчас», повседневная кутерьма и вечность, понимание, что всё заканчивается и ничего не проходит («Веселые похороны»)… «Литература – это художественное осмысление связей человека и мира. На рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом и занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику» (Л. Улицкая).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Людмила Улицкая Человек со связями (сборник)
© Улицкая Л. Е., 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Веселые похороныповесть
1
Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город, с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками, подошел к границе фазового перехода и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе.
Душ был всё время занят: ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном.
Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет.
Баб в комнате было пять. Валентина в красном бюстгальтере. Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал:
– Нинка, ты стала как корзинка. Для змей.
Корзинка эта стояла тут же, в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки.
Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она всё время на кого-нибудь обижалась, но, поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать.
Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат, сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами ничуть не хуже старой, и ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, пятнадцатилетняя, неопределенно-толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке: “PIZДЕЦ!” Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались…
Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький и такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет. Потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы, рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу.
Вот уже две недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка, больнице, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или у кого там что болит, его полюбили.
А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи, и на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни – невозможное: лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная, в два света, мастерская.
В углу, на ковре, ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда человек пять. Собственно двери в квартиру не было, вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда, до въезда Алика, кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не двадцать лет тому назад, подписал не глядя какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было – и ерунды даже.
Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова. Фима был врач в третьем колене, широко образованный и оригинальный, но дела его складывались не блестящим образом, здешних экзаменов он еще не сдал и работал временно, уже пятый год, чем-то вроде квалифицированного лаборанта в дорогой клинике. Он заезжал каждый день, как будто надеясь, что ему повезет и он окажется Алику чем-нибудь полезным. Он склонился над Аликом:
– Как дела, старик?
– А-а, ты… Расписание привез?
– Какое расписание? – удивился Фима.
– На паром… – слабенько улыбнулся Алик.
“Дело к концу, – подумал Фима. – Сознание начинает мешаться”.
И он вышел в кухню, загромыхал в холодильнике примерзшими кассетами со льдом.
“Идиоты, какие же все идиоты. Ненавижу”, – подумала девочка.
Она недавно проходила греческую мифологию и единственная из всех догадалась, что Алик имеет в виду не South Ferry. Co злым и высокомерным лицом она подошла к окну, отогнула край жалюзи и стала смотреть вниз. Там всегда что-нибудь происходило.
Алик оказался первым взрослым, кого она удостоила общением. Как и многих американских детей, ее с малолетства таскали по психологам, и не без оснований. Она разговаривала только с детьми, с большой неохотой делала исключение для матери, остальные взрослые для нее просто не существовали. Учителя принимали ее работы в письменном виде, выполнены они были точно и лаконично. Ей ставили высшие баллы и пожимали плечами. Психологи и психоаналитики строили сложные и весьма фантастические гипотезы о природе ее странного поведения. Нестандартных детей они любили, это был их хлеб.
Познакомилась она с Аликом на вернисаже, куда мать притащила свою неуклюжую девочку. Они тогда только-только переехали из Калифорнии в Нью-Йорк, и потерявшая сразу всех друзей Тишорт согласилась пойти с матерью. С Аликом ее мать была знакома со времен ее цирковой юности, еще по Москве, но в Америке они много лет не виделись. Так долго, что Ирина совершенно перестала думать, что именно она ему скажет, когда они встретятся. В тот день, когда они встретились на вернисаже, он левой рукой взял ее за пиджачную пуговицу с толстым, как курица, орлом, резким поворотом оторвал ее, подбросил и поймал. Потом раскрыл ладонь и мельком взглянул на сияющего орла:
– Придется сказать тебе одну вещь.
Правая рука его висела вдоль тела как неживая. Левой он прижал Иринину густо-русую голову, волосок к волоску причесанную, с черным шелковым бантом в натуральных жемчужинах по краю, и шепнул ей в ухо:
– Ирка, я скоро помру.
Казалось бы, ну и помри. Ты для меня уже давно умер… Но она ощутила прикосновение узкого и тонкого металлического лезвия под ложечкой, и медленное его движение внутрь, и острую боль по всему разрезу до позвоночника. Рядом стояла дочка и смотрела во все глаза.
– Зайдем ко мне, – предложил Алик.
– Я с дочкой. Не знаю, захочет ли она. – Ирина посмотрела на Тишорт.
Девочка давно уже с ней никуда не ходила. Ирина еле уговорила ее пойти на эту выставку. Она спросила у дочери, совершенно уверенная, что та откажется:
– Хочешь, зайдем в ателье к моему знакомому художнику?
– К этому рыжему? Хочу.
И они зашли. Картины, хотя были явно недавние, очень напоминали прежние. А через несколько дней зашли еще раз, почти случайно – мимо проходили. Тогда Ирину вызвали на какое-то важное деловое свидание, и она оставила Тишорт в мастерской часа на три, а вернувшись, застала невероятную картину: они орали друг на друга, как две разгневанные птицы. Алик размахивал левой рукой, правая уже съежилась и почти не действовала, он приседал и немного подпрыгивал:
– Да неужели тебе в голову не приходило, что всё дело в асимметрии? Всё дело в этом! Симметрия – смерть! Полная остановка! Короткое замыкание!..
– Да не ори ты! – кричала покрасневшая всеми веснушками Тишорт, и акцент ее был сильнее обычного. – А если мне нравится? Просто нравится! Почему вы всегда-всегда правы?
Алик опустил руку:
– Ну, знаешь…
Ирка едва в обморок не упала у лифта. Алик, сам того не зная, в два счета разрушил ту странную форму аутизма, которым страдала ее девочка лет с пяти. Старое злое пламя вспыхнуло в ней, но сразу же и погасло: чем таскать дочку по психиатрам, не лучше ли предоставить ей возможность человеческого общения, которого ей так не хватало…
2
Снова щелкнул лифт. В дверном проеме Нинка увидела новую посетительницу и вылетела навстречу, натягивая черное кимоно.
Маленькая, редкой толщины тетка, заботливо поставив между колен раздутую хозяйственную сумку, с пыхтеньем усаживалась в низкое кресло. Была она вся малиновая, дымящаяся, и казалось, щеки ее отливали самоварным сиянием.
– Марья Игнатьевна! Я вас третий день жду!
Тетка села на самый край сиденья, растопырив розовые ноги в подследниках, которые на этом континенте не водились.
– А я, Ниночка, вас не забываю. Все время с Аликом работаю. Вчера с шести вечера его держала… – Она поднесла к Нинкиному лицу треугольные пальчики с дистрофичными зеленоватыми ногтями. – Веришь ли, такое напряжение, у самой-то давление стало, еле хожу… Жара эта проклятая еще… Вот, принесла последнее…
Она вынула из матерчатой сумки три темные бутыли с густой жижей.
– Вот. Натирку новую сделала и дыхалку. А эта – на ноги. Тряпочку намочишь и к стопочкам приложишь, а сверху мешочек цельнофановый, и завяжи. Часа на два. А что кожица сойдет, это ничего. Как снимешь, так и обмой сразу.
Нинка молитвенно смотрела на это чучело и на ее снадобье. Взяла бутылки. Одну, что поменьше, прижала к щеке – прохладная. Понесла в спальню. Опустила жалюзи и поставила бутылки на узкий подоконник. Там уже была целая батарея.
А Марья Игнатьевна взялась за чайник. Она была единственным человеком, который мог пить чай в такую жару, и не американский, ледяной, а русский, горячий, с сахаром и вареньем.
Пока Нинка, тряся своими длинными волосами, с которых вроде бы сошла позолота и обнажилось глубокое серебро, наматывала Алику на ноги компрессы, укрывала легкой простыней в псевдошотландскую, никакому клану не принадлежащую клетку, Мария Игнатьевна беседовала с Фимой. Он интересовался ее результатами. Она смотрела на него с великодушным презрением:
– Ефим Исакыч! Фимочка! Какие результаты! Землей же пахнет… Однако всё в Божьих руках, вот что я скажу. Уж я такого навидалась. Вот уходит, совсем уж уходит, ан нет, не отпускает его. В траве-то какая сила! Камень пробивает. Верхушечка-то… Вот я ее, верхушечку, и беру, и от корешка беру верхушечку… Другой раз, бывает, уж совсем к земле пригнулся, а смотришь – встает. В Бога надо веровать, Фима. Без Бога и трава не растет!
– Это точно, – легко согласился Фима и потер левую щеку, покрытую воронкообразными следами юношеских гормональных боев.
Про положительный фототаксис растений, о котором смутно и таинственно вещала толстуха с мягким, как будто тряпочным лицом, он знал из курса ботаники за пятый класс, но поскольку он был все-таки специалистом, то знал также, что чертова Аликова болезнь никуда не денется: последняя работающая мышца, диафрагмальная, уже отказывает и в ближайшие дни наступит смерть от удушья. Местная проблема, которая вставала в таких случаях, – когда отключить аппарат, – была решена Аликом заблаговременно: он ушел из больницы под самый конец и отказался, таким образом, от жалкого довеска искусственной жизни.
Фиму теперь удручала мысль, что, вероятно, именно ему придется в какой-то момент ввести Алику снотворное, которое снимет страдания удушья и своим побочным действием – угнетением дыхательного центра – убьет… Но делать было нечего – положить Алика в госпиталь по “скорой помощи”, как делали уже дважды, теперь вряд ли было возможно. А снова искать фальшивый документ хлопотно и опасно…
– Удачи вам, – мягко сказал Фима и, прихватив известный саквояж, ушел не прощаясь.
“Обиделся он, что ли?” – подумала Марья Игнатьевна.
Она в здешней жизни мало понимала. Приехала год назад из Белоруссии, по вызову больной родственницы, но пока оформляла документы, пока сюда добиралась, лечить уж было некого. Так и перемахнула она через океан со своей чудодейственной силой и контрабандной травкой понапрасну. То есть не совсем понапрасну, потому что и здесь нашлись любители ее искусства, и она занялась противозаконной нелицензированной деятельностью, не боясь никаких неприятностей. Только всё удивлялась: что это у вас за порядки тут, я лечу, можно сказать, с того света вынимаю, чего мне бояться… Объяснить ей ни про лицензии, ни про налоги никто не мог. Нинка подцепила ее в маленькой православной церкви на Манхэттене и сразу же решила, что ей знахарку Бог послал для Алика. В последние годы, еще до Аликовой болезни, Нинка обратилась в православие, чем нанесла большой удар по мракобесию: любимое свое развлечение, карты Таро, сочла за грех и подарила Джойке.
Марья Игнатьевна поманила Нинку пальцем. Нинка метнулась на кухню, налила в стакан апельсинового сока, потом водки, бросила горсть круглых ледышек. Питье ее было давно на местный манер: слабое, сладковатое и беспрерывное. Она поболтала палочкой, глотнула. Марья Игнатьевна тоже поболтала – ложечкой в чашке с чаем – и положила ложку на стол.
– Вот слушай-ка, чего тебе скажу, – строго сказала она. – Крестить его надо. Всё. Иначе – ничего не поможет.
– Да не хочет он, не хочет, сколько раз я тебе говорила, Марья Игнатьевна! – взвилась Нинка.
– А ты не ори, – нахмурилась Марья Игнатьевна безбровым лицом, – уезжаю я. Бумага эта самая у меня уж давно кончилась. – Она имела в виду давно просроченную визу, но ни одного иностранного слова запомнить не умела. – Кончилась бумага-то. Уезжаю. Мне уж и билет прокомпостировали. Если ты его не крестишь, я его брошу. А крестишь, Нин, я с ним работать буду, хоть оттуда, хоть как… А так не смогу… – И она театрально развела ручками.
– Ничего я не могу сделать. Не хочет он. Смеется. Пусть, говорит, твой Бог меня беспартийного примет, – опустила Нина свою слабую маленькую головку.
Марья Игнатьевна выпучилась:
– Нин, ты что? Вы здесь как в лесу живете. Да на что же Господу Богу партийные?
Нинка махнула рукой и допила свое пойло. Марья Игнатьевна налила еще чайку.
– Я о тебе жалею, деточка. У Бога обителей много. Я хороших людей разных видела, и евреев, и всяких. На всех наготовлено. Вот мой Константин убиенный – крещеный и ждет меня, где всем положено. Я, конечно, не святая, да и пожить-то мы с ним пожили всего два года, я вдовой в двадцать один год осталась. Было кой-чего, не скажу, грешна. Но другого мужа у меня не было. И он ждет меня там. Поняла, о чем я забочусь? А то порознь будете, там-то. Ты крести его хоть так, хоть втемную… – увещевала Марья Игнатьевна.
– Как – втемную? – переспросила Нина.
– Идем-ка отсюдова, от народу, – зашипела со значением Марья Игнатьевна, и, хотя народ весь толпился возле Алика, а в кухоньке никого не было, она затолкала Нинку в уборную, села на унитаз, накрытый розовой крышкой, а Нинку усадила на пластиковый короб для грязного белья. Здесь, в самом неподходящем месте, Нинка и получила все необходимые наставления…
Вскоре пришла Фаина, крепкая, как щелкунчик, с деревянным лицом и проволочной белесой соломой на голове. Она была из свеженьких, но быстро прижилась.
– Фотоаппарат купила, – с порога заявила она, входя к Алику и размахивая над его неподвижной головой новенькой коробочкой. – “Полароид”! С обратимой пленкой! Ну давайте же фотографироваться!
Для нее в этой стране было много такого, чего она еще не попробовала, и она торопилась поскорее всего накупить, надкусить, оценить и иметь по любому поводу мнение.
Валентина помахала над Аликом простыней. Но ему, единственному из всех, не было жарко. Валентина сбросила простыню и, залезши за спину Алика, села, опершись об изголовье. Подтянула его повыше, прижала его темно-рыжую голову к самому солнечному сплетению, туда, где, по словам покойной бабушки, жительствовала “душка”. И вдруг слезы брызнули от жалости к Алику, к его бедной голове, так беспомощно ткнувшейся ей под грудь. Как ребенок, который еще не держит головки. Никогда за время их долгого романа не испытывала она такого острого и живого чувства: держать его в руках, на руках, а еще лучше – спрятать его в самую глубину своего тела, укрыть от проклятой смерти, которая уже так явно коснулась его рук и ног.
– Девки, в кучу собирайтесь, петушок пропел давно! – крикнула она улыбчивыми губами, стерев ладонью пот со лба и слезы со щеки. На плечи Алику она вывесила свои знаменитые груди в красной упаковке, сбоку на кровать села Джойка, согнув Аликову ногу в колене и придерживая ее плечом. С другой стороны, для фотографической симметрии, присела Тишорт.
Файка долго крутила фотоаппарат, не могла найти видоискатель, а когда заглянула в него, то фыркнула:
– Ой, Алик, муде на первом плане. Прикройте.
На самом деле на первом плане были трубочки мочеприемника.
– Ну вот еще, такую красоту прикрывать, – возразила Валентина, и Алик двинул уголком рта.
– Мало проку от этой красоты, – заметил он.
– Файка, погоди, – попросила Валентина и, подсунув под Аликову спину две большие русские подушки из Нинкиного генеральского приданого, прошла прямо по кровати к изножью и отклеила от нежного места розовый пластырь, на котором крепилась вся амуниция.
– Пусть отдохнет немножко, на воле побегает…
Алик любил всякие шутки и второсортным тоже улыбался. Делала всё Валентина быстро, опытной рукой. Бывают такие женщины, у которых руки всё наперед знают, их и учить ничему не надо, медсестры от рождения.
Тишорт не выдержала и вышла из комнаты. Хотя она еще в прошлом году всё испробовала сначала с Джеффри Лещинским, а потом с Томом Кейном и пришла к выводу, что никакой секс ей даром не нужен, почему-то от манипуляции с катетером ее дернуло. Как она его рукой взяла… Чего они все к нему так липнут…
Душ был как раз свободен. Она стянула шорты. Через ткань ощутила прямоугольную коробочку. Свернула всё аккуратно, чтобы не выпало. Инструкцию она помнила наизусть. Сегодняшнюю ночь она провела возле Алика. Не всю, несколько часов. Нинка вырубилась и спала в мастерской, а Алик не спал. Он попросил ее, и она всё сделала, как он хотел, и теперь эта коробочка была доказательством того, что именно она и есть его самый близкий человек.
Вода была не холодная, трубы сильно прогревались в такую жару. Все полотенца мокрые. Она обтерлась кое-как, нацепила на влажное тело одежду и выскользнула из квартиры: ей не хотелось с ними фотографироваться, вот что она поняла.
Она вышла к Гудзону, потом свернула в сторону парома и всё думала о единственном нормальном взрослом человеке, который как будто назло ей собирается умирать, чтобы опять оставить ее одну со всеми этими многочисленными идиотами – русскими, еврейскими, американскими, – окружающими ее с самого рождения…
3
Со зрением у Алика что-то происходило: оно и угасало и обострялось одновременно. Всё слегка укрупнилось и изменило плотность. Лица подруг вдруг стали жидковаты и предметы слегка текучи, но струение это было скорее приятным, к тому же оно по-новому выявило связи между предметами. Угол комнаты был взрезан одинокой старой лыжей, грязные белые стены бодро разбегались от нее в разные стороны. Это движение стен сдерживала женская фигура, сидящая на полу по-турецки и касающаяся затылком зыбкой стены. Самая прочная часть всей картины и была как раз эта точка соприкосновения женской головы и стены.
Кто-то подобрал снизу жалюзи, свет упал на темную жижу в бутылках, и она засветилась зеленым и темно-золотым. Жидкость стояла на разных уровнях, и в этом бутылочном ксилофоне он узнал вдруг свою юношескую мечту. В те годы он написал множество натюрмортов с бутылками. Тысячи бутылок. Может быть, даже больше, чем выпил… Нет, выпил все-таки больше. Он улыбнулся и закрыл глаза.
Но бутылки никуда не делись: побледневшими зыбкими столбиками они стояли в изнанке век. Он понимал, что это важно. Мысль ползла медленно и огромно, как рыхлая туча. Эти бутылки, бутылочные ритмы. И ведь музыка звучала… Скрябинская светомузыка, как оказалось при рассмотрении, была полным фуфлом – механистично и убого. Он тогда стал изучать оптику и акустику. И этим ключом тоже ничего не открывалось. Натюрморты его были не то чтобы плохие, но совершенно необязательные. К тому же он и Моранди тогда не знал.
Потом все эти натюрморты как ветром разнесло, ничего не осталось. Где-нибудь в Питере, может, сохранились у тогдашних друзей или у Казанцевых в Москве… Господи, как же тогда пили. И бутылки собирали. Обыкновенные сдавали на обмен, а заграничные или старинные, цветного стекла, сохраняли.
И те, что стояли тогда на краю крыши, на ее жестяном отвороте, были темного стекла, из-под чешского пива. Кто поставил, так потом и не вспомнили. Из казанцевской кухни была дверка низкая в мезонин, а из мезонина – окно на крышу. Из этого окна и выпорхнула на крышу Ирка. Ничего особенного в этом не было: по этой крыше без конца бегали, и плясали, и загорали на ней. Она сползла на заду вниз по скату, а когда встала, на белых джинсах отчетливо были видны два темных пятна во все ягодицы. Она стояла на самом краю крыши, чудесная легконогая девчонка. Бог послал их друг другу для первой любви, и они всё делали по-честному, без халтуры, до звона в небе.
Когда строгий дед, потомственный циркач, выгнал Ирку из труппы за то, что она прогуляла репетицию, сорвавшись с Аликом в Питер на два дня, они тут, в мезонине у Казанцевых, и поселились и жили к тому времени уже три месяца, изнемогая под бременем всё растущего чувства… А в тот день пришел в гости знаменитый молодежный писатель, взрослый, с двумя бутылками водки. Он был симпатичный. И Ирка дернула плечом чуть не так, и посмотрела вкось, и что-то сказала немного более низким, чем обычно, голосом, и Алик шепнул ей:
– Зачем ты кокетничаешь? Это пошло. Если он тебе нравится, дай.
Он ей и вправду понравился.
– Нет, не в том смысле. А если в том, то совсем немножко, – говорила она потом Алику.
Но в ту минуту от злости и от жестокой справедливости его слов она выскочила в окошко и съехала на заднице к краю крыши, а потом встала во весь рост рядом с бутылками и присела на корточки – еще никто не смотрел в ее сторону, кроме Алика, – обхватила пальцами горлышки крайних бутылок и сделала на них стойку. Острые носки ее туфель замерли на фоне лиловеющего неба. Те, кто сидел лицом к окну, увидели стоящую на руках Ирку и замолчали.
Писатель, ничего не заметивший, рассказывал байку об украденной генеральской шинели и сам себе похохатывал.
Алик сделал шаг к окну… А Ирка уже шла на руках по бутылкам. Она обнимала горлышко бутылки двумя руками, потом отрывала одну руку, нащупывала следующую бутылку и, ухватившись за нее, переносила на нее тяжесть своего напряженного тела… Писатель еще немного побасил и осекся. Почувствовал: что-то происходит за спиной. Он оглянулся и дрогнул начинающими полнеть щеками – он не переносил высоты. Дом-то был ерундовый, полутораэтажный, высотой метров в пять. Но физиология куда как сильней арифметики.
Руки у Алика стали мокрыми, по спине струйкой тек пот. Нелька Казанцева, хозяйка дома, тоже баба шальная, загрохотав вниз по деревянной лестнице, бросилась на улицу.
Медленно, царапая носками туфель затвердевшее от страха небо, Ирка добралась до последней бутылки, ловко поджала ноги, села на крышу и соскользнула вниз по хлипкой водосточной трубе. Нелька уже стояла внизу и кричала:
– Беги! Беги скорей!
Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы и врезал оплеуху…
Еще два года они промаялись, всё не могли расстаться, но на этой оплеухе кончилось всё самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни разлюбить. Гордость была дьявольская – в тот вечер она таки ушла с писателем. Но Алик тогда и бровью не повел.
Ирка первой подвела черту: нанялась в труппу воздушных гимнастов, в чужую, в конкурентную, дед ее проклял, и она уехала на большие гастроли на всё лето, с шапито. Алик же сделал тогда первую эмиграционную пробу – переехал в Питер…
Алик открыл глаза. Он еще чувствовал жар, идущий от нагретой крыши ветхого особнячка в Афанасьевском, и мышцы еще как будто отзывались на бурный пробег по деревянной лестнице казанцевского дома, и это воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть такие детали, которые вроде бы давно растворились: треснутую чашку с портретом Карла Маркса, из которой пил хозяин дома, потерянное вскоре кольцо с мертвой зеленой бирюзой в эмалевом темно-синем касте на Иркиной руке, белую породистую прядь в темной голове десятилетнего казанцевского сына…
Солнце уже шло на закат, в Нью-Джерси, свет косил из окна прямо на Алика, и он жмурился. Джойка сидела на постели возле него, читала по его просьбе “Божественную комедию” по-итальянски и довольно коряво пересказывала каждую терцину по-английски. Алик не открыл ей, что довольно прилично знает итальянский: жил когда-то почти год в Риме, и этот веселый чокающий язык без труда отпечатался в нем, как след руки в глине. Но теперь ничего не значили его дарования – ни хваткая память, ни тонкий музыкальный слух, ни талант художника. Всё это он уносил с собой, даже дурацкое умение петь тирольские песни и первоклассно играть на бильярде…
Валентина массировала его пустую ногу, и ей казалось, что в мышцах немного прибавляется жизни.
Пока он был в сонном забытьи, приехал Аркаша Либин с новым кондиционером и относительно новой подружкой Наташей. Либин был любителем некрасивых женщин, и притом совершенно определенного типа: субтильных, с большими лбами и маленькими ротиками.
– Либин стремится к совершенству, – еще недавно шутил Алик. – Наташке в рот чайная ложка еле пролезает, а следующую он будет кормить одними макаронами.
Либин был намерен сегодня снять сломанный кондиционер и установить новый и собирался сделать это в одиночку, хотя даже специалисты работали обыкновенно в паре.
Обещающая успех русская самоуверенность. Он переставил бутылки с подоконника на пол, снял жалюзи, и в ту же секунду, как будто сквозь образовавшуюся дыру, с улицы хлынула ненавистная Алику латиноамериканская музыка. Уже вторую неделю весь квартал донимали шестеро южноамериканских индейцев, облюбовавших себе угол прямо под их окнами.
– Нельзя ли их как-нибудь заткнуть? – тихо спросил Алик.
– Проще тебя заткнуть, – отозвалась Валентина и нацепила на Алика наушники.
Джойка в обиженном недоумении посмотрела на Валентину. На этот раз она обиделась еще и за Данте.
Валентина поставила ему джаплиновский регтайм. Слушать эту музыку он научил ее во времена тайных встреч и ночных блужданий по городу.
– Спасибо, зайка, – дрогнул веками Алик.
Всех их он звал зайками и кисками. Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой и, наконец, что осознавалось медленнее всего, – с родной речью, которая с годами становилась всё более инструментальной и утилитарной. Новый, американский язык, приходящий постепенно, тоже был утилитарным и примитивным, и они изъяснялись на возникшем в их среде жаргоне, умышленно усеченном и смешном. В это эмигрантское наречие легко входили обрезки русского, английского, идиш, самое изысканное чернословие и легкая интонация еврейского анекдота.
– Боже ж мой, – ёрничала Валентина, – это же гребаный кошмар, а не музыка! Уже закрой свою форточку, ингеле, я тебе умоляю. Что они себе думают, чем пойти покушать и выпить и иметь полный фан и хороший муд? Они делают такой гевалт, что мы имеем от них один хедик.
Обиженная Джойка, оставив на кровати красный томик флорентийского эмигранта, ушла к себе, в соседний подъезд. Мелкоротая Наташа варила на кухне кофе. Валентина, переложив Алика на бок, терла ему спину. Пролежней пока не было. Мочеприемник больше не надевали – кожа сгорала от пластырей. Подмокших простыней накопилась куча, Файка собрала их и пошла в прачечную, на уголок. Нинка дремала в кресле, в мастерской, не выпуская из рук стакана.
Либин безуспешно возился с кондиционером. Не хватало крепежной планки, и он родным российским способом пытался из двух неподходящих длинных сделать одну короткую, не прибегая к помощи инструментов, которые он забыл дома.
4
Долго отступавшее солнце закатилось наконец, как полтинник, за диван, и в пять минут наступила ночь. Все разошлись, и впервые за последнюю неделю Нинка осталась с мужем наедине. Каждый раз, когда она подходила к нему, она заново ужасалась. Несколько часов сна, усиленного алкоголем, давали душе отдых: во сне она полно и с наслаждением забывала об этой редкой и особенной болезни, которая напала на Алика и скручивала его со страшной силой, а просыпаясь, каждый раз надеялась, что всё это наваждение ушло, и Алик, выйдя ей навстречу, скажет свое обычное: “Зайка, а что это ты тут делаешь?”
Но ничего такого не происходило.
Она вошла к нему, прилегла рядом, покрыв волосами его угловатое плечо. Похоже, он спал. Дыхание было трудным. Она прислушалась. Не открывая глаз, он сказал:
– Когда эта проклятая жара кончится?
Она встрепенулась, метнулась в угол, куда Либин составил полное собрание сочинений Марьи Игнатьевны в семи бутылках. Вытащила самую маленькую из бутылочек, свинтила с нее пробку и сунула Алику под нос. Запахло нашатырем.
– Легче? Легче, да? – затребовала Нинка немедленного ответа.
– Вроде легче, – согласился он.
Она снова легла с ним рядом, повернула его голову к себе и зашептала в ухо:
– Алик, прошу тебя, сделай это для меня.
– Что? – Он не понимал или делал вид, что не понимает.
– Крестись, и всё будет хорошо, и лечение поможет. – Она взяла в обе руки его расслабленную кисть и слабо поцеловала веснушчатую руку. – И страшно не будет.
– Да мне и не страшно, детка.
– Так я приведу священника, да? – обрадовалась она.
Алик собрал свой плывущий взгляд и сказал неожиданно серьезно:
– Нин, у меня нет никаких возражений против твоего Христа. Он мне даже нравится, хотя с чувством юмора у него было не всё в порядке. Дело, понимаешь, в том, что я и сам умный еврей. А в крещении какая-то глупость, театр. А я театра не люблю. Я люблю кино. Отстань от меня, киска.
Нинка сцепила свои худущие пальцы и затрясла ими:
– Ну хотя бы поговори с ним. Он придет, и вы поговорите.
– Кто придет? – переспросил Алик.
– Да священник. Он очень, очень хороший. Ну прошу тебя… – Она гладила его по шее острым языком, потом провела по ключице, по прилипшему к костям соску тем приглашающим интимным жестом, который был принят между ними. Она его соблазняла в крещенье – как в любовную игру.
Он слабо улыбнулся:
– Валяй. Веди своего попа. Только с условием: раббая тоже приведешь.
Нинка обмерла:
– Ты шутишь?
– Почему же? Если ты хочешь от меня такого серьезного шага, я вправе иметь двустороннюю консультацию… – Он всегда умел из любой ситуации извлекать максимум удовольствия.
“Поддался, поддался, – ликовала Нинка. – Теперь крещу”.
Со священником, отцом Виктором, давно было договорено. Он был настоятель маленькой православной церкви, человек образованный, потомок эмигрантов первой волны, с крученой биографией и простой верой. Характера он был общительного, по натуре смешлив, охотно ходил в гости к прихожанам, любил и выпить.
Откуда берутся раввины, Нинка понятия не имела. Круг их друзей был вовсе не связан с еврейской общиной, и следовало поднапрячься, чтобы обеспечить Алика раввином, если уж это необходимое условие.
Часа два Нина возилась с травяными примочками, снова ставила компрессы на ступни, растирала грудь пахучей резкой настойкой и в три ночи сообразила, что Ира Пирсон недавно, смеясь, говорила, что из всех здешних евреев она одна-единственная русская, умеющая приготовить рыбу-фиш, потому что была замужем за настоящим евреем с субботой, кошером и всем, что полагается.
Вспомнив, Нинка немедленно набрала ее номер, и та обмерла, услышав среди ночи Нинкин голос.
“Всё”, – решила она.
– Ир, слушай, у тебя был муж еврей религиозный? – услышала она в трубке дикий вопрос.
“Напилась”, – подумала Ира. – Да.
– А ты не могла бы его разыскать? Алик раббая хочет.
“Нет, просто совсем сошла с ума”, – решила Ира и сказала осторожно:
– Давай завтра об этом поговорим. Сейчас три часа ночи, я в такое время всё равно никому позвонить не могу.
– Ты имей в виду, это очень срочно, – совершенно ясным голосом сказала Нинка.
– Я завтра вечером заеду, о’кей?
Ирина испытывала к Нине глубокий интерес. Возможно, это и была настоящая причина, почему она тогда, полтора года назад, согласилась зайти к нему в мастерскую: посмотреть, что же это за чудо в перьях, которому достался Алик.
Алик был кумиром женщин едва ли не от рождения, любимцем всех нянек и воспитательниц еще с ясельного возраста. В школьные годы его приглашали на дни рождения все одноклассницы и влюблялись в него вместе со своими бабушками и их собачками. В годы отрочества, когда охватывает дикое беспокойство, что уже пора начинать взрослую жизнь, а она всё никак не задается, и умненькие мальчики и девочки кидаются в дурацкие приключения, Алик был просто незаменим: принимал дружеские исповеди, умел и насмешить, и высмеять, а главное, редкостное, что от него шло, – совершенная уверенность, что жизнь начинается со следующего понедельника, а вчерашний день вполне можно и вычеркнуть, особенно если он был не вполне удачен. Позднее перед его обаянием не устояла даже инспекторша курса в театрально-художественном училище по прозвищу Змеиный Яд: четыре раза его выгоняли и три, хлопотами влюбленной инспекторши, восстанавливали.
При первом знакомстве Нина произвела на Ирину впечатление надменно-капризной дуры: потрепанная красавица сидела на грязном белом ковре и попросила ее не беспокоить – она складывала гигантский пазл. При ближайшем рассмотрении Ирина сочла ее просто слабоумной, к тому же психически неуравновешенной: вялость у нее сменялась истериками, припадки веселья – меланхолией.
Впрочем, понять, почему он женился, еще можно было, но вот как он терпит столько лет ее доходящую до слабоумия глупость, патологическую лень и неряшливость… Она испытывала не запоздалую ревность, а глубокое недоумение. Ирина никогда не сталкивалась с тем женским типом, к которому принадлежала Нина: именно своей безграничной беспомощностью она возбуждала в окружающих, особенно в мужчинах, чувство повышенной ответственности.
У Нины, кроме того, была еще одна особенность: каждую свою прихоть, каприз или выдумку она доводила до предела. Например, она никогда не брала в руки денег. Поэтому Алик, уезжая, скажем, на неделю в Вашингтон, знал, что Нина не выйдет в магазин и предпочтет голодную смерть прикосновению к “гадким бумажкам”. И он всегда забивал ей перед отъездом холодильник.
В России Нина никогда не готовила, так как боялась огня. Она увлекалась тогда астрологией и где-то вычитала, что ей, рожденной под знаком Весов, грозит опасность от огня. С тех пор она уже больше не подходила к плите, объясняя это космической несовместимостью знака воздуха и стихии огня. Здесь, в ателье, где вместо газовой плиты стояла электрическая и живой огонь она видела разве только на кончике спички, ее отвращение к стряпне не прошло, и Алик легко и с успехом справлялся с кухней.
Кроме денег и огня была еще одна вещь, уже вполне неосязаемая, – безумный, до столбняка, страх перед принятием решения. Чем незначительней был предмет выбора, тем больше она мучилась. Ирина однажды, получив кучу бесплатных билетов от своей клиентки-певицы, по просьбе Тишорт пригласила Алика с Нинкой в театр. Они заехали за ними и оказались свидетельницами того, как Нинка до изнеможения перемеряла свои маленькие узкие платьица и нарядные туфли, а потом бросилась в постель и сказала, что она никуда не пойдет. И плакала в подушку, пока Алик, избегая смотреть в сторону невольных свидетельниц, не положил рядом с Нинкой какого-то платья наугад и не сказал ей:
– Вот это. К опере бархат – всё равно что сосиски к пиву.
Тишорт, кажется, получила от этого представления больше удовольствия, чем от посредственной оперы.
Ирина хорошо знала цену прихоти и капризу: этим была полна ее юность. Но в отличие от Нины у нее за спиной было цирковое училище. Умение ходить по проволоке очень полезно для эмигранта. Может быть, именно благодаря этому умению она и оказалась самой удачливой из всех… Ступни режет, сердце почти останавливается, пот заливает глаза, а скулы сведены безразмерной оскальной улыбкой, подбородок победоносно вздернут, и кончик носа туда же, к звездам, – всё легко и просто, просто и легко… И зубами, когтями, недосыпая восемь лет ровно по два часа каждый день, вырываешь дорогостоящую американскую профессию… И решения приходится принимать по десять раз на дню, и давно взято за правило – не расстраиваться, если сегодняшнее решение оказалось не самым удачным.
“Прошлое окончательно и неотменимо, но власти над будущим не имеет”, – говорила она в таких случаях. И вдруг оказалось, что ее неотменимое прошлое имеет какую-то власть над ней.
Ни о будущей смерти, ни о прежней жизни никаких разговоров Ирина с Аликом не вела. То, о чем она и мечтать не могла, произошло: Тишорт общалась с Аликом и со всеми его друзьями так легко и свободно, что никому из них и в голову не приходило, какое сложное психическое расстройство перенесла девочка. Но теперь Ирина вряд ли могла объяснить себе самой, что заставляет ее проводить в шумном беспорядочном Аликовом логове каждую свободную минуту вот уже второй год.
Английская золотая рыбка, больше похожая на загорелого тунца, чем на нежную вуалехвостку, доктор Харрис, с которым Ирина тайно женихалась уже четыре года, приехавши на пять дней в Нью-Йорк, едва смог ее изловить и улетел обиженным, в полной уверенности, что она собирается его бросить… А это совершенно не входило в ее планы. Он был известным специалистом по авторским правам, занимал такое положение, что и познакомиться с ним для нее было почти невозможно. Чистый случай: хозяин конторы взял ее с собой на переговоры в качестве помощника, а потом был прием, на котором женщин почти не было, и она сияла на фоне черных смокингов как белая голубка среди старых воронов. Через два месяца, когда она уже и думать забыла об этой поездке в Англию, пришло приглашение на конференцию молодых юристов. Хозяин конторы долго не мог опомниться от изумления, но всё же не заподозрил Харриса в интересе к своей миниатюрной помощнице. Отпустил Ирину на три дня в Европу. И теперь всё шло к тому, что Харрис женится…
И здесь не какая-нибудь любовь-морковь, а дело серьезное.
Каждая женщина, которой исполнилось сорок, мечтает о Харрисе. А Ирине как раз исполнилось.
В общем, получилось глупо…
Вечером Ирина приехала к Нинке для разговора. Но в спальне топталась опять знахарка, заскочившая на пять минут перед отъездом, Нинка вокруг нее бегала. В мастерской, как обычно, сидел народ.
Ирина была голодная, открыла холодильник. Там было плоховато. В бумажном пакете из русского магазина лежал дорогостоящий черный хлеб, подсыхал сыр. Ирина сделала себе бутерброд. Выпила Нинкиной смеси – в этом доме все почему-то начинали пить “отвертку” – апельсиновый сок с водкой… Наконец выползла Нинка.
– Так зачем тебе понадобился Готлиб?
– Какой Готлиб? – удивилась Нинка.
– О господи, да ты же ночью звонила…
– А, он Готлиб. Я и не знала, что он Готлиб… Алик сказал, чтобы привезли раббая, – невинно сказала Нинка, а Ирина вдруг почувствовала прилив раздражения: чего она возится с этой идиоткой. Но она профессионально сдержала раздражение и мягко спросила:
– Да зачем ему раббай? Ты ничего не путаешь?
Нинка просияла:
– Да ты же ничего не знаешь! Алик согласился креститься.
Ирина от ярости зашлась:
– Нин, если креститься, то, наверное, священник нужен, а?
– Само собой! – кивнула Нинка. – Само собой – священник. Это я уже договорилась. Но Алик попросил… он хочет еще и с раббаем поговорить.
– Он хочет креститься? – удивилась Ирина, уловив наконец самое существенное.
Нина опустила узкое личико в костлявые, переставшие быть красивыми руки.
– Фима говорит, что очень плохо. Все говорят, что плохо. А Марья Игнатьевна говорит, что последняя надежда – креститься. Я не хочу, чтобы он уходил в никуда. Я хочу, чтобы его Бог принял. Ты не представляешь себе, какая это тьма… Это нельзя себе представить…
Нинка кое-что знала про тьму, у нее были три суицидальные попытки: одна в ранней юности, вторая после отъезда Алика из России и третья уже здесь, после рождения мертвого ребенка…
– Надо скорее, скорее. – Нинка вылила остатки сока в стакан. – Ириша, купи мне, пожалуйста, сока. А водки не надо, водку вчера Славик принес. Пусть твой Готлиб нам раббая приволочет…
Ирина взяла сумку, опустила руку в металлический судок, стоявший на холодильнике, – туда складывали счета. Там было пусто: кто-то уже оплатил.
5
О себе она говорила: я ставила на всех лошадок, в том числе и на еврейскую. Еврейской лошадкой был огромный чернобородый Лева Готлиб, которому удалось засунуть русскую Ирку в иудаизм, да не как-нибудь, а по полной программе, с субботними свечами, миквой и головным убором, который был ей, кстати, очень к лицу. Маленькая Тишорт была отправлена тогда в религиозную школу для девочек, которую, между прочим, до сего дня добром вспоминала.
Ирка проеврействовала два полных года. Учила иврит: способностями она была никак не обижена, всё ей давалось легко. Ходила в синагогу и наслаждалась семейной жизнью. В одно прекрасное утро она проснулась и поняла, что ей смертельно скучно. Она собрала попавшиеся под руку вещи и немедленно съехала, оставив Леве записку ровно в два слова: “Я уезжаю”. Позднее, когда Лева разыскал ее у старых друзей и пытался восстановить семью, она отвечала только одно: надоело, Лева, надоело. Это был последний ее каприз, а может, эмоциональный бунт – больше она не позволяла себе таких экстравагантных поступков.
Переехала в Калифорнию. Как она жила эти годы, нью-йоркским друзьям было неизвестно. Некоторые считали, что у нее был какой-то запасец. Другие подозревали, что ее содержит любовник. Толком никто ничего не знал: днем она носила английского стиля костюмы из льна и шелка, а по вечерам, нацепив перья и блестки, выступала со своим акробатическим номером в специальном месте для богатых идиотов. Цирковое училище было не фунт изюму – настоящая профессия, не какой-нибудь PhD. Благодаря этой профессии по ночам она крутила ногами, а днем ворочала мозгами в юридической школе. В конце концов она ее окончила, пройдя положенный курс наук и научившись за эти годы вставать в половине седьмого, вместо сорокаминутной утренней ванны принимать трехминутный душ и не поднимать телефонной трубки прежде, чем автоответчик объявит ей, кто именно звонит; она получила место помощника юриста в солидной конторе.
Жила она в Лос-Анджелесе, с эмигрантами почти не общалась, говорила с легким английским акцентом, которому надо было еще научиться. Это было даже шикарно. Люди понимающие знают, что избавиться от акцента труднее, чем его изменить. Свою незамысловатую русскую фамилию она поменяла предусмотрительно, еще при получении первых американских документов.
Со времен ее шоу-карьеры у нее остались кое-какие артистические связи, и она привела с собой клиентуру. Не бог весть какую, но хозяин это оценил. Со временем он дал ей возможность вести дела самостоятельно. Она выиграла для него несколько незначительных дел. Для американского молодого человека такая карьера могла бы считаться неплохой. Для сорокалетней циркачки из России она была блестящей.
Бывшему мужу Леве развод тоже пошел на пользу. Он женился на правильной еврейской девушке из Могилева, не имевшей за спиной ни опыта цирковой акробатки, ни какого бы то ни было вообще. Большая, толстая и широкозадая, она родила ему за семь лет пятерых детишек, и это полностью примирило Леву с потерей Ирки. Рассудительная жена уверенно говорила подружкам:
– Вы же понимаете, всем нашим мужчинам по вкусу шиксы, но это до тех пор, пока они не имеют настоящую еврейскую жену.
Эта великая мудрость была последним пределом ее возможностей, но Лева не стал бы этого оспаривать.
Ирина довольно быстро разыскала по справочнику Леву, а когда попросила его о срочной встрече, он был сильно смущен. Два часа, покуда она добиралась к нему в Бронкс, он корчился от предчувствия большой неприятности или по меньшей мере неловкости, которые она с собой привезет.
Контора его была довольно замурзанная, но дело, которое здесь варилось, было придумано когда-то Иркой. Ее практический ум в сочетании с небрежной незаинтересованностью принес в свое время Леве удачу. Именно Ирка в самом начале их недолгого брака уговорила его вложить все имеющиеся у него деньги, с трудом сбитые пять тысяч, в рискованную и блестяще себя оправдавшую затею по производству кошерной косметики. В то время Ирина еще находилась в состоянии недолгого романа с иудаизмом, правда весьма смягченным и реформированным, но не забывшим о драматических отношениях молока и мяса, в особенности того, которое при жизни хрюкало.
Левушкина косметика еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая трефными бликами общеамериканской косметики, его покинула. Лева, вступив в новую полосу своей жизни, вскоре поменял ориентацию, изменив реформаторам с ортодоксами. Там был свой политический резон. Ему пришлось отказаться от производства грубых красок, оскверняющих благородные лица еврейских женщин, и он продал эту часть дела двоюродному брату, оставив за собой производство кошерного шампуня и мыла, а также научился производить кошерный аспирин и другие медикаменты. Вероятно, на свете существовало довольно много людей, которым эта идея не казалась сплошным надувательством.
Лева встретил Ирину на пороге своего кабинета. Оба сильно изменились, но изменения эти были обусловлены скорее не течением лет, а новым характером жизни. Лева располнел и стал как будто меньше ростом за счет ширины спины и раздавшихся щек, да и лицо утратило бело-розовый оттенок, напоминавший о молодом царе Давиде, и приобрело какой-то сумрачный цвет. Ирина же, ходившая в годы их брака в трикотажных майках с дыркой на плече и в длинных индийских юбках, метущих пол, поразила его журнальной безукоризненностью, жестким изяществом бровей и носа, твердостью подбородка и мягкостью губ.
“Жемчужина, настоящая жемчужина”, – подумал Лева и, подумавши, сказал это вслух.
Ирина засмеялась прежним легким смехом:
– Я рада, Левушка, что тебе нравлюсь. Ты очень изменился, но, знаешь, неплохо, такой солидный капитальный господин.
– И пятеро детей, Ирочка, пятеро. – И он вытащил из стола маленький альбомчик с фотографиями. – А как Маечка? – вдогонку спросил он.
– Нормально, взрослая девица.
Она внимательно рассмотрела альбом, кивнула и положила его на стол.
– Дело у меня вот какое. Старый приятель, еврей, дружок мой еще по Москве, тяжело болен. Умирает. Он хочет поговорить с раббаем. Можешь это устроить?
– И это вся твоя проблема? – Лева испытал огромное облегчение, потому что все-таки подозревал, что Ирина хочет предъявить ему какие-то имущественные претензии, связанные с теми пятью тысячами, потому что тогда они были в браке… Он был человек порядочный, но обременен семьей и ненавидел непредвиденные расходы. – Если тебе надо, я приведу хоть десять. – Он смутился, потому что сказал глупость, но Ирина не поняла или не обратила внимания.
– Но это надо срочно, очень срочно, он совсем плох, – попросила она.
Лева обещал позвонить сегодня же вечером.
Он действительно позвонил вечером и сказал, что может привести замечательного раббая, израильского, читающего сейчас какой-то мудреный курс в Нью-Йоркском университете. И уже договорился, что приведет его к больному сразу после конца субботы.
Весьма примечательно, но никогда ничего не забывавшая Ирина начисто забыла, что еврейская суббота кончается в субботу вечером, и объявила Нине, что раббай придет в воскресенье утром.
Священник, отец Виктор, обещал прийти в субботу после всенощной. Нинка придавала большое значение тому, что священник появится первым.
6
Фима пришел к Берману очень поздно, без звонка, такая бесцеремонность была между ними принята. Их связывали давние отношения, отчасти и родственные. Родство было дальним, трудновычисляемым, по деду, но на самом деле это не имело значения. Важным было другое: оба они были врачи в том смысле, в каком люди урождаются блондинами, или певцами, или трусами, то есть по волеизъявлению природы. Чутье к человеческому телу, слух к движению крови, особое устройство мышления.
– Системное, – определял его Берман.
Оба они чуяли, какие качества характера в сочетании с определенным типом обмена тянут за собой гипертонию, где ожидать язвы, астмы, рака… Прежде чем начинать медицинский осмотр, они примечали, что кожа суха, белок мутноват, в углах рта – точечные воспаления…
Впрочем, в последние годы они мало кого осматривали, разве что знакомые просили.
В отличие от Фимы, Берман, переехав в Америку, сдал все экзамены за два месяца, подтвердил свой российский диплом и поставил одновременно местный рекорд: никому еще не удавалось так быстро справиться с полным курсом медицинской науки. Сразу же он получил работу в одной из городских больниц. Здесь и познакомился на практике с американской медициной, отдавая ей по семьдесят часов в неделю, и она показалась ему столь же малоудовлетворительной, что и российская, но по другим причинам. Тогда он и нашел для себя область, в которой мог держаться подальше от американских врачей. Он их мало уважал.
Область эта была новая, только обозначившаяся.
“В России такого лет двадцать не будет, а может, никогда”, – с огорчением думал он.
Называлась эта область радиомедицина. Это было диагностическое направление, сочетающее введение в организм радиоизотопов и последующее компьютерное обследование.
Как говорил сам Берман, последние остатки мозгов ушли у него на освоение этого современнейшего компьютера, последние остатки энергии – на добывание денег для его покупки и открытие собственной диагностической лаборатории, и последние остатки жизни он собирался потратить на выплату гигантских долгов, которые образовались в результате всех его усилий…
Дело его тем не менее шло хорошо, раскручивалось и набирало обороты, а все доходы шли пока на покрытие кредитов и выплату процентов, которые росли в этой стране быстро и незаметно, как плесень на сырой стене.
Долгов у Бермана было больше четырехсот тысяч, а у Фимы – четыреста долларов, то есть, по американской логике, один процветал, второй же находился в самом жалком положении. Жили они в одинаково паршивых квартирах, ели одну и ту же дешевую еду. Разница только в том и заключалась, что Берман купил себе три приличных “докторских” костюма, а Фима обходился бедняцкой одеждой.
– Как живет вся Америка, так живем и мы, – усмехался Берман и фамильярно шлепал Фиму по плечу.
Оба прекрасно понимали, что если уж Берману под его голову, образование или авантюрный проект дают такие кредиты, значит, всего этого он стоит. И потому он мог бы уже сегодня переехать в хороший Ист-Сайд, если б не был скуповат и не осторожничал.
Фима ежился. Зависть не зависть, но нечто болезненное шевелилось в душе. Надо отдать Берману должное: открывая лабораторию, он предложил Фиме пойти к нему техником, однако для этого надо было закончить какие-то специальные курсы, а Фима всё еще мусолил английские учебники, делал вид перед самим собой, что в будущем году уж точно он мобилизуется и сдаст наконец проклятые экзамены… словом, от Фиминого предложения он отказался. Принять – означало бы полную и окончательную капитуляцию.
Когда-то в России они были на равных, два молодых талантливых врача, знающих себе цену. Здесь, благодаря к делу не идущей способности к лопотанию на этом собачьем языке, Берман так далеко ушел, что Фиме никогда уже не дотянуться. Но в данном случае, с Аликом, они по-прежнему были на равных – два врача возле одного больного.
Теперешняя встреча представляла, собственно говоря, консилиум. Фима был первым врачом, к которому обратился Алик, когда правая рука стала ему изменять. Два года тому назад.
“Ерунда, профессиональное переутомление, может, тендовагинит”, – поставил Фима первый диагноз, но быстро спохватился. Левая рука тоже начала сдавать. Если бы процесс не шел так стремительно, можно было бы говорить о рассеянном склерозе. Нужно было большое хорошее обследование.
Провел первое обследование Берман. Бесплатно, конечно, еще и сам изотопы оплатил. Компьютер ничего не показал.
– Американская штучка, – ухмыльнулся Берман, – не хочет бесплатно работать… Пока ты с виду здоров, покупай страховку, старик. Она начинает действовать через полгода, но я тебе гарантирую, что такие вещи сами собой не проходят, – вынес свое заключение Берман.
Но денег на страховку не было, к тому же Алик никогда не думал о том, что будет через полгода. По этой же причине, а также из отвращения к очередям, чиновникам и казенным бумажкам, оставшегося у него с советских времен, у него никогда не было американских пособий. Среди иммигрантов было немало людей, которые чуть ли не соревновались в ловкости по выдавливанию разного рода подачек и льгот – от продовольственных карточек до бесплатных квартир, Алик же ухитрился прожить почти два десятилетия беззаботной птичкой, работая легко и потаенно: у многих создавалось впечатление, что живет он нашармачка, на авось. Особое раздражение он вызывал как раз не у честных работяг, а именно у принципиальных бездельников и отъявленных ловчил.
Словом, не было у него никогда никакой страховки, как и постоянной работы, и рассчитывать на это не приходилось: меньше, чем когда-либо, был он теперь способен высидеть многодневные очереди в бесконечных коридорах и получить необходимые бумаги.
К счастью, американская система медицинского обслуживания, компьютеризованная и продуманная, оставляла некоторые щелки, в которые можно было всунуться.
Первые анализы были сделаны по чужим документам. Кровь молчала.
Первую госпитализацию организовали на улице: вызвали “скорую помощь” и разыграли небольшой спектакль. Хозяин кафе напротив дома вызвал машину, сказавши, что человек упал без сознания возле его двери. Человек этот лег на три сдвинутых стула, свесил рыжий хвост и, подмигивая приятелю-хозяину, минут пять ждал машины. Его забрали, провели обследование, дали medicaid на время пребывания в больнице.
Лечили его невропатологи, ставили капельницы, вводили положенные лекарства. Всё было довольно уныло, и Алик из больницы сбежал. Фима устроил ему скандал: что бы там ни было, назначения были хорошие, лечение симптоматическое, но другого и быть не может, когда диагноз не поставлен. Фима настаивал, чтобы он лег снова, и единственный способ снова туда попасть – сделать “мастырку”. Фима быстренько организовал ему небольшой свищ на ключице, и Алик предъявил его как осложнение после неудачного лечения. Городская больница хоть и не частное учреждение, но тоже исков не любила, и его опять госпитализировали…
Так всё тянулось. Алик ложился, снова выходил. Не ясно было, помогает ли лечение, – кто ж знал, что было бы без него. Но правая уже висела плетью, левой он с трудом подносил ложку ко рту. Изменилась походка. Уставал. Спотыкался. Потом упал первый раз. И всё это происходило с ужасающей скоростью. К весне следующего года он еле передвигался.
Вторая госпитализация была гораздо более сложным делом. Алика привезли к Берману в лабораторию, Берман сам вызвал “скорую”, сказал, что у него тяжелый больной на приеме. “Скорая” потребовала письменного свидетельства, что больной не умрет в дороге. Берман, который знал все здешние бюрократические уловки, письмо это уже заготовил. Он поехал с Аликом вместе, и, на счастье, главный человек, медсестра, оказалась знакомая Берману старая ирландка, хмурая, резкая и совершенный ангел, – она дала направление в китайскую больницу, которая считалась лучшей из всех государственных. Это была удача, и первую неделю Алик оживился, ему, кроме обычного лечения, делали иглоукалывания, прижигания, и даже казалось, что чувствительность рук восстанавливается…
Теперь Фима и Берман сидели на убогой кухне, среди грязных чашек и жизнерадостных тараканов. Они уже перестали строить предположения: боковой амниотрофический склероз, вирусное стволовое поражение, таинственная онкология…
Берман был довольно красив, хотя было в нем нечто от большой обезьяны: вислые сильные плечи, короткая неповоротливая шея, длинные руки, даже рот был туговато натянут на крупные зубы. Фима был весь корявый, из рытого лица смотрели на Бермана с ожиданием ясные глаза…
– Ничего, Фима. Ничего в таких случаях не делают. Кислородная подушка.
– Удушье может очень медленно развиваться. Очень мучительно, – поморщился Фима.
– Сделай морфин или что там есть…
– Ладно, всё ясно, – пробурчал Фима.
Он все-таки надеялся, что умный Берман знает что-то, чего он забыл. Но такого знания вообще не существовало.
7
Отец Виктор пришел около девяти. В сандалиях на босу ногу, в мешковатой рубахе, заправленной в короткие светлые брюки. В руках у него был чемоданчик-дипломат и целлофановый пакет, чем-то плотно набитый. Бейсбольную кепочку с невинными зелеными буквами N и Y он снял при входе и держал на сгибе локтя. Поздоровался с улыбкой, сморщившей его короткий нос.
Общество по случаю субботы было многолюдным: Валентина, Джойка с сереньким Достоевским под мышкой, Ирина, Тишорт, Файка, Либин с подружкой, все обычные посетители, а сверх того приехавшие из Вашингтона сестры Бегинские, американский художник Руди, приятель Алика по каким-то совместным акциям, никому не известная гостья из Москвы, представившаяся так невнятно, что ее имени никто не запомнил, Шмуль из Одессы и собака Киплинг, которую оставила на несколько дней старая знакомая.
Алика вытащили из спальни и посадили в кресло, обложив со всех сторон подушками. Это было всегдашнее его место, и все медленно вращались по квартире, немного выпивая и шумно разговаривая. На столе стояли случайные приношения: таял огромный ореховый торт и плавилось мороженое. Было больше похоже на вернисаж, чем на покои умирающего.
Отец Виктор как будто растерялся на мгновенье. Но Нина быстро подхватила его под оттопыренный локоток, на котором всё лежала кепочка, и усадила возле стола.
– Сэр-цээ, тэ-бэ так хочется покоя… – пел Шмуль сладким голосом, отчасти заглушая парагвайские дудки и барабанчики, без устали наяривающие внизу, под окнами.
Файка тискала длинную вялую куклу, изображающую Алика. Эту пророческую куклу когда-то подарила ему на день рождения приятельница Анька Крон, проживающая ныне в государстве Израиль. Алик подавал за куклу реплики:
– Ой, не жмите мене так горячо! Ой, Фая, скажите мне, только честно, как перед Богом: вы кушали чеснок?
Священник улыбнулся, взял у Файки из рук куклу, потряс ее розовую руку и сказал:
– Таки приятно с вами познакомиться.
Все засмеялись, он бросил куклу на колени к Фаине.
Нинка кивнула – Шмуль тут же замолк, Либин легко вынул Алика из кресла и отнес, как ребенка, в спальню.
Приезжая москвичка дернулась: смотреть на это было тяжело. Вообще, пока Алик лежал или сидел, всё было довольно обыкновенно: больной человек в кругу друзей, – но вот переход его из одного положения в другое сразу напоминал о том, что происходит что-то ужасное. Живые, ясные глаза и мертвое тело… А в начале весны он еще сам перебирался из спальни в мастерскую…
Алика уложили в спальне, отец Виктор зашел туда. Нинка, немного потоптавшись в дверях, выскользнула из спальни и села на пол снаружи, прислонившись спиной к двери. Вид у нее был стерегущий и отрешенный. Она была вполпьяна, но держалась.
“Как глупо и нелепо, – думал Алик. – Симпатичный, кажется, человек, напрасно я поддался…”
Отец Виктор сел на скамеечку возле постели, совсем близко к Алику.
– У меня есть некоторые профессиональные трудности, – начал он неожиданно. – Видите ли, большинство людей, с которыми я общаюсь, мои прихожане, они совершенно уверены в том, что я способен разрешить все их проблемы, и если я этого не делаю, то исключительно из педагогических соображений. А это совершенно не так. – Он улыбнулся редкозубой улыбкой, и Алик понял, что и священник понимает всю глупую неловкость положения, и испытал некоторое облегчение…
Болезнь не мучила Алика болями. Он страдал от всё усиливающейся одышки и нестерпимого чувства растворения себя. Вместе с весом тела, живым мясом мышц, уходила реальность жизни, и потому ему так приятны были полуобнаженные женщины, облеплявшие его с утра до ночи. Алик давно не видел вокруг себя новых людей, и это новое лицо, с нечисто выбритой с одной стороны щекой – бородка у него была маленькая, на западный манер, – с крапчатыми буро-зелеными глазами, отпечатывалось крупно, с фотографическими подробностями.
– Нина очень хотела, чтобы я с вами поговорил, – продолжал священник. – Она думает, что я могу крестить вас, то есть уговорить принять крещение. И я не могу отказать ей в ее просьбе.
Парагвайская музыка за окном подвывала, потрескивала, испускала дух и снова оживала. Алик поморщился.
– Да я неверующий, отец Виктор, – грустно сказал Алик.
– Что вы! Что вы! – замахал рукой священник. – Неверующих практически не бывает. Это какой-то психологический шаблон, который вы, скорее всего, из России вывезли. Уверяю вас, неверующих не бывает. Особенно среди творческих людей. Содержание веры разное, и чем выше интеллект, тем сложнее форма веры. К тому же есть род интеллектуального целомудрия, которое не допускает прямых обсуждений, грубых высказываний. Всегда под рукой вульгарнейшие образцы религиозного примитива. А это трудно вынести…
– Это я очень хорошо понимаю, у меня своя жена в доме, – отозвался Алик.
Поп этот был ему мил своей честной серьезностью.
“И он совсем не глуп”, – удивился Алик.
Нинкины восторженные междометия по адресу святого и мудрого священника давно вызывали у него раздражение, и теперь это раздражение прошло.
– А у Нины, – отец Виктор махнул рукой в сторону двери, – да вообще у большинства женщин всё идет не через голову, а через сердце. То есть через любовь. Они изумительные существа, дивные, изумительные…
– А вы женолюб, отец Виктор, как и я, – подколол его Алик.
Но тот как будто не понял.
– Да, ужасный женолюб, мне почти все женщины нравятся, – признался священник. – Моя жена мне постоянно говорила, что, если бы не мой сан, я был бы донжуан.
“Какие же бывают простецы”, – подумал Алик.
А священник развивал тему дальше:
– Они удивительные. Они всем готовы пожертвовать ради любви. И содержанием их жизни часто бывает любовь к мужчине, да… Такая происходит подмена. Но иногда, очень редко, я встречал несколько необыкновенно высоких случаев: собственническая, алчная любовь преображается, и они через бытовое, через низменное, приходят к самой Божественной Любви… Не перестаю поражаться. Вот и Нина ваша, я думаю, из той же породы. Я сюда вошел и сразу отметил: сколько прекрасных женщин вокруг вас, такие хорошие лица… Не оставляют вас ваши подруги… Все они мироносицы, если их поскрести…
Он был не стар, несколько за пятьдесят, но в речи по-старомодному возвышен.
“Конечно, из первой эмиграции”, – догадался Алик.
Движения священника были немного растерянными и неточными. Алику и это понравилось.
– Жалко, что мы не познакомились раньше, – сказал Алик.
– Да-да, жарко, – невпопад отозвался священник, не съехавший еще с женской темы, так его вдохновившей. – Это ведь, знаете, диссертацию написать можно – о различии в качестве веры у мужчин и женщин…
– Какая-нибудь феминистка, наверное, уже написала… Попросите, пожалуйста, отец Виктор, пусть Нина принесет нам “Маргариту”. Вы любите текилу? – спросил Алик.
– Да, кажется, – неуверенно ответил священник.
Встал, приоткрыл дверь. За дверью всё еще сидела Нинка с горючим вопросом в глазах.
– Алик просит “Маргариту”, – сказал он Нине, и она не сразу поняла. – Две “Маргариты”.
Через несколько минут Нина принесла два широких бокала и вышла, с недоумением глядя через плечо.
– Ну что же, выпьем за женщин? – с обычным добродушным ехидством предложил Алик. – Вам придется меня поить.
– Да-да, с удовольствием. – Отец Виктор стал неловко совать в рот Алику соломинку.
Он в жизни много разного повидал, но такого еще с ним не бывало. Умирающих он исповедовал, причащал, случалось, крестил, но текилой никогда не поил.
Бокал свой отец Виктор поставил на пол и продолжал говорить:
– Мужское содержание веры – брань. Помните ночную борьбу ангела с Иаковом? Война за самого себя, подъем на следующий уровень. В этом смысле я эволюционист. Спасение – слишком утилитарная идея, не правда ли?
Алику показалось, что священник слегка окосел. Ему не было видно, что тот и не пригубил. Но сам Алик почувствовал теплоту в желудке, это было приятно – ведь ощущений вообще становилось всё меньше и меньше.
– Я думаю, что преподобный Серафим Саровский именно эту борьбу за веру и называл “стяжанием Духа Святого”. Да… – Он замолк и грустно задумался.
Он твердо знал, что нет у него того духовного призвания, какое было у деда…
Индейская музыка, утомившись сама от себя, смолкла. Шум теперь из окна шел хороший, человеческий.
“Как же я стал слаб”, – думал Алик.
Чем-то пронял его этот простодушный и храбрый человек. Почему он производит впечатление храброго – об этом надо подумать… Может быть, потому что не боится показаться смешным…
– Нинка уж очень просит меня креститься. Плачет. Она придает этому большое значение. А по мне – пустая формальность.
– Ну что вы, что вы! Для меня ее мотивы очень убедительны. Но мне-то просто, – он смущенно развел руками, как будто ему было неловко за свои привилегии, – я-то наверняка знаю, что между нами есть Третий. – И он еще глубже смутился и заерзал на скамеечке.
Смертельная тоска напала на Алика. Не чувствовал он никакого третьего. И вообще третий – персонаж из анекдота. И большая мука вдруг оказалась в том, что дурища его Нинка это чувствовала и простодушный поп чувствовал, а он, Алик, не чувствовал. И отсутствие этого самого присутствия он переживал с такой остротой, с какой и присутствие переживать, кто знает, возможно ли…
– Но я готов в конце концов это для нее сделать. – И Алик закрыл глаза от смертельной усталости.
Отец Виктор обтер запотевшую ножку бокала о свои брюки и поставил его на столик.
– Не знаю, право, не знаю, отказать вам не могу, вы тяжко больны. Но здесь что-то не так. Позвольте мне подумать… Знаете, давайте помолимся вместе. Как можем.
Он раскрыл свой чемоданчик, вынул из него облачение, надел поверх цивильной одежды подрясник, епитрахиль, медленно повязал поручи. Поцеловав, надел на себя тяжелый иерейский крест, благословение покойного деда.
Алик лежал с закрытыми глазами и не видел, как изменился отец Виктор, переодевшись, как постройнел и постарел. А священник обернулся к маленькой Владимирской Божьей Матери, плохой печати и линялого цвета, пришпиленной к стене, опустил свой круглый лысеющий лоб и завопил про себя: “Господи, помоги мне, помоги!”
В такие минуты он всегда чувствовал себя маленьким мальчиком на футбольном поле позади приюта для русских детей под Парижем, который держали его бабушка с дедушкой во время войны и где он провел всё детство. Он как будто снова стоял на футбольном поле, внутри клетки драных веревчатых ворот, куда приткнули его, самого младшего, за нехваткой настоящего вратаря, и он, весь одеревенев, ждет великого позора, заранее зная, что не сможет удержать ни одного мяча…
8
Огромный Лева Готлиб с гуталиновой бородой почтительно вывел из лифта худого складного человека, тоже бородатого и высокого, похожего на Левино изображение, извлеченное из кривого зеркала: всё то же, но в четыре раза уже… Ирина от смеху чуть не подавилась, но мгновенно с собой справилась. Лева сразу же нашел ее в многолюдстве и попер на нее с супружеской интонацией:
– Я же сказал, что позвоню после конца субботы, а у тебя автоответчик. Хорошо еще, что я заранее записал этот адрес…
Ирина шлепнула ладонью по лбу:
– Ё-мое! Я же забыла, что это вечером. Я решила, что завтра утром!
Лева только руками развел, но тут же вспомнил о раввине, который стоял рядом – с лицом одновременно строгим и любопытствующим. По-русски он не знал ни слова.
Тишорт стояла у стола, держа бумажную тарелку с огромным куском торта, и пристально смотрела на Готлиба. Лева ринулся на нее, как вепрь, обхватил за голову:
– Ой, мышонок! Мышонок мой!
Он поцеловал ее в маковку – выросшую девочку, которая долго прожила в его доме и он сажал ее на горшок, водил в садик и называл дочкой.
“Бессовестный, до чего же бессовестный, – думала Майка, напряженно удерживая голову в его каменных ручищах. – Я так по нему скучала тогда, а теперь плевать. Сволочи, умственно отсталые, все до единого!” Она вильнула немного своей гордой головой, и Лева чутко выпустил ее из пальцев.
Раввин был правильный, в потертом черном костюме какого-то вечно старомодного покроя, в шелковой водевильной шляпе, на которую полагалось бы садиться всем вновь прибывшим. Из-под кривых полей свисали от виска отпущенные на волю несжатые полоски, самодовольно-пышные и не желающие лежать винтом. Он улыбнулся в черно-белую маскарадную бороду и произнес: “Good evening”.
– Реб Менаше, – представил Лева раввина. – Из Израиля.
Именно в эту минуту открылась дверь из спальни и к гостям шагнул вспотевший, розовый, со звездчатыми, яркими глазами отец Виктор в подряснике. Нина кинулась к нему:
– Ну что?
– За мной дело не станет, Нина. Я приеду… Давайте так: почитайте ему Евангелие.
– Да читал он, читал. Я думала, прямо сейчас, – огорчилась Нинка. Она привыкла, чтобы все ее желания быстро выполнялись.
– Сейчас он просит еще одну “Маргариту”, – смущенно улыбнулся отец Виктор.
Увидев священника, Лева крепко вцепился в Ирину руку повыше запястья:
– Как это понять? Это что, шутки у тебя такие?
Ирина узнала его яростный взгляд и мгновением раньше самого Левы почувствовала его вспыхнувшее желание. Она отчетливо вспомнила, что самая лучшая любовь с ним получалась, если раззадорить его сперва мелкой ссорой или обидой.
– Да никакие не шутки, Левочка. – Она миролюбиво смотрела ему в глаза, сдерживая улыбку и хулиганское желание немедленно положить руку ему на гульфик.
Ненавидя себя за постыдную страсть, краснея лицом и разворачиваясь к ней боком, он всё больше распалялся:
– Сколько раз я себе говорил: нельзя с тобой связываться! Всегда получается цирк какой-то! – шипел он сквозь дрожащую от злости бороду.
Это была неправда. Дело было только в том, что она страшно уязвила его своим уходом, и он сильно докучал с супружескими обязанностями своей вечно усталой жене, понапрасну надеясь выколотить из нее Иркину музыку, которой в жене, сколько ее ни тряси, не бывало.
– Не баба, а крапивная лихорадка, – фыркнул Лева.
Реб Менаше вопросительно смотрел на Леву. Он не знал русского, не знал и русской эмиграции, хотя евреев из России было теперь в Израиле полно, но не в Цфате, где он жил. Там иммигранты почти не селились.
Он был сабра, и родным языком его был иврит. Читал он по-арамейски, по-арабски и по-испански, изучал иудео-исламскую культуру времен халифата. По-английски говорил свободно, но с сильным акцентом. Теперь он вслушивался в звуки их мягкой речи, и они казались ему чрезвычайно приятными.
Мужественная Нинка предстала перед двумя бородатыми, схватила раввина за обе руки и, встряхивая своими светящимися волосами, сказала ему по-русски:
– Спасибо, что вы пришли. Мой муж очень хочет с вами поговорить.
Лева перевел на иврит. Раввин кивнул бородой и ответил Леве, указывая глазами на отца Виктора, снимающего подрясник:
– Меня удивляет, какие в Америке проворные священники. Не успел еврей пригласить раввина, а он уже здесь.
Отец Виктор издали улыбнулся коллеге недружественной религии – его доброжелательность была неразборчивой и совершенно беспринципной. К тому же в молодости он прожил больше года в Палестине и понимал язык настолько, чтобы подать уместную реплику:
– Я тоже из числа приглашенных.
Реб Менаше и бровью не повел – не понял или не расслышал.
Валентина тем временем сунула в руки отцу Виктору бокал с мутным желтым напитком, и он осторожно хлебнул.
Реб Менаше привычно отводил глаза от голых рук и ног, мужских и женских, как делал это и у себя в Цфате, когда гогочущие иностранные туристы высыпали из экскурсионных автобусов на камни его святого города, гнездилище высокого духа мистиков и каббалистов. Двадцать лет тому назад он отвернулся от всего этого и никогда об этом не пожалел. Жена его Геула, носившая теперь десятого ребенка, никогда перед ним не обнажалась так бесстыдно, как любая из здесь присутствующих женщин.
“Барух ата Адонаи…” – привычно начал он про себя благословение, смысл которого сводился к благодарности Всевышнему, создавшему его евреем.
– Может быть, вы сначала закусите? – предложила Нина.
Лева произвел руками жест, обозначающий одновременно испуг, благодарность и отказ.
Алик лежал с закрытыми глазами. На матовом черном фоне, на изнанке век извивались яркие желто-зеленые нити, образуя ритмичные орнаменты, подвижные и осмысленные, но Алик, пристально изучивший в свое время древнюю азбуку ковров, всё никак не мог уловить основных элементов, из которых складывался этот подвижный узор.
– Алик, к тебе пришли. – Нина подняла его голову, провела влажным полотенцем по шее, протерла грудь. Потом стянула с него оранжевую простыню, помахала над его плоским голым телом, и реб Менаше еще раз удивился всеобщему американскому бесстыдству.
Похоже, они вообще не понимают, что такое нагота. И он по привычке устремился мыслью к первоисточнику, где впервые было произнесено это слово.
“Оба были наги и не стыдились”. Вторая глава Берешит. Где же находятся эти дети? Отчего они не стыдятся? Они не выглядели порочными. Скорее они казались невинными… Или мы разучились читать Книгу… Или Книга написана для других людей, способных ее иначе читать?
Нина приподняла колени Алика и соединила их, но ноги неловко завалились.
– Оставь, оставь, – всё еще не открывая глаз и досматривая последний виток орнамента, сказал Алик.
Нина подсунула подушки под его колени.
– Спасибо, Ниночка, спасибо, – отозвался он и открыл глаза.
Высокий худой человек в черном, склонив голову набок, так что поле черной блестящей шляпы едва не касалось левого плеча, стоял перед ним с выжидательным видом.
– Do you speak English, don’t you?
– I do, – улыбнулся Алик и подмигнул Нине.
Она вышла, следом за ней вышел и Лева.
Раввин сел на скамеечку, еще хранящую тепло священнических ягодиц, поместил с некоторым колебанием свою пыльную шляпу на край Аликовой постели. Он сложился пополам, борода его лежала на острых коленях. Огромные ступни в потертых туфлях на резиночках, без шнурков, стояли носок к носку, пятками врозь. Он был серьезен и сосредоточен, пружинистый купол черных с проседью волос покрывала на макушке маленькая черная кипа, пришпиленная “невидимкой”.
– Дело в том, раббай, что я умираю, – сказал Алик.
Раввин покашлял и пошевелил длинными сцепленными пальцами. У него не было специального интереса к смерти.
– Понимаете, моя жена христианка и хочет, чтобы я крестился. Принял христианство, – пояснил Алик и замолчал. Говорить ему было всё труднее. И вообще он уже не был рад всей этой затее.
Раввин тоже молчал, поглаживая собственные пальцы, а после паузы спросил:
– И как эта глупость пришла вам в голову? – Он не вполне уместно употребил английское выражение, обозначавшее глупость иного рода, но уточнил свою мысль, добавив: – Абсурд.
– Абсурд для эллинов. А разве для иудеев не соблазн? – Изящество и быстрота реакции не покидали Алика, несмотря на тупое одеревенение, которое он уже почти перестал ощущать телом, но чувствовал в последние дни лицом.
– А почему вы думаете, что раввин должен знать тексты вашего апостола? – блеснул светлыми и радостными глазами Менаше.
– А разве может быть что-нибудь такое, чего не знает раввин? – отбил Алик.
И они задавали друг другу вопросы, не получая ответов, как в еврейском анекдоте, но понимали друг друга гораздо лучше, чем, в сущности, должны были бы. У них не было ничего общего ни в воспитании, ни в жизненном опыте. Они ели разную пищу, говорили на разных языках, читали разные книги. Оба они были образованными людьми, но сферы их общих знаний почти не пересекались. Алик ничего не знал ни о каламе – мусульманском спекулятивном богословии, которым скрупулезно занимался реб Менаше уже двадцать лет, ни о Саадии Гаоне, труды которого без устали комментировал реб Менаше все эти годы, а реб Менаше слыхом не слыхивал ни о Малевиче, ни о де Кирико…
– А что, кроме раввина уже не с кем и посоветоваться? – с горделивой и юмористической скромностью спросил реб Менаше.
– А почему еврей перед смертью не может посоветоваться именно с раввином?
В этом шутливом разговоре всё было глубже поверхности, и оба понимали это и, задавая дурацкие вопросы, подбирались к тому важному, что происходит в общении между людьми, – к прикосновению, оставляющему нестираемый след.
– Жалко жену. Плачет. Что мне делать, раббай? – вздохнул Алик.
Раввин убрал улыбку, пришла его минута.
– Айлик! – Он потер переносицу, пошевелил огромными туфлями. – Айлик! Я почти безвыездно живу в Израиле. Я первый раз приехал в Америку. Я здесь три месяца. Я потрясен. Я занимаюсь философией. Еврейской философией, и это совсем особое дело. У еврея всегда в основе лежит Тора. Если он не изучает Тору, он не еврей. У нас в древности было такое понятие – “плененные дети”. Если еврейские дети попали в плен и были лишены Торы, еврейского образа жизни, воспитания и образования, то они не виноваты в этом несчастье. Они даже могут этого не осознавать. Но еврейский мир обязан брать на себя заботу об этих сиротах, даже если они в преклонных годах.
Здесь, в Америке, я увидел целый мир, который весь состоит из “плененных детей”. Целые миллионы евреев в плену у язычников. История евреев не знала таких времен никогда. Всегда были отступники и насильно крещенные, и “плененные дети” были не только во времена Вавилона. Но сейчас, в двадцатом веке, “плененных детей” стало больше, чем настоящих евреев. Это процесс. А если это процесс, то в нем есть воля Всевышнего… И об этом я думаю всё это время. И буду еще долго думать.
А вы говорите – крещение! То есть из категории “плененных детей” перейти в категорию отступников? С другой стороны, вас и отступником назвать нельзя, потому что, строго говоря, вы и не являетесь евреем. И второе хуже первого, вот что бы я сказал… Но скажу еще, опять с другой стороны: в сущности, у меня никогда не было выбора…
“Как интересно, и у этого тоже не было выбора… Отчего же у меня было выборов – хоть жопой ешь”, – подумал Алик.
– Я родился евреем, – Менаше тряхнул своими пышными пейсами, – я был им от самого начала и буду до конца. Мне нетрудно. У вас есть выбор. Вы можете быть никем, что в моем понимании значит быть язычником, а могли бы стать евреем, к чему у вас есть большое основание – кровь. А можете стать христианином, то есть, по моему разумению, подобрать кусок, упавший с еврейского стола. И даже не буду говорить, хорош этот кусок или плох, скажу только, что приправа, которую история приложила к этому куску, была очень сомнительной… Но уж если говорить вполне откровенно – не есть ли христианская идея жертвоприношения Христа, понимаемого как ипостась Всевышнего, самой большой победой язычников?
Он пожевал красную губу, еще раз внимательно посмотрел на Алика и закончил:
– По моему мнению, пусть вы лучше останетесь “плененным”… Уверяю вас, есть вещи, которые решают мужья, а не жены. Ничего другого не могу вам сказать…
Реб Менаше встал с неудобной скамеечки и вдруг почувствовал головокружение. Он склонился над Аликом со всей высоты своего роста и стал прощаться:
– Вы устали, я вижу. Вы отдыхайте…
И он забормотал какие-то слова, которых Алик уже не разобрал. Они были на другом языке.
– Реб Менаше, подождите, я бы хотел с вами выпить на прощанье, – остановил его Алик.
Либин и Руди вынесли Алика в мастерскую и усадили, вернее сказать, поместили его в кресло.
“Расслабленный, – подумал отец Виктор. – Как близко чудо. Завопить. Разобрать кровлю. Господи, почему у нас не получается?”
Особенно печально было оттого, что он знал, почему…
Лева хотел немедленно увести раввина. Но подошла Нинка, предложила стакан.
Лева решительно отказался, но раввин что-то сказал ему, и Лева спросил у Нины:
– А есть у вас водка и бумажные стаканчики?
– Есть, – удивилась Нина.
– Налейте в бумажные, – попросил он.
С улицы несло музыкой, как несет помойкой. К тому же была жара. Эта не спадающая и ночью нью-йоркская жара усиливала к вечеру возбуждение, и многие мучились бессонницей в эту погоду, особенно новые люди, несущие в своих телах привычку к другому температурному режиму. К раввину это тоже относилось: хотя он и привык к жаре и отлично ее переносил, но в Израиле, по крайней мере там, где он жил последние годы, дневная жара сменялась ночной прохладой и люди успевали за ночь отдохнуть от дневного солнечного гнета.
Нинка принесла два бумажных стаканчика и передала их бородатым.
– Сейчас я отвезу вас в университет, – сказал Лева раввину.
– Я не тороплюсь, – ответил он, вспомнив о душной комнатке в общежитии и о многочасовом ожидании зыбкого сна.
Алик был распластан в кресле, а вокруг него орали, смеялись и выпивали его друзья, все как будто сами по себе, но все были обращены к нему, и он это чувствовал. Он наслаждался обыденностью жизни, и, ловец, гоняющийся всю жизнь за миражами формы и цвета, он знал сейчас, что не было у него в жизни ничего лучше этих бессмысленных застолий, когда пришедшие к нему в дом люди объединялись вином, весельем и добрым отношением в этой самой мастерской, где и стола-то настоящего не было – клали ободранную столешницу на козлы…
Лева с раввином сидели в шатких креслах. В те годы, когда Алик здесь обживался, помойки в округе были отменными: кресла, стулья, диванчик – всё было оттуда. Напротив Левы и Менаше висела большая Аликова картина. Это была горница Тайной Вечери, с тройным окном и столом, покрытым белой скатертью. Никого не было вокруг стола, зато на столе – двенадцать крупных гранатов, подробно написанных, шершавых, с тонкими переливами лилового, багрового, розового, с гипертрофированными зубчатыми коронами, живыми вмятинами, отражающими их внутреннее перегородчатое устройство, полное зерен. В тройном окне лежала Святая Земля. Такая, какой она была сегодня, а не в воображении Леонардо да Винчи.
Не любитель и не знаток живописи, раввин уставился на картину. Сначала он увидел гранатовые яблоки. Это был давний спор, какой именно плод соблазнил Хаву. Яблоко, гранат или персик. Помещение, изображенное на картине, он тоже знал. Эта так называемая Горница была расположена как раз над гробом Давидовым, в Старом Городе.
“Все-таки в нем говорит чисто еврейское целомудрие, – решил он, глядя на картину. – Людей он заменил гранатами. Вот в чем фокус. Бедняга…” – с грустью подумал он.
Он был настоящий израильтянин, родился на второй день после провозглашения государства. Дед был сионист, организатор одной из первых сельскохозяйственных колоний, отец жил Хаганой, и сам он успел и повоевать, и землю покопать. Родился он под стенами Старого Города, у мельницы Монтефиори, и первый вид из окна, который он помнит, был вид на Сионские Ворота.
Ему было двадцать лет, когда он впервые, вслед за танками, вошел внутрь этих стен. Еще пахло огнем и железом. Он облазил весь Старый Город, исследовал всю путаницу арабских улиц, все крыши христианского и армянского кварталов. Христианские святыни Иерусалима казались ему сомнительными, как и большая часть иудейских. Горница Тайной Вечери вызывала особое недоверие: не могла быть назначена эта тайная пасхальная встреча над костями Великого Царя. Впрочем, гробница Давида тоже не вызывала доверия… Весь этот изумительный мир из слабого белого камня, зыбкого света и горячего воздуха, который он так любил, был полон исторических и археологических несуразностей, в отличие от мира книжной премудрости, организованного с кристаллической точностью, без зазоров и приблизительностей, с разумным восхождением снизу вверх и парадоксальными, большой красоты логическими петлями…
Что значит для него эта земля, он понял впервые, покинув Израиль. Менаше был тогда молод, окончил университет, и его направили в Германию изучать философию. После года пристальных и вполне успешных занятий он полностью утратил интерес к европейской философии, оторванной от той жизненной основы, которую он признавал исключительно за Торой. Так окончился недолгий срок его академического образования, и на половине третьего десятилетия своей жизни он встал на традиционный путь иудейской науки, которая и была, собственно говоря, богословием.
Тогда же он и женился на молчаливой девушке, обрившей могучие рыжие кудри накануне свадьбы. С тех пор он наслаждался гармонией, рождавшейся из сочетания выверенного до часовой точности во всех деталях быта и огромной интеллектуальной нагрузки учителя и ученика одновременно.
Мир его совершенно изменился: информация, получаемая большинством людей через радио, телевидение, светскую печать, полностью ушла от него, а взамен этого он получил пищу “Шулхан Арух” – стола, накрытого для желающих получить еврейское духовное наследие, да детский многоголосый писк.
Через пять лет вышла его первая книга, исследовавшая стилистические различия между комментариями Саадии к Даниилу и к Хроникам, а еще через два года он переселился в Цфат.
Мир его был библейски прост и талмудически сложен, но все грани совпадали, а ежедневная работа со средневековыми текстами придавала текущему времени оттенок вечного. Внизу, под горой, синел Киннерет, и именно здесь он обрел глубокое чувство благодарности Всевышнему – христианин, несомненно, назвал бы его фарисейским – за выпавшую ему счастливую долю служения и познания, за святость его земли, которая многим представляется всего лишь грязным и провинциальным восточным государством, а для него была несомненным средоточием мира, по отношению к которой все прочие государства с их историями и культурами читались только как комментарий…
Через толпу гостей к нему пробирался снявший подрясник священник.
– Мне сказали, что вы приехали сюда из Израиля с курсом лекций по иудаике? – спросил он на школьном английском языке.
Менаше встал. Он никогда еще не общался со священниками.
– Да, я преподаю сейчас в еврейском университете. Курс лекций по иудео-исламской культуре.
– Там бывают замечательные лекции. Я как-то читал книгу, курс лекций по библейской археологии, изданную этим университетом, – радостно заулыбался священник. – А ваша иудео-исламская тема в контексте современного мира читается, вероятно, очень хитрым перевертышем?
– Перевертышем? – не сразу понял реб Менаше. – Нет-нет, меня не интересуют политические параллели, я занимаюсь философией, – заволновался раввин.
Алик подозвал к себе Валентину:
– Валентина, ты присмотри за ними, чтоб трезвыми не остались.
Валентина, розовая и толстая, принесла, прижимая к груди, три бумажных стаканчика и поставила их перед Левой.
Выпили дружно, на троих, и через минуту их головы сблизились, они кивали бородами, качали головами и жестикулировали, а Алик, страшно довольный, указывая на них глазами, сказал Либину:
– По-моему, я сегодня очень удачно выступил в роли Саладина…
Валентина поискала глазами Либина и кивнула в сторону кухни. Через минуту она теснила его в угол:
– Я не могу ее просить, спроси ты…
– Ну да, ты не можешь, а я могу… – обиделся Либин.
– Ладно тебе. Надо срочно хотя бы за один месяц заплатить…
– Так недавно же собирали…