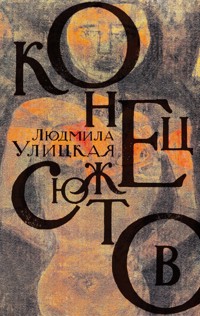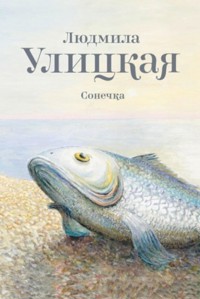
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Людмила Улицкая. Избранное
- Sprache: Russisch
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЮ) ПРОИЗВЕЛ ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ УЛИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, ЛИБО МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАННОГО ИНОСТРАННОГО АГЕНТА. В обыденности жизни, в ее монотонности нет-нет, да и сверкнет вдруг чудо — великодушный жест у мелочного, казалось бы, человека, ошеломляющее милосердие у того, кто всегда проявлял себя жестким и даже жестоким, невероятная щедрость там, где вовсе не ожидаешь ее встретить. Откуда они берутся — доброта и любовь, самопожертвование и милость? Из глубины души? С высоты небес? Ответ невнятен. Это дар. Людмила Улицкая написала портретную галерею людей, не обойденных этим даром в «жизни, бедной на взгляд»: «Сонечка», «Девочки», узнаваемые персонажи «Русского варенья»…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Людмила Улицкая Сонечка
От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:
– От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму груши.
К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну стать – большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.
Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки…
Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.
Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами…
Что это было – полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость не выросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?..
Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку…
Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.
Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.
А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.
Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.
Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами – на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие – от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.
Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.
Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании – в библиотеке, в подвале…
Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве: помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, – или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкиной жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации…
Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.
Долго и ошеломленно стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.
Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:
– Чудо какое… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… – И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил: – И даже в эльзевировских изданиях…
– Здесь девять Эльзевиров, – с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:
– Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?
Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся… Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: «И даже колорит: смуглое, печально-умбристое и розоватое, теплое…»
Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.
Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним – его жена.
Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.
Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.
А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Данте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, – безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал…
– Адрес, – кротко попросила Сонечка.
– Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, – объяснил странный читатель.
– Ну паспорт дайте, прописку, – попросила Сонечка.
Он порылся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.
– Нет, не могу. Вы же областной…
Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.
– Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, – извиняющимся голосом сказала Сонечка.
И он понял, что все в порядке.
– Я только прошу вас, очень аккуратно, – ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.
Он сухо поблагодарил ее и вышел.
Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.
* * *
Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты – скорее они были зажмурены.
В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.
Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза – прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, – но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным… Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не таращилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.
Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей войны.