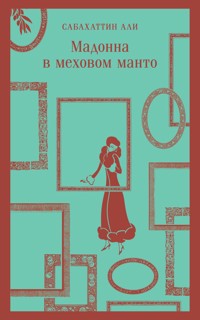Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Магистраль. Главный тренд
- Sprache: Russisch
Молодой интеллигент влюбляется в свою кузину и отчаянно пытается занять место под солнцем. Психологический роман о преодолении себя от автора «Мадонны в меховом манто». Легендарный турецкий писатель Сабахаттин Али стал запоздалым триумфальным открытием для европейской литературы. В своем творчестве он раскрывал проблемы взаимоотношений культур и этносов на примере обыкновенных людей, и этим быстро завоевал расположение литературной богемы. В романе «Дьявол внутри нас» Сабахаттин Али вновь исследует человеческую душу и крупными мазками изображает Стамбул начала ХХ века. Омер — юноша интеллигентный, открытый и романтичный, однако Дьявол, живущий в нем, делает его инфантильным и безвольным. Влюбленность в кузину Маджиде, студентку консерватории, переворачивает его жизнь с ног на голову, и он отчаянно пытается сражаться со своим Дьяволом, но неизбежно утягивает девушку вслед за собой. Внезапное появление первой любви Маджиде — пианиста Бедри — заставляет Омера задуматься: должен ли он и дальше рушить жизнь своей возлюбленной? Или Дьявол внутри него одержит победу?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сабахаттин Али Дьявол внутри нас
Sabahattin Ali
İCIMIZDEKI ŞEYTAN
© Аврутина А.С., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
I
В одиннадцать часов пополудни из Кадыкёя[1] к Галатскому мосту [2] следовал теплоход, на палубе которого сидели двое молодых людей и беседовали. Ближе к борту сидел полный и белолицый юноша со светлокаштановой шевелюрой. Взгляд его карих близоруких глаз, сощуренных под очками в черепаховой оправе, медленно скользил то по лицу его приятеля, то по залитым солнечным светом водам Босфора. Его прямые и довольно длинные волосы постоянно выбивались из-под съехавшей на затылок шляпы, падая на правую бровь и очки. Говорил он очень быстро, и от этого его губы становились особенно красивыми, и красоту их подчеркивала бородка, обрамлявшая его лицо.
Его приятель был бледным, тщедушным и худым, с нервными безостановочными жестами и колючим взглядом.
Оба были среднего роста, и обоим было самое большее двадцать пять лет.
Толстяк, пристально глядя на море, рассказывал:
– Я бы расхохотался, если б не сумел себя сдержать. Когда историк начал ей задавать вопросы один за другим, девчонка совсем растерялась и смотрела по сторонам, словно звала на помощь. Я знал, что она даже не открывала конспекты, так что, думаю, ну все – засыпалась. И тут я заметил, что Умит подмигивает профессору за ее спиной. Ну и в итоге спустя несколько вопросов профессор ответил на них сам и отпустил девчонку.
– Профессор что – сохнет по Умит?
– Да он по каждой юбке сохнет – посмотри на него!
Затем он стукнул приятеля по колену и добавил – так, будто это касалось только что рассказанной истории:
– Как мне наскучила жизнь! Все надоело! Учеба, профессора, занятия, друзья… И даже девушки. Все достало! До тошноты!
Он немного помолчал. Затем поправил очки и продолжил:
– Ничего мне не хочется. Ничто меня не радует. Чувствую, что с каждым днем все больше погружаюсь в лень, и очень этим состоянием доволен. Может, через некоторое время меня захватит такое безразличие ко всему, что я даже скуки испытывать не буду. Каждый должен что-то делать, но что-то такое… Или уж вообще ничего не делать! И вот я думаю: что мы можем сделать? Ничего! В нашем мире, которому миллионы лет, самым старым предметам двадцать тысяч лет. Да и эта цифра преувеличена. Я позавчера беседовал с нашим профессором философии. Я начал беседу нашу довольно серьезно и постарался обсудить проблему «смысла нашего бытия». Но он так и не сумел мне объяснить, какого черта мы оказались в этом мире. Он принялся нести что-то о радости творчества, о том, что жизнь сама по себе имеет смысл, однако это все неубедительно! Что тебе творить? Творить – это создавать что-то из ничего. Но даже голова самого умного из нас – это не больше, чем хранилище знаний и опыта, накопленного нашими предшественниками. И поэтому когда мы хотим создать что-то новое, на самом деле мы придаем старым вещам новую форму и выбрасываем на рынок. Не понимаю, как такое нелепое занятие может удовлетворить человека. В то время как есть звезды, свет которых доходит до нас лишь за пять тысяч лет, просиживать годы для того, чтобы попытаться обрести бессмертие, написав труды, которые через пятьдесят лет сгниют на книжной полке, а через пятьсот лет от них не останется даже названия? Или копаться всю жизнь в глине, или корпеть над мрамором, лишь бы три тысячи лет спустя твою статую нашли без рук, без ног, но взяли бы в какой-нибудь музей? Увольте, я считаю это крайне глупым.
Он немного помолчал и проговорил назидательно:
– Мне кажется, единственное, что мы можем сделать, – это умереть. Ведь только это в наших силах и только в этом мы можем проявить свою волю. Спросишь меня, почему я этого не делаю? Но я тебе уже говорил, меня обуяло страшное безразличие. Мне все лень! Живу по инерции. Эх!
Он зевнул во весь рот. Вытянул ноги. Пожилой мужчина, сидевший напротив него, читавший армянскую газету, недовольно поджался и бросил на него косой взгляд.
Приятель молодого человека, видимо, слышал все это уже сотни раз, поэтому слушал его явно вполуха, рассеянно глядя по сторонам и думая о чем-то своем. Иногда он хмурился и что-то бормотал под нос, будто пытался собраться с мыслями.
Когда его товарищ окончил свою речь, тот спросил с многозначительной улыбкой:
– Омер, у тебя деньги есть? Выпьем ракы[3] сегодня вечером?
– У меня-то нет, – ответил тот с видом прожженного человека, что не вязалось с его давешними словами. – Но с кого-нибудь стрясем. Если б я сегодня заглянул в контору, то легко бы нашел, но я туда совершенно не собираюсь.
Худой многозначительно покачал головой:
– Тебя скоро вышвырнут оттуда. Разве можно так прогуливать? И так все конторы только и ищут повод, чтобы избавиться от сотрудника, который учится в университете. А у того, кто, как ты, трудится на почте, дела совсем плохи. Там время особенно дорого. Ну, по крайней мере, должно быть дорого.
Затем он с улыбкой добавил:
– Ясно теперь, почему письма из Баязида в Эминёню[4] идут сорок восемь часов! Благодаря таким усердным сотрудникам почты, как ты!
Омер невозмутимо ответил:
– Я не имею никакого отношения к письмам. Я – бухгалтер. С утра до вечера заполняю учетные книги. А по вечерам иногда помогаю кассиру. Ах, дорогой мой Нихат, как же приятно считать деньги!
Нихат внезапно оживился.
– Как интересно! – проговорил он. – Вообще-то деньги очень интересная штука. Часто я достаю из кармана лиру, кладу ее перед собой и рассматриваю часами. Вроде бы нет в ней ничего особенного. Несколько искусно переплетенных линий, вроде тех, которые вычерчивают в школе на уроках каллиграфии. Разве что эти линии чуть потоньше и позапутаннее. Затем на купюре идет рисунок, несколько коротких надписей и одна-две подписи… Если наклониться к купюре, то в нос ударит резкий запах жира и грязи. Но подумай только, дорогой мой, какая сила в этой грязной бумажке!
На мгновение он закрыл глаза.
– Скажем, в один прекрасный день нападает на тебя ужасная тоска. Жизнь кажется мрачной, бессмысленной. Начинаешь философствовать вроде того, как ты это делал только что. А потом надоедает и это, и становится неохота не то что рассуждать – даже рот раскрывать. Тебе кажется, что никто и ничто не в состоянии тебя развлечь или оживить. Раздражает даже погода. Либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо долгий дождь. Прохожие, как идиоты, смотрят тебе вслед и бегут дальше по своим пустяковым делам, высунув язык, как козлы за пучком соломы. Собравшись с мыслями, ты пытаешься разобраться в своем душевном состоянии. Перед тобой являются неразрешимые загадки человеческого духа. Ты, как за спасательный круг, хватаешься за вычитанное в книгах слово «депрессия». Потому что каждому из нас свойственно непременно давать название всему тому моральному или материальному, что с нами происходит, всем нашим проблемам, а если у нас нет такой возможности, то мы окончательно сходим с ума. Если бы люди утратили такую потребность, то доктора бы с голоду умерли. И вот в тот самый момент, когда ты захлебываешься в бурном бескрайнем море душевной тоски, которую ты настойчиво называешь депрессией, перед тобой внезапно появляется твой старинный приятель, с которым ты давно не виделся. Ты сразу замечаешь, что он прилично одет, и тут ты сразу вспоминаешь о собственном безденежье и, если повезет, просишь у старинного друга взаймы. И вот тут-то начинаются чудеса! Внезапно откуда ни возьмись налетает ветер, который сдувает всю туманную муть из твоей души, а на сердце становится легко, светло и свободно. От былой тоски не остается и следа. Ты с довольным видом взираешь по сторонам и тоже начинаешь искать приятеля, с которым можно поболтать. Таким образом, друг мой, с помощью двух грязных бумажек ты получаешь то, чего не мог получить от груд книг и многочасовых размышлений. Так как тебе трудно признаться самому себе, что дух твой готов выкидывать номера за столь низкую плату, и поэтому ты, конечно, попытаешься приписать перемену своего настроения какой-либо более основательной причине, например, более высоким облакам или более прохладному ветру, который внезапно подул тебе в затылок… Или какой-то особенно удачной мысли, которая тебя посетила. Однако, между нами говоря, все происходит ровным счетом наоборот, ведь именно благодаря нескольким лирам, попавшим к нам в карман, мы замечаем, что и погода не такая уж плохая, и ветер дарит нужную прохладу, и мысли наши не такие уж глупые… Вставай, друг мой, мы уже у пристани. В один прекрасный день из-за денег мы все либо сойдем с ума, либо станем господами мира. А пока давай попробуем раздобыть немного денег на ракы и выпьем несколько рюмочек за наше блестящее будущее…
II
Нихат завершил свою речь и поднялся, чтобы уходить, однако Омер не двигался с места. Он тронул друга за плечо, Омер вздрогнул, но не двинулся с места. Нихат наклонился посмотреть, не задремал ли его приятель, и увидел, что тот неотрывно смотрит на одну из противоположных скамеек и настолько поглощен увиденным, что утратил всякую связь с окружающим миром. Нихат тоже посмотрел туда внимательно, однако ничего не заметил. Затем снова положил руку Омеру на плечо.
– Вставай же!
Омер ничего не ответил, только поморщился: оставь, мол, меня в покое.
– Что случилось? Куда ты смотришь?
Омер наконец повернул голову:
– Замолчи и садись!
Нихат повиновался.
Пассажиры не спеша поднимались со своих мест и направлялись к выходам. Омер вытягивал шею, наклонялся то вправо, то влево, чтобы продолжать смотреть туда, куда смотрел. Нихат толкнул его локтем и рявкнул:
– Слушай, мне надоело! Скажи наконец, куда ты смотришь?
Омер медленно повернул голову и с таким видом, будто произошло непоправимое несчастье, проговорил:
– Там сидела девушка. Ты видел?
– Не видел. И что?
– И я никогда раньше не видел.
– Что за вздор ты несешь?!
– Я говорю, что сроду не видел такого прекрасного создания.
Нихат досадливо поморщился и снова встал.
– Хоть ты и любишь громкие слова, да и мозги у тебя есть, не стать тебе серьезным человеком!
После этих слов слабая ироническая улыбка еще некоторое время дрожала на его губах, затем ее сменило прежнее равнодушное выражение. Омер тоже поднялся. Вытянув шею и поднявшись на носки, он искал кого-то в толпе. Потом обернулся к Нихату.
– Все еще сидит, – сообщил он.
Затем, глядя прямо в глаза приятелю, взволнованно заговорил:
– Прекрати свою пустую болтовню! Сейчас я переживаю самые важные минуты в своей жизни. Мое предчувствие еще никогда не обманывало меня. Произошло или вот-вот произойдет нечто чрезвычайное. Мне показалось, что я знал эту девушку еще до своего рождения, до сотворения мира и вселенной. Как же мне тебе объяснить? Неужели же мне нужно обязательно сказать, чтобы ты понял: «Я влюбился, как безумный, с первого взгляда, я горю, я сгорел!» Самое странное, что мне больше нечего сказать, кроме этих слов. Я даже удивлен, как я вообще могу тут стоять и болтать с тобой. Отныне каждая минута, проведенная вдали от нее, для меня равносильна смерти. Не удивляйся, что та самая смерть, которую я еще недавно превозносил, перестала мне казаться привлекательной. А почему бы тебе и не удивляться? Откуда мне знать? Да я и не собираюсь тебе ничего объяснять. Зачем? Только прошу тебя сейчас, дай мне какой-нибудь простой совет, без чванства и спеси! Посоветуй, как мне быть! Ведь я в ужасном положении. Если я хоть на миг потеряю из виду эту девушку, вся моя жизнь до самой смерти уйдет на то, чтобы отыскать ее вновь, и длиться это будет недолго… Боже, какой я вздор говорю! Но это сущая правда. Представь, если я больше никогда не увижу ее! Ничего страшней этого я не могу себе вообразить. Но, с другой стороны, такое развитие событий кажется самым логичным. Подумай, вот я сейчас уже не могу вспомнить ее лицо. Но уверен, что в глубине моей памяти с давно забытых времен хранится ее четкий, словно высеченный в камне образ. Если даже в этой толпе я закрою глаза, неведомая сила все равно непременно приведет меня к ней.
Произнеся свой болезненный монолог, Омер на самом деле закрыл глаза и сделал несколько шагов вперед. Левой рукой он все еще сжимал запястье Нихата. Пальцы его дрожали, как у человека в лихорадке, и Нихат с опаской посмотрел на него. Хоть он и привык ко всякого рода сумасбродным выходкам приятеля, но такое сильное волнение все же насторожило его.
– Что ты за странный человек, Омер!
Влажная ладонь Омера еще крепче сжала его кисть.
– Смотри, смотри! Она все еще здесь! Ты что, не видишь?
Нихат повернул голову и увидел на одной из опустевших скамеек черноволосую девушку. Рядом сидела пожилая полная дама; они о чем-то беседовали. У девушки в одной руке была толстая папка с нотами, которую она другой рукой прижимала к себе. Она время от времени изящно кивала, и при этом вьющиеся волосы струились вокруг изящной шеи. В глаза бросались строгие очертания ее подбородка, которые свидетельствовали о сильной воле. На таком расстоянии трудно было разобрать, о чем они беседуют, однако девушка то умолкала с видом человека, окончательно вынесшего свое суждение, то снова произносила несколько фраз, словно сообщала об окончательно принятом решении. Взгляд ее был строг и прям. Все в ней дышало простотой. Время от времени ее бледная рука с тонкими пальцами поднималась, а затем опускалась на обитую клеенкой скамью. Ногти на пальцах были аккуратно и коротко острижены. Оглядев девушку с ног до головы, Нихат перевел глаза на приятеля, словно спрашивая его: «Ну чего ты в ней нашел?»
Но Омер глухим, точно со сна, голосом пробормотал:
– Ничего не говори! У тебя на лице написано, что ты намерен сказать какую-то глупость. Но я принял решение. Сейчас подойду к ней, возьму ее под руку и…
Он умолк, на мгновенье задумался и продолжил:
– …и, наверное, что-нибудь скажу ей. А может, она первая заговорит. Уверен, она меня сразу признает и скрыть этого не сможет. По-другому и быть не может. Хочешь, пойдем вместе, встань рядом и послушай, о чем мы будем говорить. Разговор с девушкой, которую я знал еще до сотворения мира, не может быть заурядным!
Сказав это, он потянул Нихата за рукав. Но тот вырвался.
– Ты хочешь устроить позорную сцену прямо на пароходе?
– В смысле?
– Девушка сразу позовет полицию. И полиция, недолго думая, заберет тебя в участок. Ты что, думаешь, что у всех, как у тебя, голова глупостями набита?! Никак не научишься смотреть на себя и на окружающих как все нормальные люди? Вся твоя жизнь – сплошные мечты и планы, ты донкихотствуешь, гоняясь за выдуманными призраками! Неужели, зная, как мир банален, ты будешь всю жизнь ждать от себя и других только необычайного? Ты только что рассуждал о том, что в мире невозможно что-либо изменить, а сейчас собираешься совершить легкомысленный поступок, на который мало кто способен. Чем же ты отличаешься от любого безумца, Меджнуна[5] из книг, одержимого любовью? Не понимаю!
– Сейчас ты все увидишь! – ответил Омер с видом оскорбленного достоинства. – Людям с птичьими мозгами, вроде тебя, никогда не понять глубоких, таинственных жизненных связей. Жди меня здесь!
Он направился к девушке. Нихат отвернулся и, глядя в открытое море, начал ждать, когда та закричит и разразится скандал.
Омер медленно приближался к девушке, не сводя глаз с ее лица, но вдруг вздрогнул, будто очнувшись ото сна.
– Омер! – внезапно раздался женский голос. – Как поживаешь? Давно мы тебя не видели!
Омер перевел изумленный взгляд на пожилую спутницу девушки. Оказалось, что это была его дальняя родственница Эмине-ханым.
– Ну как же так, милый мой, ты уже давно смотришь сюда, я несколько раз вставала и садилась, думая, что ты подойдешь к нам, а ты все болтаешь и болтаешь. Пойдем, не то пароход увезет нас обратно.
Женщины поднялись. Омер растерялся и не знал, что сказать, но попытался оправдаться.
– Ей-богу, тетушка, сам не знаю, как это вышло. Занятия, работа – совершенно нет времени. Но вы ведь меня хорошо знаете и не станете из-за этого обижаться.
Тетушка Эмине рассмеялась:
– Да, не мне, дружок, на тебя обижаться! Ведь ты даже и родителям-то ни одного письмеца за год не удосужишься послать. Ладно! Раз мы встретились, давай рассказывай, что поделываешь.
– Все по-старому. Ничего нового, – сказал Омер, не отрывая глаз от спутницы тетушки Эмине.
Они дошли до моста и направились к Старому городу.
Скользнув взглядом по крупной шее тетушки, Омер неожиданно встретился глазами с девушкой, которая все это время шла молча рядом с ними. Он поймал на себе ее пристальный взгляд, словно она силилась что-то вспомнить, а затем отвернулась и продолжила смотреть перед собой. На щеках у нее дрожали тени от ресниц. Омер вопросительно посмотрел на тетушку, кивнув в сторону девушки.
Тетушка тут же вспомнила о благородных манерах жителя столицы, которыми любят щеголять долго живущие в Стамбуле выходцы из Анатолии.
– Ах да! Я ведь вас не познакомила! Да ведь вы же знакомы. Посмотрим, вспомнишь ли ты Маджиде. Она ведь внучка дяди твоей матери. Правда, когда ты уехал из Балыкесира, она была еще во-о-т такая. Маджиде живет у нас уже полгода. Играет на рояле, в школу специальную ходит.
Омер повернулся к Маджиде и посмотрел на нее. Она протянула ему руку.
– Я учусь в консерватории, – сказала она и сразу же отвела взгляд.
Омер попытался припомнить из всех своих родственников, живущих в Стамбуле, Балыкесире и многих других городах, дядю своей матери и его внучку.
Взгляд его снова упал на тетушку Эмине, и он заметил, что та чем-то обеспокоена. Он вопросительно взглянул на нее, и та сделала ему знаки, которые означали: «При ней нельзя об этом говорить!»
Заинтересованный, он нагнулся к тете, и пожилая женщина тихонько сказала:
– Молчи. Не спрашивай, что с нами случилось! Зайдешь – расскажу.
Она многозначительно посмотрела на него, указывая на девушку, и в ее глазах читалась тревога и сострадание. Потом она тихо сказала:
– Бедняжка еще ничего не знает. Никак не решусь ей сказать. Неделю назад у нее умер отец. Прямо не знаю, как быть.
Омер вдруг почувствовал, как в нем шевельнулось что-то похожее на радость, но уже в следующую минуту ему стало стыдно. Он тут же подумал о том, как нехорошо радоваться смерти ее отца только потому, что это несчастье может сыграть ему на руку. Но в каждом из нас всегда две сущности: рядом с честным человеком всегда стоит корыстолюбец, которому нет никакого дела до морали, который всегда стремится извлечь выгоду в любом деле и дать свою оценку событиям и при этом всегда одерживает над нами верх.
Тетушка восприняла его задумчивость по-своему – как признак искренней скорби по поводу смерти родственника.
– Зайди к нам на днях, – снова тихо сказала она. – Я все тебе расскажу. Долгая история…
Они подошли к трамвайной остановке на Эминёню. Здесь тетя Эмине и Маджиде распрощались с Омером. Молодой человек некоторое время смотрел им вслед, отчего-то надеясь, что девушка обернется.
Но она не оглянулась; тонкая и стройная, она так легко ступала в своих туфельках на низком каблуке, что, казалось, плыла над мостовой. Потом вскочила на подножку трамвая и подала руку тете Эмине.
Омер все еще следил за ней глазами, когда чья-то тяжелая рука неожиданно ударила его по плечу. Он подскочил. Позади него стоял Нихат и с грозным видом ждал объяснений.
– Что же ты за человек? Когда ты подошел к ним на пароходе, я отвернулся, только б не быть свидетелем позорной сцены. Через некоторое время глянул, а вас уже и нет нигде. Потом увидел, как вы душевно беседуете на мосту, пошел за вами. Значит, девчонка оказалась из тех?.. А старуха на вид действительно профессионалка.
Омер засмеялся:
– Ты о другом и думать не можешь! Твоя блаженная башка не успокоится, пока не придумает всему понятное и знакомое объяснение. «Он не знаком с этой женщиной, подошел к ней, заговорил. Она не позвала полицию, значит, она из «таких»!» Вот и все! Никакого другого объяснения просто быть не может! Никаких необычайных вещей в жизни не случается. Всегда все одно и то же. Вот и все!
Он постучал Нихату по лбу.
– Я предпочел бы вовсе не иметь мозгов, чем иметь этакие убогие. Нет никакого воображения!
– Хорошо, дорогой, но что же произошло? – возразил Нихат, не обращая внимания на его слова. – Она что, не успел ты к ней подойти, сразу воскликнула: «Ах, откуда ты взялся, мой суженый, предназначенный мне в мужья еще до сотворения мира!» – и сразу бросилась тебе на шею? Даже если я и поверил бы в такое, то я ни за что не поверю, чтобы эта толстая тетка могла спокойно отнестись к вашему мистическому знакомству.
– Оказывается, мы родственники, друг мой! – сказал Омер таким тоном, будто сообщил величайшую тайну. – Я смотрел только на девушку, а вокруг ничего и никого не замечал. А рядом с ней сидела наша знаменитая тетушка Эмине. Девушка – ее близкая родственница, Маджиде-ханым. Она учится в консерватории. Неделю назад у нее умер отец, но она еще не знает об этом.
Нихат покачал головой:
– Да наделит Аллах живых здоровьем! – Потом бросил насмешливый взгляд на Омера.
– Значит, это и есть твое метафизическое, необъяснимое знакомство? Сынок, чем больше стараешься ты обнаружить в жизни сверхъестественные явления, тем все более обыденные ответы дает тебе жизнь. Боюсь, так будет продолжаться до конца дней твоих, и ты уйдешь в лучший мир, так и не совершив ничего, что осталось бы после тебя в этом мире. Умираю от смеха! Выходит, девушка, с которой ты познакомился еще до сотворения вселенной, оказалась твоей родственницей. Вы наверняка в детстве вместе играли. В каком-нибудь уголке твоей памяти просто сохранилось воспоминание о ней. Но у тебя мозги всегда в лихорадке, и поэтому все немедленно окуталось пеленой необычайной таинственности. Н-да, с тобой смех, да и только!
Омер кивнул.
– Действительно, наше знакомство оказалось самым простым, но чувства мои к ней именно такие, о каких я говорил. Я уверен, нас с ней связывает нечто, не зависящее ни от моей, ни от ее воли. Увидишь, как часто я буду теперь бывать у тетушки Эмине!
Нихат расхохотался.
– И это необычное знакомство завершится взаимной любовью двух родственников, верно? А ты прославишься как единственный в мире молодой человек, соблазнивший собственную кузину. Ну что ж, дай Аллах счастья!
Омер не ответил. Разговор перешел на другие темы: приятели принялись обсуждать, где выпить вечером, и направились в сторону Беязида.
III
Нельзя сказать, чтобы Маджиде не замечала, как странно с ней начали обращаться последние несколько дней в доме у тетушки Эмине. Еще она предчувствовала, что это не к добру. Но кого бы она ни спросила об этом, неизменно слышала в ответ: «Что ты, родная! Нечего нам скрывать! Напрасно беспокоишься».
Тетушка Эмине несколько раз подходила к ней с таким видом, будто собиралась сообщить нечто важное, но говорила какую-нибудь чепуху и тут же исчезала.
С ее дочерью Семихой у Маджиде не сложились отношения. Точнее говоря, это Семиха держалась с Маджиде холодно, чтобы не уронить собственного достоинства, полагая, что Маджиде слишком много воображает о себе.
Дядя Галиб, который приходил домой из своей лавки на Яг-искелеси[6] поздно и очень усталый, вообще много лет назад утратил привычку обсуждать что-либо с домашними. Едва поужинав, он брал газету и принимался терпеливо разбирать по складам слова и фразы, набранные крупной латиницей, благодаря введению которой он, совсем недавно неграмотный человек, научился читать и писать.
От Нури, сына тетушки Эмине, тоже ничего добиться было невозможно, поскольку он учился на последнем курсе унтер-офицерской школы и появлялся дома раз в неделю, а то и реже.
Маджиде жила у тетушки более полугода, но у нее до сих пор ни с кем так и не установились близкие отношения, и поэтому особенно настойчиво расспрашивать ей было неудобно. Собственно говоря, дом тетушки Эмине мало отличался для нее от обычного пансиона. Утром, взяв ноты, она уходила в консерваторию, возвращалась под вечер еще до наступления темноты и запиралась у себя в комнате. Именно эта замкнутость Маджиде и раздражала Семиху больше всего. А тетушка Эмине жила в своем мире, со своими интересами и подругами, и поэтому не обращала особого внимания на племянницу. Перед гостями, приходившими обычно днем, в отсутствие девушки, тетушка хвасталась ею как «большим знатоком музыки», словно Маджиде была не музыкантом, а каким-то героем войны. Однако девушка никогда не участвовала в музыкальных вечеринках с игрой на сазе[7], которые нередко устраивала дома тетушка Эмине, собирая на вечер в традиционном турецком стиле и мужчин, и женщин, так что тетушка вскоре первая усомнилась в музыкальных способностях племянницы. Маджиде упорно отказывалась показать и продемонстрировать гостям свои знаменитые музыкальные способности.
Дела дяди Галиба в лавке на Масляной пристани в последние годы шли неважно, но в доме старались не подавать виду, что с деньгами стало туго, и по-прежнему радушно принимали родственников и друзей из провинции, гостивших иногда по нескольку месяцев, и поэтому все с нетерпением ожидали ежемесячного перевода в сорок или пятьдесят лир от отца Маджиде.
Даже дядя Галиб смотрел на племянницу лишь как на источник этих ежемесячных денежных поступлений, хотя несколько десятков лир не могли исправить ситуацию для дома, где привыкли жить на широкую ногу. Дядя Галиб с каждым днем все больше запутывался в долгах, изо всех сил стараясь выпутаться из них традиционными методами торговли.
Он торговал маслом уже тридцать лет, и прежде ему это удавалось, поэтому он не терял надежды. Однако ни в нем не осталось былой страсти к риску и переменам, ни на рынке уже не было торговцев, похожих на него. Рынок, особенно торговля мылом и оливковым маслом, теперь был в руках ловких, оборотливых и богатых молодых дельцов. Те, кто не мог выдержать конкуренции с ними, были вытеснены из торговли, и эта борьба за существование, которая продолжалась уже лет десять, обошлась Галибу-эфенди[8] в потерю нескольких участков земли, нескольких сотен оливковых деревьев, а также двух из трех некогда принадлежавших ему домов, стоявших рядом в одном из переулков квартала Шехзадебаши, – и в оставшемся доме он жил сейчас с семьей.
В последнее время некоторая часть жемчугов и ожерелий из приданого самой тетушки Эмине тоже отправилась на Сандал Бедестани[9]. Всякий раз, когда при ней заходила речь о том, что дела идут все хуже и хуже, тетя Эмине неизменно разражалась слезами, а когда же приходилось отдавать на продажу что-то из ее многочисленных драгоценностей, привередливая дама укладывалась в постель с несносной мигренью, длившейся, правда, от силы двадцать четыре часа, но при первом же удобном случае она вновь собирала у себя дома своих острых на язычок стамбульских подружек и устраивала вечеринки с музыкой и плясками.
Ее приятельницы, которые в лучшие времена вместе со всеми своими чадами и домочадцами кормились от щедрот Эмине, сейчас испытывали противоречивые и сложные чувства: хотя они и видели, что семье сейчас приходится несладко, однако считали неправильным и бесчеловечным покинуть своих покровителей, когда те оказались в затруднительном положении, а кроме того, они прекрасно знали, что в этом доме отнюдь не все источники иссякли, и пока не будут съедены последние крохи, им очень не хотелось искать другое место, чтобы так же удобно устроиться.
Земляки из Балыкесира, которые время от времени наезжали в дом к дяде Галибу и тетушке Эмине и привыкшие бездельничать у себя в провинции, не видели ничего дурного в том, чтобы по нескольку месяцев пить, есть и развлекаться в Стамбуле за чужой счет, но эти наезды были подобны сокрушительным ударам молота для готового обрушиться семейного бюджета Галиба-эфенди.
Маджиде все видела, понимала, но не находила в этом ничего особенного. В доме ее отца в Балыкесире происходило то же самое. И там целыми днями только и говорили о денежных затруднениях, о плохом урожае, о том, что такие-то поля придется заложить, такие-то виноградники – продать. Ее мать, так же как тетя Эмине, падала с мигренью всякий раз, когда приходилось продавать хотя бы одну золотую монету из ее приданого, а отец, возвращаясь по вечерам домой, молча садился на колени, принимаясь перебирать четки, и погружался в нескончаемые расчеты.
Эти бесконечные сложности окружали Маджиде с детства, однако изумляло ее другое: неужели всем этим полям, виноградникам, домам, оливковым рощам, золотым ожерельям, драгоценностям действительно не будет конца?! Богатства, накопленные поколениями ее семьи, начали перемалываться на жерновах новых времен, но все никак не кончались. Долги брали и отдавали, поля засевали или продавали, невест выдавали замуж как и прежде, и во время свадеб родственники извлекали из тайников бриллиантовые серьги и жемчужные ожерелья.
В этой беспорядочной жизни, полной случайных стечений обстоятельств, Маджиде выросла и получила образование. По чистой случайности она не умерла от одной из многочисленных болезней, которыми переболели все члены семьи. Случайно ее не заперли дома после окончания начальной школы, а послали учиться дальше. Если бы ее отца не терзали бесконечные финансовые затруднения, он ни за что бы не послушал советы нескольких учителей и не отправил бы дочь учиться дальше, а выдал бы ее замуж, как и старшую, в пятнадцать лет.
Только во втором классе средней школы судьба Маджиде перестала всецело зависеть от случайностей.
Девочку отдали в школу только в девять лет, и когда она перешла в седьмой класс, ей минуло шестнадцать; она была уже совсем взрослой девушкой.
Одноклассницы сторонились дочери знатного человека, выглядевшей серьезной и независимой. Она занималась только уроками и была полностью предоставлена самой себе. Никто не интересовался ее успехами, и некому было направить ее на тот или иной путь. Мать изредка подходила к ней, но только для того, чтобы сказать, что такое-то платье – чрезмерно открытое, а вон то – слишком закрытое, ну а третье – смотрится очень уж тесным. Затем мать пожимала плечами, словно говоря: «Какое мне до тебя дело?!» – и уходила к себе. Почти все девушки ее круга посещали школу, так что мать не считала учебу чем-то предосудительным, но в то же время не скрывала от дочери, что предпочитает как можно скорее выдать ее замуж.
Отцовский дом, с его просторными жилыми комнатами и кладовыми на первом этаже, примыкавшими к мрачному, мощенному камнем внутреннему дворику, с огромной гостиной и большими комнатами на втором этаже, постепенно становился для Маджиде чужим. Все, о чем Маджиде слышала на уроках и читала в книгах, было далеко от устоявшейся, словно окаменевшей пятьдесят лет назад жизни в этом доме.
Совсем неуместными выглядели здесь ее книги, в беспорядке наваленные на полках в шкафу из орехового дерева с резными дверцами, ее платья и школьные передники, разбросанные по комнате. Девушка прочла один за другим множество романов, и большинство из них она отложила со странным чувством брезгливости, но тем не менее, хотя романы и рассказы не давали представления о добре и зле, книги показали ей иную, отличавшуюся от ее собственной жизнь, которая выглядела, в отличие от ее собственной жизни, настоящей.
Маджиде мало общалась с одноклассницами. Это было связано не только с тем, что она любила одиночество, но и с тем, что она просто не находила удовольствия в беседах с ними. Разговоры этих тринадцати-шестнадцатилетних школьниц заставили бы покраснеть и взрослого человека: они так подробно разбирали между собой достоинства и недостатки учившихся с ними мальчиков, что ни у кого не могло быть и сомнения в их осведомленности, хотя их выводы и были сплошь уничижительными. Маджиде не могла сдержать любопытства и с интересом прислушивалась к их словам, но потом, оставшись одна, испытывала непреодолимое отвращение и всякий раз принимала решение больше не подходить к одноклассницам.
В первое время к отвращению примешивалось и непонимание. Маджиде не понимала своих одноклассниц, все разговоры которых были всегда об одном и том же. Девочки собирались группами в школьном саду и, надув губки, судачили о том, что у Ахмеда губы толстые, у Мехмеда руки белые и нежные и что такой-то преподаватель слишком часто украдкой посматривает на одну из учениц, а преподавательница рукоделия никогда не найдет себе мужа. Маджиде эти разговоры казались бессмысленными.
Позже, когда она начала читать и книги пробудили в ней мечтательность и раскрыли перед ней иной мир, разговоры одноклассниц стали ей противны. Каждое их слово пачкало прекрасный мир, созданный воображением девушки, полный мечтаний о будущем. И хотя перед глазами Маджиде постоянно проходили живые картины будущего, она хранила свои сокровенные мечты в тайне, как драгоценность, и даже боялась часто предаваться им, чтобы не исказились прекрасные образы.
Как раз в то время, когда она училась в седьмом классе, одно приключение окончательно отдалило ее от одноклассниц. Вообще говоря, произошедшее родилось и выросло только в ее душе, так что это нельзя было назвать приключением, потому что она не выдала случившееся никому даже взглядом.
IV
Еще в начальной школе Маджиде обратила на себя внимание красивым голосом и способностями к музыке. В пятом классе уроки пения вел некто Неджати-бей, пожилой учитель, который преподавал почти во всех школах Балыкесира. Войдя в класс, он вынимал из футляра свой кларнет и принимался наигрывать заунывные школьные песни, давая детям возможность подпевать, кто как может.
Маджиде каким-то образом попалась на глаза этому горячему любителю искусства, который сам пытался сочинять песни на слова коллег-учителей – любителей изящной словесности, писавших такие корявые стишки, в которых смысл с трудом помещался в корявый размер и рифму, ну а музыка Неджати не превосходила их достоинствами. Много лет горя в душе страстью к музыке, с годами Неджати-бей опустился и обозлился на весь мир, угнетенный собственной бездарностью. В лице Маджиде Неджати-бей нашел себе важное занятие. Он получил разрешение ее отца и после школьных занятий начал водить Маджиде с еще двумя своими ученицами в Союз учителей, где учил их играть на старом разбитом фортепиано. Маджиде быстро делала успехи, что удивляло даже ее соучениц. На праздничном концерте по случаю окончания начальной школы она играла на фортепиано несколько пьес. Для новичка, занимавшегося всего восемь месяцев, она играла очень хорошо. Среди собравшихся в зале были родители, учителя и чиновники, из которых никто ничего не смыслил в музыке, но аплодировали ей восторженно и долго. В первом классе средней школы Маджиде продолжала эти занятия. Поскольку сам Неджати-бей не очень-то хорошо играл на пианино, то эти уроки, продолжавшиеся около двух лет, не превратили ученицу в педантичного музыканта, как это часто бывает, а были для нее работой, которая вела ее вперед.
Когда Маджиде перешла во второй класс средней школы, Неджати-бея перевели в другой город. За все каникулы у Маджиде почти не было возможности подойти к инструменту. Одной ходить в Союз учителей ей не хотелось, а если бы даже захотелось, то она знала, что это не одобрили бы ее домашние.
Когда начались занятия, в школу приехал новый преподаватель музыки. Молодого круглолицего человека звали Бедри, он был высоким, с черными, коротко остриженными волосами. На его лице все время блуждала рассеянная улыбка, и поэтому девушки с первого же дня стали подсмеиваться над ним.
Вначале Бедри крепко сердился на них. На уроках он то и дело заливался краской, по нескольку минут молчал и кусал губы. Затем на лице его вновь появлялась прежняя блуждающая улыбка, и он, поглядывая на своих учеников, продолжал свои объяснения и садился за фортепиано.
Большой и всегда холодный музыкальный класс был удобным местом для ученических проказ. Мальчишки позволяли себе здесь самые неприличные жесты, а девчонки беспрестанно шушукались, прикрыв рот платочками, и то и дело хихикали.
– Прошу вас вести себя достойно! – требовал молодой учитель, который был не способен на большую строгость и пытался заглушить шум в классе, изо всех сил колотя по клавишам или же заставляя учеников спеть что-нибудь хором. Иногда за стеклянной дверью класса показывался директор школы Рефик-бей, окидывал презрительным взглядом растяпу-преподавателя и, нахмурившись, одним взглядом успокаивал учеников, которые отвечали ему заискивающими улыбками.
Постепенно Бедри привык. Большинство учеников были такими избалованными и плохо воспитанными, что их невозможно было урезонить ни окриками, ни просьбами. Только на уроках истории и турецкого языка бывало тихо, так как историк мог нещадно отвесить оплеуху, а преподаватель турецкого имел пристрастие к плохим отметкам, за что и был прозван ребятами Нулем. Даже на уроках самого директора стоял гвалт. Когда Бедри узнал, что в других школах творится то же самое, он перестал обращать на шалости учеников внимание и стал заниматься только с теми учениками, которые интересовались музыкой, предоставляя всех прочих самим себе.
Маджиде оказалась среди интересующихся. Вначале она тихонько сидела в углу, и Бедри заметил ее не сразу, но вскоре все внимание Бедри сосредоточилось на ней. Молодой преподаватель с волнением ученого, сделавшего необыкновенное открытие, принялся рассказывать коллегам и директору о незаурядных способностях девушки, пытаясь убедить их в том, что с ней необходимо усиленно заниматься. Его слушали с большим интересом и вниманием, но за спиной ухмылялись и многозначительно переглядывались.
Что же касается Маджиде, то она по привычке, сохранившейся еще со времен занятий с Неджати-беем, пожалуй, ни разу не взглянула в лицо своему новому преподавателю. Когда они оставались наедине, она смотрела только на ноты и на пальцы Бедри, а еще изредка погружалась в неясные мечтания. Темы их бесед никогда не выходили за пределы того музыкального произведения, над которым они работали. Оба они, как все люди, привязанные к искусству, сознательно или бессознательно увлеченные искусством, были слепы ко всему, что его не касалось. Эта простодушная невнимательность к своим отношениям, которая воспринималась их окружением, а чаще ими самими, как беспечность, возможно, продолжалась бы еще долго, однако сам директор школы Рефик-бей не помог им взглянуть на самих себя другими глазами и не направил их мысли в сторону, весьма далекую от музыки.
Однажды вечером, когда школьники расходились по домам, Бедри сидел в учительской и писал письмо матери в Стамбул. Когда шаги детей в коридоре постепенно стихли, он быстро положил письмо в конверт, подписал и выбежал в коридор в поисках кого-то из учеников.
Бедри жил в здании школы, и так как ему не хотелось под вечер выходить на улицу, он намеревался попросить кого-то из учеников, кому будет по пути, отнести письмо на почту.
Он выглянул в школьный сад. Все уже ушли. Бедри вернулся к себе, уже надел было шапку, чтобы самому сходить на почту, как вдруг услышал, что из музыкального класса доносятся звуки фортепиано.
«Наверное, Маджиде еще здесь. Попрошу ее отправить», – подумал он и пошел туда. Когда он открыл дверь, Маджиде как раз закрыла крышку инструмента и взяла в руки сумку.
– Я немножко позанималась, учитель, – сказала она, направляясь к двери.
– Будешь проходить мимо почты, опусти письмо! – попросил Бедри.
Девушка положила конверт в сумку и, сделав реверанс, попрощалась с учителем.
– Не забудь про письмо!
– Не забуду, учитель!
Маджиде вышла в сад и быстро зашагала по песчаной дорожке, а Бедри в это время вернулся в учительскую и по пути встретил директора, который со странным выражением лица пронесся мимо него, выскочив из какого-то темного угла коридора, и выбежал в сад. Взволнованный вид Рефик-бея и то, что директор его даже не заметил, удивили Бедри, но он не стал над этим задумываться.
На следующий вечер у Бедри должен был быть урок с Маджиде. После последней перемены они занимались час. Однако когда он вошел в класс, там сидели еще и остальные шесть учеников, с которыми он занимался дополнительно.
– Сегодня не ваш день. Зачем же вы остались? – спросил Бедри, в душе довольный тем, что ученики так интересуются музыкой.
Девушки многозначительно переглянулись. А Маджиде, сидевшая ближе всех к Бедри, покраснела и опустила голову.
– Директор приказал теперь всем заниматься вместе, – сказал один из мальчиков.
Бедри поначалу не сразу понял, что он имеет в виду, а затем недоуменно пожал плечами, раскрыл ноты и принялся слушать Маджиде и еще двух учеников, а другим сказал:
– Остальные завтра вечером!
Отпустив детей, Бедри решил пойти к директору – выяснить, чем вызвано новое распоряжение.
Не найдя директора в кабинете, Бедри вернулся к себе, оделся и вышел немного погулять.
Шагах в десяти впереди шли его ученики, с которыми только что занимался. Бедри догнал их. Некоторое время они шли вместе. Школьники, вопреки обыкновению, были в тот вечер какие-то молчаливые.
– Вам, конечно, всем полезно присутствовать на уроках, – сказал Бедри, – но при условии, что вы будете внимательно слушать и никому своей болтовней не станете мешать.
Ученики продолжали молчать. Надо было что-то сказать, и Бедри спросил Маджиде:
– Ты не забыла вчера про письмо?
Девушка залилась краской. Она страшно смутилась. Остальные опустили головы: кое-кто тоже покраснел, другие кусали губы, чтобы не рассмеяться.
– Ваше письмо забрал господин директор, учитель, – пробормотала Маджиде.
Бедри даже остановился от неожиданности.
– С какой стати?
– Не знаю, учитель! Я вчера еще не успела выйти в сад, как он догнал меня. Он потребовал, чтобы я отдала ему письмо, которое вы только что мне вручили. Когда я давала ему конверт, он спросил: «Что в письме?» – «Не знаю, говорю, Бедри-бей просил отнести его на почту». Тогда он прочел адрес и сказал: «Хорошо, хорошо. Ступай и больше не берись носить письма на почту». А ваше письмо он отправил на почту с Энвером из третьего класса.
Бедри не произнес ни слова, тем временем они дошли до рыночной площади.
Там он распрощался с учениками, а затем пошел в кофейню, где обычно собирались учителя.
Казалось, уже все его коллеги были здесь. Кто-то играл в карты, кто-то – в кости, а кто-то просто наблюдал за игрой и давал советы игрокам.
В дальнем углу Бедри увидел директора, тасовавшего колоду карт. Тот сидел, поджав под себя одну ногу, рядом на стуле лежала шляпа. Время от времени левой рукой он почесывал лысину, потом снова принимался за карты. Заметив Бедри издалека, поначалу он сделал вид, что не замечает его, но как только увидел, что тот направляется к его столику, повернулся к нему:
– Прошу вас, дружок! Садитесь вот сюда! Что будете пить?
– Благодарю, ничего! – ответил Бедри. – Мне необходимо с вами переговорить прямо сейчас!
Другие преподаватели недовольно покосились на Бедри, который редко заходил в кофейню.
– Я к вашим услугам, друг мой! Только позвольте, вот закончу партию. У вас срочное дело? Ну хорошо!.. – Он повернулся к одному из наблюдавших за игрой:
– Сыграй-ка один кон за меня. Только смотри в оба, а то я уже третий раз ставлю.
Он встал. Они отошли в укромное место.
Бедри поначалу не знал, с чего начать разговор. Но директор опередил его:
– Вы, наверное, хотите поговорить об этом письме? Я ждал вас с самого утра, но так как вы не пришли, я подумал, что вы сами осознали свою ошибку. Друг мой, вы много ездили по свету, много повидали, но у нас здесь опыт свой. В таких маленьких городках, как наш, необходимо обдумывать каждый свой шаг, тут тебя ославят, и все! Здесь не Германия. Вы ведь бывали в Германии, да?
– Нет, в Вене.
– Ладно, это одно и то же. В общем, здесь не Европа. Правда, мы хотим походить на Европу, но все делается постепенно. Помаленьку, полегоньку…
Бедри резким движением руки оборвал директора.
– Зачем вы все это мне говорите? – спросил он. И, помолчав, добавил: – Почему вы взяли письмо? И почему не вернули его, когда прочли адрес, а отправили с другим учеником?
Он чувствовал, что пришел сюда серьезно поссориться с директором, и чувствовал, что момент ссоры приближается.
Директор положил руку ему на плечо и лицемерно дружеским тоном произнес:
– Для того, чтобы выручить вас! Чтобы спасти вас от сплетен, которые тотчас поползли бы по всему городу!
От гнева у Бедри задрожал голос:
– Вы что, за дурака меня принимаете, что ли? Кроме вас, никто и не видел, что я послал эту девушку с письмом на почту! А если даже кто-то и видел, то не думаю, что кому-то, кроме вас, придет в голову такая пакость!
Он вскочил. Лицо его побледнело.
– Мне ужасно противно даже говорить с вами, не то что давать какие-либо объяснения. Придумать и поверить в такую гнусную клевету!..
Директор потянул его за рукав, усадил и заговорил все тем же делано спокойным и искренним тоном:
– Вы, наверное, правы, что так возмущаетесь. Но, будьте уверены, я в своем положении только исполнил свой долг. Будьте спокойны: я ни на минуту не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, однако я должен всегда помнить о том, что здешняя публика такова, что большинство окружающих может усмотреть в вашем поведении дурной умысел.
– Вы опозорили меня перед учениками!
– Если бы я не сделал этого, вы были бы еще больше опозорены!
– Как я буду теперь смотреть им в глаза?!
– Ну что вы, друг мой, это обычная история! Не стоит так расстраиваться. Достаточно впредь быть более осмотрительным!
Директор встал. Партия, за которой он все это время следил краем глаза, окончилась. Приятель, который сел играть вместо него, проиграл. Желая поскорей закончить разговор, Рефик-бей сказал:
– Завтра в школе мы поговорим подробно. Со временем вы сами признаете, что я был прав.
– Да, – добавил он, сделав вид, что только об этом вспомнил, – я счел неуместными ваши занятия с ученицами по отдельности. До меня дошли всякие разговоры. А мы известная, уважаемая школа! Тем более смешанная! Не стоит злоупотреблять доверием родителей! Всех благ!
Рефик-бей развернулся и вновь сел за свой стол, его товарищи вопросительно смотрели на него.
– Ничего, – ответил он. – Он, наверное, думает, что все кругом идиоты! Мы еще и не таких видали! Подпусти только таких волков к стаду молоденьких девушек! Надо же иногда давать им понять, что мы не слепые.
Директор стал тасовать карты.
– Ну-ка, теперь-то я вам покажу! – сказал он и, сдавая карты, проворчал: – Сколько лет я директором работаю и ни разу не допускал в своей школе ничего подобного. Неужели мне теперь нужны неприятности из-за этого хлюста?
Бедри все еще стоял в своем углу. Скандал, к которому он так готовился, пока шел в кофейню, все резкие слова и грубые выражения, даже оскорбления, приготовленные им по дороге сюда, пропали. Было бесполезно защищаться, было бесполезно даже ругать такого человека, который воспринимал низость, о какой было стыдно даже думать, как нечто само собой разумеющееся. Бедри мгновенно понял, что каждое его слово, каждое его возражение получит совершенно пустой ответ. Осознание невозможности защищаться перед людьми, которые не допускали даже мысли о том, что можно быть искренним, честным и правдивым, а были убеждены, что всеми движут лишь низкие побуждения, связало его по рукам и ногам. С грустным видом он вышел из кофейни и вернулся в школу, ему не хотелось ничего – даже прикасаться к инструменту. Он порылся в своем чемодане, вынул первую попавшуюся книгу и постарался углубиться в чтение.