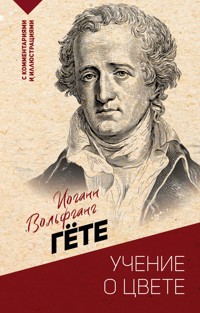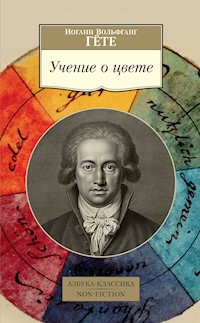Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XSPO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Золотая коллекция иллюстрированной литературы
- Sprache: Russisch
Перед вами иллюстрированное издание трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» в классическом переводе Афанасия Фета. Этот перевод, над которым поэт работал более двадцати лет, сочетает точность и поэтичность, передает ритм и глубину оригинала — от лирических песен Гретхен до космических видений Пролога на небесах, от грубоватого юмора студенческих сцен до возвышенной мистики финала. Фет стремился не просто передать смысл гётевских строк, но воссоздать музыку немецкого стиха, его философскую насыщенность и внутреннюю мелодику. История ученого, заключившего договор с дьяволом, превращена Гёте в философскую драму о стремлении человека к недостижимому, о границах познания и цене прогресса. Мефистофель — не только искуситель, но и воплощение скепсиса, чьи действия парадоксально приводят к благу. Любовь Фауста и Маргариты стала одной из вершин мировой литературы. Издание сопровождают литографии Эжена Делакруа 1827 года, отличающиеся мощной драматургией и выразительной композицией. В приложение включены старинные гравюры XV–XVII веков Мартина Шонгауэра, Маттиаса Герунга, Себальда Бехама, Яна Саенредама и других мастеров, отражающие визуальную культуру Позднего Средневековья и Реформации.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Автор: Иоганн Вольфганг фон Гёте
Серия: Золотая коллекция иллюстрированной литературы
Издательство: XSPO
Аннотация
Перед вами иллюстрированное издание трагедии Иоганна Вольфганга Гёте «Фауст» в классическом переводе Афанасия Фета.
Этот перевод, над которым поэт работал более двадцати лет, сочетает точность и поэтичность, передает ритм и глубину оригинала — от лирических песен Гретхен до космических видений Пролога на небесах, от грубоватого юмора студенческих сцен до возвышенной мистики финала. Фет стремился не просто передать смысл гётевских строк, но воссоздать музыку немецкого стиха, его философскую насыщенность и внутреннюю мелодику.
История ученого, заключившего договор с дьяволом, превращена Гёте в философскую драму о стремлении человека к недостижимому, о границах познания и цене прогресса. Мефистофель — не только искуситель, но и воплощение скепсиса, чьи действия парадоксально приводят к благу. Любовь Фауста и Маргариты стала одной из вершин мировой литературы.
Издание сопровождают литографии Эжена Делакруа 1827 года, отличающиеся мощной драматургией и выразительной композицией. В приложение включены старинные гравюры XV–XVII веков Мартина Шонгауэра, Маттиаса Герунга, Себальда Бехама, Яна Саенредама и других мастеров, отражающие визуальную культуру Позднего Средневековья и Реформации.
И.В. Гёте
ФАУСТ
Трагедия
Иоганн Вольфганг фон Гёте
(1749–1832)
Предисловие к переводу «Фауста» Афанасия Фета
«Фауст» Иоганна Вольфганга Гёте принадлежит к тем редким созданиям человеческого духа, которые превосходят границы национальной литературы и становятся достоянием всего культурного человечества. Эта поэма — итог шестидесятилетней работы великого веймарского поэта, вместившая в себя философский и художественный опыт целой эпохи, от штюрмерского бунтарства молодости до классической мудрости старости. Гёте начал работу над «Фаустом» в начале 1770-х годов, когда ему не было и двадцати пяти лет, а завершил за несколько месяцев до смерти в 1831 году, будучи восьмидесятидвухлетним старцем. Немногие произведения мировой литературы могут сравниться с «Фаустом» по масштабу замысла, глубине философского содержания и богатству поэтических форм.
Портрет И.В. Гёте работы Й.К. Штилера, 1828
Иоганн Вольфганг Гёте в последние годы работы над «Фаустом». Художник Йозеф Карл Штилер запечатлел поэта в возрасте семидесяти девяти лет, когда он завершал вторую часть своего главного произведения.
Легенда о докторе Фаусте возникла в Германии в XVI столетии и быстро распространилась по всей Европе. За литературным образом стоял реальный исторический персонаж — Георг Фауст, живший приблизительно с 1480 по 1540 год, странствующий маг, алхимик и астролог, вызывавший у современников смесь восхищения и ужаса. После его смерти молва приписала ему сношения с дьяволом, и уже через несколько десятилетий появилась первая «Народная книга о докторе Фаусте», изданная во Франкфурте-на-Майне книгопродавцем Иоганном Шписом в 1587 году. Эта книга представляла собой типичный образец назидательной литературы позднего Средневековья: Фауст изображался грешником, который из гордыни и жажды запретного знания заключил договор с Мефистофелем и в конце концов был унесен в ад на вечные муки. Народная книга предостерегала читателей от гордыни, любопытства и стремления превзойти границы, положенные человеку Богом.
Гете, Иоганн Вольфганг. 1749-1832. Фауст : Трагедия. Ч. 1-2 / Пер. А. А. Фета; С рис. Э. Зейбертца. Санкт-Петербург. 1899 г.
Уже в конце XVI века английский драматург Кристофер Марло создал трагедию «Трагическая история доктора Фауста», где впервые фигура мага приобрела подлинно трагическое измерение. В течение XVII и XVIII веков легенда о Фаусте жила преимущественно в народном театре, на ярмарочных подмостках, где представления о чернокнижнике сопровождались эффектными трюками и комическими интермедиями. Молодой Гёте видел такие представления и был потрясен заложенным в легенде потенциалом. Он увидел в Фаусте не грешника, заслуживающего осуждения, но воплощение вечного человеческого стремления к познанию, к преодолению ограниченности земного существования, к деятельности, преображающей мир.
Работа Гёте над «Фаустом» прошла несколько этапов. В 1770-е годы был создан так называемый «Прафауст» — ранняя редакция первой части, написанная в духе движения «Буря и натиск». Этот текст не был опубликован при жизни Гёте и стал известен лишь в конце XIX века. В 1790 году Гёте опубликовал «Фауста. Фрагмент», включавший основные сцены будущей первой части. Полный текст первой части вышел в свет в 1808 году и сразу был признан шедевром немецкой литературы. История Фауста и Гретхен, простой девушки, соблазненной и погубленной Фаустом, потрясла современников психологической глубиной и трагической силой. Здесь Гёте достиг вершин драматургического искусства, создав галерею незабываемых образов и сцен — от кабинета ученого и погребка Ауэрбаха до Вальпургиевой ночи и тюремной сцены.
Эжен Делакруа. «Фауст в своем кабинете», литография из серии к «Фаусту», 1828
Французский художник-романтик Эжен Делакруа создал серию из семнадцати литографий к первой части «Фауста». Эти работы, выполненные в 1825-1827 годах, принадлежат к вершинам романтического искусства и оказали огромное влияние на восприятие образов Гёте.
Вторая часть «Фауста» создавалась в течение многих десятилетий и была завершена Гёте незадолго до смерти. Поэт распорядился, чтобы эта часть была опубликована только после его кончины, понимая, что современники вряд ли смогут по достоинству оценить столь сложное и символическое произведение. Действительно, вторая часть представляет собой грандиозную философскую поэму, где реалистические сцены чередуются с аллегориями и символами, где действие переносится из современности в античность, где Фауст становится государственным деятелем, возлюбленным Елены Прекрасной, преобразователем природы. Здесь Гёте размышляет о судьбах европейской культуры, о взаимоотношении античности и современности, о природе красоты, о смысле человеческой деятельности, о возможности спасения для неустанно стремящейся души.
Композиция «Фауста» отличается исключительной сложностью. Поэма открывается тремя вступлениями: «Посвящением», где Гёте обращается к теням юности, когда был задуман «Фауст»; «Прологом на театре», представляющим беседу директора театра, поэта и комического актера о природе драматического искусства; и наконец «Прологом на небе», где Господь и Мефистофель заключают пари относительно судьбы Фауста. Эти три пролога задают различные уровни восприятия произведения — лирический, эстетический и метафизический. Затем следует собственно драматическое действие, разворачивающееся в двух частях, резко отличающихся по характеру и стилю.
Первая часть сосредоточена на личной судьбе Фауста. Она начинается монологом постаревшего ученого, который, несмотря на глубокие познания во всех науках, чувствует полную неудовлетворенность жизнью и готов к самоубийству. Появление Мефистофеля открывает перед Фаустом возможность новой жизни. Заключается знаменитый договор: Мефистофель обязуется служить Фаусту на земле, а Фауст отдаст ему свою душу в тот миг, когда скажет мгновению: «Остановись, ты прекрасно!» Омоложенный волшебным зельем, Фауст встречает юную Маргариту, и разворачивается трагедия любви, приводящая к гибели матери, брата и ребенка Маргариты, к безумию и смерти самой героини. Однако в финале первой части звучит голос свыше, возвещающий: «Спасена!» — душа Гретхен принимается в царство небесное.
Петер Корнелиус. «Фауст и Маргарита в саду», рисунок, 1816
Немецкий художник-назарей Петер фон Корнелиус создал цикл рисунков к «Фаусту», отличающихся строгой классической композицией и глубоким проникновением в дух поэмы Гёте.
Вторая часть переносит действие в совершенно иную плоскость. Фауст появляется при дворе императора, где с помощью магии Мефистофеля создает бумажные деньги и устраивает фантастические празднества. Затем он отправляется в царство античности, где соединяется с воскрешенной Еленой Прекрасной. Их сын Эвфорион (в котором современники узнали черты лорда Байрона) воплощает синтез античного и романтического начал, но гибнет, пытаясь взлететь к небу. В финале Фауст, ослепший и находящийся на пороге смерти, руководит грандиозными работами по осушению морских болот и созданию земли для свободного народа. В этой деятельности на благо человечества он находит высший смысл существования. Мефистофель пытается завладеть душой умершего Фауста, но ангелы похищают ее, и в заключительной мистической сцене душа Фауста, ведомая душой Гретхен, возносится в высшие сферы.
Философское содержание «Фауста» неисчерпаемо. Гёте вложил в эту поэму размышления о природе человека, о соотношении добра и зла, о смысле познания, о месте красоты в человеческой жизни, о значении деятельности и творчества. Центральная идея поэмы выражена в прологе на небе словами Господа о Фаусте: «Кто ищет, вынужден блуждать», и в финале, где ангелы возглашают: «Кто неустанно бился, стремясь, того мы можем спасти». Вечное стремление, неудовлетворенность достигнутым, жажда познания и деятельности — вот что, согласно Гёте, оправдывает человека, несмотря на все его заблуждения и грехи.
Михаил Врубель. «Полет Фауста и Мефистофеля», 1896
Русский художник М.А. Врубель создал ряд произведений, вдохновленных «Фаустом» Гёте. Его интерпретация отличается мистическим символизмом и глубоким психологизмом.
Образ Мефистофеля в поэме Гёте разительно отличается от традиционного дьявола средневековой литературы. Мефистофель у Гёте — это дух отрицания и скепсиса, воплощение иронии и сарказма, но отнюдь не абсолютное зло. Он сам характеризует себя как «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Мефистофель остроумен, проницателен, обладает глубоким знанием человеческой природы. Его отношения с Фаустом строятся не на простом подчинении, но на своеобразном товариществе двух умных и циничных людей. Мефистофель постоянно подвергает сомнению идеалы Фауста, но именно это сомнение и отрицание становится движущей силой, побуждающей Фауста к новым поискам и свершениям.
Значение «Фауста» для мировой культуры трудно переоценить. Эта поэма стала символом европейского духа Нового времени с его жаждой познания, стремлением к овладению природой, неудовлетворенностью настоящим и устремленностью в будущее. «Фаустовская культура» — этот термин, введенный Освальдом Шпенглером, обозначает целый тип цивилизации, для которого характерно стремление к бесконечному, к преодолению всех границ. Образ Фауста оказал влияние на бесчисленных писателей, композиторов, художников. Достаточно вспомнить оперы Гуно и Берлиоза, симфонию Листа, роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», где миф о Фаусте переосмыслен как трагедия немецкой культуры XX века.
Русская литература с самого начала проявила глубокий интерес к «Фаусту». Уже в 1820-е годы молодые литераторы «Общества любомудрия» изучали философию Шеллинга и увлекались Гёте. Владимир Одоевский писал о «Фаусте» как о величайшем произведении современности. Полемика вокруг «Фауста» разгорелась после публикации статей Белинского, который видел в поэме Гёте апофеоз человеческого духа, стремящегося к познанию истины. Тургенев посвятил «Фаусту» повесть с одноименным названием, где немецкая поэма становится катализатором душевной драмы героев. Достоевский неоднократно обращался к образам и идеям «Фауста» в своих романах.
[Портрет А.А. Фета работы Н.Н. Ге, 1882
Афанасий Афанасьевич Фет в возрасте шестидесяти двух лет, в период работы над переводом «Фауста». Художник Николай Ге, близкий друг поэта, запечатлел его в момент творческой зрелости.
Афанасий Афанасьевич Фет, один из величайших русских лириков XIX века, обратился к переводу «Фауста» в зрелые годы своей жизни. К этому времени он уже завершил переводы произведений Горация, части сочинений Овидия, Катулла, Вергилия, Ювенала. Работа над классиками античности подготовила Фета к решению труднейшей задачи — передаче на русском языке поэмы Гёте. Первый полный перевод «Фауста» Фет завершил в начале 1880-х годов, но продолжал совершенствовать его до конца жизни. Окончательный вариант увидел свет уже после смерти переводчика.
Перевод Фета отличается от всех предыдущих русских переводов «Фауста» прежде всего абсолютной верностью оригиналу и одновременно высокими поэтическими достоинствами. До Фета существовали переводы Эдуарда Губера, Николая Холодковского и других, но все они в той или иной степени жертвовали либо точностью, либо художественностью. Фет поставил перед собой задачу передать «Фауста» полностью, со всем разнообразием метров, стилей и оттенков значения, сохранив при этом поэтическую силу оригинала. Это был подвиг переводческого искусства, требовавший не только филологических знаний, но и поэтического гения.
Особая сложность перевода «Фауста» связана с чрезвычайным метрическим разнообразием оригинала. Гёте использует белый стих и рифмованный, ямбы и хореи различных размеров, книттельферс (старинный немецкий стих с парными рифмами) и терцины, античные метры и свободные ритмы. Каждая форма у Гёте имеет определенный смысл и создает особую атмосферу. Фет стремился сохранить это метрическое богатство, что требовало от него виртуозного владения русским стихосложением. В некоторых случаях ему приходилось находить русские эквиваленты для форм, не имеющих прямых аналогов в русской поэзии.
Язык перевода Фета отличается благородной архаичностью, которая соответствует высокому стилю оригинала. Фет не стремился к модернизации Гёте, не пытался приблизить его к современному читателю ценой упрощения или огрубления. Напротив, он сознательно использовал возможности русского литературного языка в его классическом варианте, обогащенном церковнославянизмами и поэтизмами. Этот язык может показаться трудным современному читателю, но он адекватно передает величие и сложность гётевской поэмы. Фет понимал, что «Фауст» — произведение не для легкого чтения, и его перевод требует от читателя такого же напряжения, как и оригинал.
Философская позиция Фета оказалась созвучна духу «Фауста». В своих лирических стихотворениях Фет постоянно обращался к темам вечного стремления души, невыразимости высших переживаний, взаимоотношений искусства и жизни. Его философские взгляды формировались под влиянием Шопенгауэра, и в его поэзии звучат мотивы томления по идеальному миру, который просвечивает сквозь покров материальной действительности. Эта близость философских интуиций помогла Фету глубоко проникнуть в смысл гётевской поэмы и передать не только букву, но и дух оригинала.
Работа Фета над «Фаустом» принадлежит к героическому периоду русской переводческой школы. В XIX веке русские поэты-переводчики — Жуковский, Тютчев, Фет, Майков — создали традицию художественного перевода, основанную на принципе творческого воссоздания оригинала на русском языке. Перевод понимался не как механическое перенесение текста с одного языка на другой, но как создание нового поэтического произведения, равноценного оригиналу по художественной силе. Фет был одним из главных теоретиков и практиков этого направления. Его переводы из античных поэтов и «Фауста» Гёте стали классическими образцами русского переводческого искусства.
Влияние «Фауста» в переводе Фета на русскую культуру было значительным. Этот перевод открыл русским читателям полный текст гётевской поэмы, включая трудную для понимания вторую часть. Благодаря Фету «Фауст» стал неотъемлемой частью русского культурного сознания. Символисты начала XX века — Блок, Белый, Иванов — глубоко изучали «Фауста» и испытали его воздействие. Образы Фауста и Мефистофеля, мотивы вечного стремления и искушения, тема спасения через любовь стали устойчивыми элементами русской литературы. Без знания «Фауста» невозможно понять многие произведения русской классики и модернизма.
Иллюстрация к сцене «Вальпургиева ночь», немецкая гравюра XIX века
Сцена Вальпургиевой ночи — шабаша ведьм на горе Броккен — принадлежит к самым фантастическим эпизодам первой части «Фауста». Эта сцена вдохновила многих художников и композиторов.
Современный читатель, открывающий «Фауста» в переводе Фета, должен быть готов к встрече с произведением исключительной сложности и глубины. «Фауст» не может быть прочитан за один присест; эта поэма требует медленного, вдумчивого чтения, возвращения к уже прочитанным страницам, размышления над смыслом образов и символов. Особенно это относится ко второй части, где Гёте достигает предельной концентрации философской мысли. Но усилия, затраченные на чтение «Фауста», окупаются сторицей: эта поэма открывает читателю целый мир идей и образов, обогащает его понимание человеческой природы и смысла существования.
Не следует искать в «Фаусте» однозначных ответов на философские вопросы. Гёте не был систематическим философом; его мысль развивалась в образах и символах, а не в абстрактных понятиях. Разные части поэмы могут показаться противоречащими друг другу, разные персонажи высказывают взаимоисключающие суждения. Это не недостаток, но особенность художественного мышления Гёте, который стремился не к логической последовательности, но к полноте охвата жизни во всей ее противоречивости. Читатель должен сам извлекать смысл из столкновения различных точек зрения, сам находить ответы на вопросы, которые ставит поэма.
Перевод Фета дает русскому читателю возможность приобщиться к одному из величайших созданий европейской культуры. Несмотря на трудности языка и сложность содержания, этот перевод остается наиболее точным и наиболее поэтичным из всех существующих русских переводов «Фауста». Позднейшие переводчики — Холодковский, Пастернак — создали свои варианты, обладающие собственными достоинствами, но перевод Фета сохраняет значение классического. В нем русский читатель найдет «Фауста» Гёте во всей его полноте и величии, переданного языком одного из крупнейших русских поэтов.
Эжен Делакруа. «Маргарита в церкви», 1828
Трагедия Иоганна Вольфганга Гете «Фауст» в переводе Афанасия Фета
Любезному племяннику Петру Ивановичу Борисову
Caudes carmininibus, carmina possumus
Donare et pretium dicere munen.1
Гораций
Спасибо, друг, — ты упросил
Меня приняться за работу.
Твой юный голос разбудил
Камену, впавшую в дремоту.
Опять стихи мои нашли
То, что годами было скрыто,
Все лето предо мною шли
Причудник Фауст и Маргарита.
И вот пройден гористый путь,
Следи за мной, но, Бога ради,
Ты Мефистофелем не будь
Насчет стареющего дяди.
Переводчик
Посвящается графине Софье Андреевне Толстой
С глубоким чувством признательности представляю на суд Ваш настоящую книгу. Нескольким тонким указаниям Вашим на красоты 2-й части «Фауста» и совету испытать над ним мои силы, — перевод обязан своим появлением. Стыдно признаться, что до последней беседы с Вами я читал 2-ю часть «Фауста», как обыкновенное произведение, без предварительной подготовки и потому, подобно другим, выносил чувство неудовлетворенного изумления. Читатель может останавливаться на непонимании, но переводчик вынужден понять свой оригинал. Итак, Вам же обязан я тем высоким духовным наслаждением, которое доставило мне изучение 2-й части «Фауста». Прилагаемое при переводе предисловие и объяснения могут быть по отношению к Вам только отчетом в моем труде, но намерение появиться с этим трудом в печати ставит мне такие приложения в обязанность. Поступить иначе значило бы чуть не преднамеренно вредить гениальному произведению в понятии публики, так как никакой перевод уже сам по себе не в силах заменить оригинала. Перед посторонним читателем я не только обязан был уяснить содержание текста, но и указать на единственную исходную точку, с которой критика может подступиться к этому произведению. И в этом случае я для Вас не сказал ничего нового. Эта точка давно указана могучим Шопенгауэром2. Я только вынужден был фактически прокладывать с нее критический путь к всеобъемлющему произведению Гете. В настоящую минуту и предисловие, и самый перевод с объяснениями перед Вами, и конечно от Вас не скроются все затруднения, с которыми пришлось бороться моим слабым силам.
«Feci quod potui, faciant meliora potentes»3.
Переводчик
1. В песне радость твоя, песню ж могу я дать и, даря, оценить всю ее стоимость (лат.).
2. Артур Шопенгауэр (1788–1860) — немецкий философ.
3. Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше (лат.).
Предисловие
Трагедия «Фауст» и, в особенности, вторая часть ее не только для иностранца, но и для немца, воспитанного на этом народном предании, совершенно непонятна без окружающей ее сферы ученых толкований. Без них она является, за исключением совершенно ясных мест, каким-то набором мудреных слов и речений.
По отношению к художественному произведению, понимание называется критикой, и какой бы слабой ни явилась она с нашей стороны, самое положение дела вынуждает нас прибегнуть к ней, как к необходимому орудию.
При изумительной глубине понятий, выражаемых человеческим словом, этим чудным венцом мироздания, слово наше, в силу своего объема, подобно громадным кузнечным клещам, которыми непосредственно невозможно удержать мелкого часового винтика, каким является данный предмет, когда мы приступаем к серьезному его изучению. Это свойство слов наглядно указано Гегелем1, и оно-то представляет такое удобное поле для софистики и всяческих лживых учений, приобретающих с тем большею легкостью общее право гражданства, чем менее рассчитывают на серьезный умственный труд своих адептов.
Слово «понять» одинаково может значить: ознакомиться с относительным положением или временным состоянием предмета, как и с основной его причиной и сущностью. То и другое понимание одинаково может быть названо критикой, хотя в первом случае главную роль играет наше непосредственное чувство, а во втором наш разум, которому одному свойственна область причинности. Всякий нормальный человек, пробуя щи, может находить их наваристыми или водянистыми, солеными или пресными, свежими или зловонными, но задача становится гораздо труднее, когда приходится указать на химическую причину всех этих явлений. Нам могут указать на то, что тончайший повар, помимо всякой критики начал, превосходно руководствуется одним непосредственным вкусом и преемственным опытом. Бесспорно. Но когда вспомним, что тот же повар, в угоду одному и тому же лицу, должен, с одной стороны, заведомо держаться русского вкуса в перепаренном курнике2 и английского — в сыром ростбифе, то убеждаемся, что его тонкий вкус вполне относителен и частей. Когда же представим его себе готовящим для китайца или Лукулла3, то увидим, что он, при всей тонкости вкуса, оказывается непригодным к делу. Между тем, не говоря об органическом мире вообще, все люди разборчивы в пище, и, несмотря на климатические и другие условия, отклоняющие вкус в ту или другую сторону, человеческий организм, несомненно, заявляет известные основные требования, неизменные как при удовлетворении голода глиной, по примеру некоторых дикарей, так и при трапезе людоеда. Спросите вашего Вателя4 о неизменных пределах этих требований, и окажется, что он не знает ни их, ни их причин. На такой вопрос способен ответить разве величайший химик. Если подумаем, что главнейшая задача науки состоит в разъяснении именно того, что на первый взгляд кажется нам более понятным только вследствие того, что оно постоянно на наших глазах, то не станем удивляться, что наука не может считать простого факта своим достоянием, доколе не укажет ему подходящего места в общем своем здании, каково бы оно ни было в данную минуту. Такое сознательное указание места не есть пустое удовлетворение систематизации. Определением такого места впервые ясно и твердо обозначаются законные требования, с которыми можно обращаться к данному предмету. Только определив место лошади или дерева, мы знаем, что нельзя требовать от животного того, что свойственно одному растению и наоборот.
Хотя в высказываемых нами истинах нет ничего нового, и ясное указание той потребности духа, которой свободные искусства служат непосредственно удовлетворением, и совершено Шопенгауэром, но в эстетической области мы до сих пор не встречали критики, которая на практике из нее бы исходила. Такой практики, очевидно, требует Шопенгауэр, говоря о Винкельмане5, коего субъективному вкусу изумляется: «Я убедился в истине, что можно обладать величайшей восприимчивостью и правильнейшим суждением в деле художественно-прекрасного, не будучи в состоянии дать отвлеченного и собственно философского отчета о сущности прекрасного и искусства; точно также, как можно быть очень благородным и добродетельным и обладать весьма чувствительной, с точностью аптекарских весов в отдельных случаях решающею совестью, все-таки не будучи в состоянии философски исследовать и in abstracto представить этическое значение действия».
Между тем, подобная философская критика получила в других областях такое полное право гражданства, что всякий другой прием показался бы детским и отсталым. Укажем только на чтения Макса Мюллера6 о религии, в которых ученый автор, прежде чем приступить к религии Вед, указывает на самый источник религиозного чувства в природе человека, и только потом следит за дальнейшим ходом проявлений этой основной потребности.
Менее всего находим мы удобным полемизировать с кем бы то ни было; но имея в виду постановку дела на единственно твердое основание, мы вынуждены указать на деятельность того, кого недаром считают основателем русской эстетической критики. Несомненная заслуга Белинского, обладавшего верным эстетическим вкусом, состоит в разрушении господствовавших у нас несостоятельных теорий псевдоклассицизма о подражании природе.
Но если, проследив критическую деятельность Белинского, мы спросим: что же поставил он положительным критериумом на место низверженного псевдоклассицизма, — то вынуждены ответить: ничего. Причин такого неудовлетворительного результата было много. Укажем на главнейшую. Как человек мыслящий, Белинский понимал, что в деле разумной критики необходимо примкнуть к основам той или другой философии, иначе всякий читатель с полным правом может противопоставлять свой личный вкус вкусу данного критика. Какими путями и в какой окраске доходило до Белинского охватившее нас в то время, гегелианство, — все равно. Дело в том, что по идеалистическому содержанию своего учения Гегель менее всякого другого способен служить основой реальной критики.
По Гегелю всякая действительность есть лишь действительность понятия. Все существующее истинно и значительно лишь в силу своей логичности, как разумно-мыслимое, или как объективное выражение чистого понятия на той или другой степени его внутреннего развития. На всякий предмет или явление должно смотреть лишь как на одно из звеньев в идеальной цепи саморазвивающегося понятия. Истинное значение и внутренняя ценность принадлежит не самому предмету, а тому месту, которое он занимает в системе понятий, тем логическим рамкам, в которые его вдвигает чистое мышление; или, говоря языком самого Гегеля, всякий предмет имеет истину лишь как логический момент. Без сомнения, искусство, как и все другое, имеет свои логические рамки, и не только искусство вообще, но и всякий частный род искусства — поэзия в различных своих видах, музыка и т.д., и, наконец, каждое образцовое произведение художества — Олимпийский Зевс, Король Лир, Дон Жуан — все продукты многовекового художественного творчества могут быть уловлены сетью гегелевской диалектики, но только для того, чтобы свободно пройти через широкие петли логических категорий в открытое море действительной жизни и поэзии, оставляя в руках умозрительного философа все ту же пустую диалектическую сеть.
Говоря без аллегорий, философия искусства Гегеля не захватывает своего предмета в его собственном художественном содержании. Эта философия исходит из общей идеи; но такая идея именно как общая не имеет еще сама по себе никакого художественного значения. Вся художественность и красота произведения заключается не в самой идее, а в ее воплощении в виде индивидуального ощутительного образа. Между тем, такой образ, как частное явление, с логической точки зрения есть нечто несущественное и случайное и, согласно гегелевой философии, не имеет истины и безусловного значения, истина остается здесь за общей идеей, т.е. за тем, что само по себе не представляет ничего художественного и имеет лишь логическое, а не эстетическое значение. Таким образом, здесь красота и истина не совпадают, так что по Гегелю выходит, что в произведении искусства то, что истинно, — не художественно, а что художественно, — то не истинно.
Хотя эта философия и определяет красоту вообще как согласие или совпадение внутреннего содержания с внешней формой (сущности с явлениями), но так как под внутренней сущностью здесь разумеется только общая идея (логически мыслимое), то она никогда не может действительно совпасть с конкретным явлением, которое оказывается лишь преходящим моментом, так что красота на самом деле никогда не осуществляется. По выражению известного эстетика гегелевой школы Фишерa7, красота есть лишь отблеск (Schein) вечной и универсальной идеи на частном и преходящем явлении, которое может только отражать, но никак не выражать вечную истину. Область этой истины есть мир общих идей, а художество хочет уловить и показать ее в индивидуальных явлениях, т.е. там, где ее, в сущности, нет. Если красота есть призрак, то художество по-настоящему есть обман.
Такая философия искусства сводит к отрицанию искусства. Это легко видеть еще и с другой стороны. По Гегелю, художество, религия и наука (философия) суть три фазиса абсолютной идеи, или три способа, какими человеческий дух относится к абсолютной идее. Идея же эта сама по себе есть то, что безусловно-логически мыслится. Но такое мышление свойственно только науке (философии), которая поэтому и представляет единственно совершенный и окончательный способ деятельности человеческого духа; религия же и искусство, хотя и имеют в виду ту же самую абсолютную идею или истину, но, действуя не чистым мышлением, а фантазией, чувственным представлением и другими несоответственными способами, они не могут достигнуть настоящего обладания своим предметом, и в них наш дух оказывается, так сказать, не на высоте своего положения. Отсюда легко вывести, что если уже человеку открылась истина в своем безусловно-истинном виде, т.е. философском, то другие, менее истинные способы выражения той же истины, т.е. религия и искусство, становятся излишними и могут быть упразднены, все равно как человек, научившийся беглому чтению, не станет уже читать по складам. Известно, что так называемая левая сторона гегельянцев, исходя из начал своего учителя, пришла к полному отрицанию религии. Относительно искусства такое же заключение в грубо-карикатурном виде было выведено в России последователями Белинского, которые, впрочем, принижали художество уже не перед философией и наукой, а перед сапожным мастерством и мелочной торговлей.
Между тем, под руками у нас лежит всем доступное и совершенно ясное эстетическое учение Шопенгауэра, в котором не только указан естественный источник эстетического чувства, но и границы, которых по своей природе фактическое его проявление переступать не может и не должно, как в своей совокупности, так и в каждом отдельном своем роде.
Какой век не восхвалял самого себя? Но прислушавшись к общему говору, за исключением немногих голосов, невозможно не воскликнуть: да! мы живем в непонятное время. Не только в деле философии, но даже просто здравомыслия мы ничему не научились и все забыли. Если, подходя к известной теории и видя, что она не покрывает всех явлений своего горизонта, мы признаем ее несостоятельной, то поступим совершенно последовательно. Не так действует наше время. Оно отвергает теорию не вследствие ее несостоятельности перед фактами, а лишь потому, что те или другие факты, ею объяснимые, нам сами по себе почему-либо не нравятся. Если, например, распределение ценностей и капиталов по законам, коренящимся в природе человеческих обществ и подмеченных наукою, оказывается, наряду с другими естественными явлениями, с известной стороны неудовлетворительным, то такая неудовлетворительность относится у нас не к самому предмету, а к политической экономии как науке; точно наука в силах не только открывать и объяснять, несомненно, существующее, но и творить, что ей вздумается.
Совершенно однородные требования возникают беспрестанно и по отношению к эстетике, требования, кончающиеся упреками живописным яблокам в меньшей питательности по сравнению с настоящими. С этой точки живопись и вся эстетика, конечно, не выдерживают сравнения с лотками разносчиков, а о том, имеет ли критика право на подобные требования, никто не спрашивает. Действительно, становясь на беспочвенное основание личного вкуса, каждый вправе требовать того, что ему в данную минуту желательно, и нечего удивляться оглушительной разноглаголице, среди которой раздаются, между прочим, и такие соображения. «Искусством называется все от Гомера и Рафаэля до парикмахерского и поваренного дела. А как весьма трудно, если не невозможно, провести резкую черту между доброй, нравственно питательной и развратительной сторонами дела, то, во избежание зла, надо устранить самое дело, т.е. выкинуть искусство вообще из человеческой деятельности».
В таком походе на искусство не принимается в соображение, что ту же трудность разграничения добра и зла представляют все, как естественные, так и искусственные явления. Несомненно, что не менее трудно определить различие между здоровым воздухом и заключающим губительные поветрия; но исключать за это воздух вообще из органического питания — мысль крайне оригинальная. Такой ребяческий прием конечно изумителен из уст критики. Тем не менее, в нашей литературе он применяется к самым важнейшим философским вопросам. В одном из предисловий Шопенгауэр, конечно в шутку, просит недовольного читателя написать на его книгу рецензию. Автор, только предлагающий, а никому не навязывающий свою теорию, слишком хорошо знает, как трудно шаг за шагом опровергнуть его положения, взятые из сущности дела, а не с воздуха. Но по нашему ребяческому приему дело выходит чрезвычайно легко. Недавно пришлось нам читать петербургскую критику, в которой учение Шопенгауэра опровергалось тем, что в качестве пессимизма оно не нравится критику, который, по-видимому, так оптимистически весело смотрит с берегов Невы на мироздание. С точки зрения критика мы вполне согласны относительно непригодности Шопенгауэра. По асфальту великолепных улиц и набережных (crediteposted) бесшумно несутся экипажи на каучуковых колесах, железные дороги со всех концов мчат муку, быков и гастрономические редкости, государство на свой счет содержит зрелища и увеселительные заведения, а журналы, ежедневно рассыпающие пряности, растут как грибы. При таких условиях утруждать голову изучением какой-либо последовательной системы значило бы причинять себе зло и добровольно впадать в пессимизм. Да Бог с ним! Не короче ли, узнав, что это неприятный гость, оставить его за дверью? Пишущий эти строки, к сожалению, не находится в таком удобном положении. Взявшись объяснить текст перевода, мы вынуждены с ним знакомиться, указав на основание эстетических требований, — короче: познавать.
Когда возникает сомнительный спор о пригодности вещи, люди, во избежание голословных «да» и «нет», прибегают к свидетельству опыта или истории. Так поступим и мы, в предположении, что воображаемый оппонент, прогнав Шопенгауэра, лишил нас возможности ссылаться на его авторитет. Оглянемся же кругом. Может быть, и мы убедимся, что пессимизм только болезненное проявление в людях исключительных, которые потому и не могут быть нашими руководителями. Конечно нам тотчас же укажут на оптимистическое миросозерцание древних греков и римлян, как непрестанно указывалось на их демократически-республиканский дух. Но, к сожалению, мы не можем принять этих примеров ни в том, ни в другом смысле, так как у тех и других демократия являлась лишь в виде менее богатых граждан, под которыми стоял, как например, в крошечных Афинах целый 200-тысячный строй рабов, не имевших никаких прав. При таких условиях возможно упиваться и демократией и оптимизмом. Кроме того, греко-римский мир в настоящую минуту кидается нам в глаза памятниками своего искусства, которое, как мы далее увидим, составляет именно светлую, идеальную сторону жизни. Но когда мы и в античном мире присмотримся к людям серьезного миросозерцания, то, например, в Гераклите, Платоне или стоиках никак не можем признать оптимистов. Брамаизма и буддизма никто не сочтет оптимизмом. Пирамиды свидетельствуют о центре религиозных упований, перенесенном из реального мира в замогильный. Так что единственным историческим народом-оптимистом является еврейский, начинающий с того, что творец сам находит свое творение прекрасным. А между тем оказывается, что их оптимизм живет в кредит насчет мессии, который доставит народу то, чего у него в действительности не было и нет. Излишне говорить о христианстве, которого основное учение заключается в том, что мир во зле лежит, и что только личное участие Божества способно искупить это зло. Итак, куда бы мы ни оглянулись, мы ни в древнем, ни в новом мире не встречаем ни одного народа, ни одного серьезного мыслителя оптимиста, и Гоголь, воскликнув в конце «Ив. И. и Ив. Ник.» 8: «Скучно на этом свете, господа!», только подтвердил мнения Когелета, Будды, Платона и Шопенгауэра, не говоря о других. «Нет ничего нового под солнцем».
Заручась такими всесветными авторитетами, мы, кажется, имеем некоторое право признать пессимизм за единственно ясновидящее учение.
Выше мы видели, что идеалистическое гегелианство, основываясь на идее, как чистом понятии, не могло представлять твердой почвы для реального искусства. Вследствие этого вся непрочная растительность диалектики и все тщательно возведенные ею постройки, отходя мало-помалу от наклонной скалы, служившей им основанием, целым пластом, как это бывает в Альпах, скатились на дно реалистической долины. Это, как мы видели, было совершенно последовательно. Стали требовать реализма, натурализма. Тут возникает новая беда для искусства. Являясь лишь подобием, односторонним снимком реальных предметов, оно окончательно уступает им со всех других сторон и конечно представляет ненужное повторение вещи в несовершенном виде. Вследствие этого оно просто, как мы уже сказали, отрицается.
Если же ни идеалистическое, ни материалистическое учение не указывают истинного источника искусства, ставя посторонний критерий к его пониманию, то, за неимением выбора, приходится обратиться к учению, признающему, с одной стороны, полную реальность мира явлений, а с другой, при познании нравственной неудовлетворительности и тяготы этого мира, указывающему на нечто другое, скрывающееся под этой видимой оболочкой и обусловливающее явления, ни с идеальной, ни с реальной стороны отдельно не объяснимые.
Не будем задаваться мудреным вопросом, почему природа в целях сохранения родов и видов избрала форму орудием их охранения и сближения, а укажем на факт, что белую куропатку и зайца трудно летом отличить от комка земли или желтого моха, а зимой от снега, и что ко времени весенних ухаживаний брови тетерева становятся ярко красными, а павлин играет на солнце своим изумрудным хвостом, который в остальное время года представляет для него обузу. Несомненная связь всемирной красоты с самосохранением природы с достаточной ясностью указана Дарвином9. Этот, так сказать, инстинктивный факт, представляющий лишь грубый материал будущего искусства, еще с большей силой заявляет себя в человеческом мире. На всех ступенях нравственного развития женщина употребляет известные приемы, могущие, по ее мнению, возвысить ее красоту, с целью возбуждения симпатии мужчины. Если бы женщины сказали, что украшают себя не для мужчин, а из желания видеть себя прекрасными, то нам не пришлось бы и доказывать желания красоты для красоты.
Итак, не только известные формы, но и красота этих форм, разлитая по всей природе, необходимы в ее целях. Спрашивается, какую же пользу, кроме общей со всеми другими организмами, извлекает человек из области красоты? Целый мир искусств свидетельствует о том, что человек, помимо всякой вещественной пользы, ищет в красоте на свою потребу чего-то другого. А что удовлетворяет требованию, — то полезно. Является вопрос: откуда возникает это исключительно человеческое требование, и какую находит оно пользу в мире красоты, в мире отрешенного свободного искусства?
Вглядываясь в потребность искусства, мы различим в духе человека могучий стимул страстных поисков в эту сторону. Если вспомним непрерывный ряд мучений, испытываемых человеком от колыбели до могилы, мучений, причиняемых не столько окружающей средой, сколько самоугрызающейся природой воли, вследствие которой человек становится собственным мучителем, то нам станут понятны все стремленья и попытки уйти от самого себя.
Дверей, за которыми, по словам Эпикура, мы достигаем безболезненного состояния богов и, по Шопенгауэру, «хоть на мгновение освобождены от назойливого напора воли, когда мы празднуем субботу каторжной работы желания, а колесо Иксиона10 остановилось», таких дверей люди нашли только четверо: религию, искусство, науку и водку или опий. Неспособные уйти от самих себя в три первых двери неудержимо бегут в последнюю; и никак не вследствие материальной несостоятельности, как это обыкновенно объясняют, а лишь вследствие того, что они люди, т.е. собственные мучители. Здесь не место развивать нашу мысль по отношению ко всем приведенным исходам из самого себя. Обращаясь к нашему специальному исходу в искусство, мы невольно задаемся вопросом: почему же не всем вполне доступен этот исход? Можно с достоверностью предполагать, что предметы внешнего мира своею формой и иными проявлениями одинаково действуют на нормального человека. Почему же те же формы в одном случае возбуждают в нас восторг самозабвения, а в других оставляют нас равнодушными? Представим себе храмину, наполненную всякого рода предметами, совершенно ясно различаемыми при бледном освещении керосиновой лампочкой. Если бы вдруг, из-за отдернутой занавесы единственного огромного окна, яркий дневной свет, врываясь чрез разноцветные стекла, осветил все предметы, находящиеся в храмине, то можно ли бы удивляться, что предметы, в сущности, не изменившиеся, получили вдруг самый привлекательный вид, в силу озарившего их нового света?
Откуда проходит в грудь человека тот таинственный свет, который дает возможность художнику и, при его помощи, ценителю видеть будничные предметы в новом небывалом освещении, — тайна человеческой природы. Мы только указываем на факт, что без этого света ни свободное творчество, ни возбуждаемое им отрадное самозабвение невозможны.
Приступая к основному различию шопенгауэрова учения от всех других, на противоположных концах коих находятся полюсы идеализма и материализма, мы вынуждены извиниться перед читателем в том, что, по тесноте рамки, до известной степени заменяем аналитический прием синтетическим, прося, не придираясь к словам, идти навстречу нашей мысли, на которую мы только можем намекнуть. Желающих дойти до платоновских идей путем анализа прямо обращаем к сочинению Шопенгауэра, так как ни место, ни наши силы не позволяют заменить его слова нашими собственными. Подражая поневоле Мефистофелю, мы этим вручаем читателю волшебный ключ, при помощи которого он, под протекцией Персефоны (Шопенгауэра) может на свой риск углубляться к матерям (идеям). Даже если бы мы вздумали приступить к их конкретному изображению, то и тут у нас опустились бы руки ввиду их изображений в устах Мефистофеля и Фауста в конце первого акта. Мы решаемся только грубо указать на коренное различие уличной идеи, как понимал это слово кучер г. Гейне, от платоновской. Первая есть отвлеченное понятие, нигде в мире, кроме мозгов, не существующее, форма мышления, служащая подобно цифре только отвлеченным оправданием известных предметных отношений перед разумом, а вторая — платоновская, сама есть сущность и более действительная, чем предметы мира видимого, объективная основа и источник бесконечной цепи явлений. Первая вполне относительна, будучи обусловлена временными, климатическими и другими влияниями на мозг, — откуда такие противоречия в требованиях прекрасного. Вторая — неизменна, ибо живая идея звезды, кролика или пня не может измениться. Вот почему критика, основанная на идее (понятии), не находит, в сущности, иной опоры, кроме личного вкуса, как бы тонок он ни был, тогда как критика, основанная на идее — вещи, имеет твердую опору в приравнении данного произведения к его идее.
Рассмотрим вкратце обычные требования, с которыми обращаются к искусству: 1-е — соответствие идее, 2-е — верность природе, 3-е — поучительность. Если идея, как понятие, служит основой произведения, то, по самим способам искусства, она выражается не в форме отвлеченной сентенции, а в форме видимой, ничего с понятием общего не имеющей. Руководясь идеалистической критикой, мы вынуждены сами отгадывать основную идею или целую группу понятий художника. Но кто же ручается за то, что подставляемая нами группа понятий адекватна первобытным, руководившим художником? Шаткость такого подсовывания заявляет себя перед лицом всякого организма. Припомним бесконечное разнообразие идей — понятий, подсовываемых естественнонаучной или исторической критикой под предметы их изучения. Вычитывая искомую идею лишь из наличных фактов, они при всяком новом факте вынуждены составлять новый словарь. Поневоле приходится повторить слова Фауста:
Что духом тех веков слывет,
То, в сущности, дух самых тех господ, —
лишь потому, что понятие, как достояние мозга, ни в чем ином существовать не может; тогда как платоновская идея — вещь необходимо проявляется в каждой особи, и задача искусства, вызывая в яркое освещение известную сторону явления, выставлять его идею более очевидным образом, чем она непосредственно раскрывается самой вещью. Верное подражание природе не составляет в этом случае главного средства к воспроизведению идеи. Последнее преимущественно зависит от помянутого привходящего освещения, как первого условия успеха. Выражение: «Каждый род хорош, кроме скучного» собственно значит: всякий предмет перестает быть бесплодным для искусства, когда озарен светом вдохновения. Попробуйте заговорить стихами о многом, о чем говорил Пушкин. Кто станет вас слушать? Самая преувеличенная карикатура, начерченная рукою мастера, может быть несравненно вернее идее оригинала, чем самый тщательный его фотограф. Сколько примеров тому, что тончайшие знатоки искусства, тщательно угадывая идею статуи с отбитыми членами, самым определенным образом указывали на мысль и повод ее зарождения, — и вдруг найденный не достававший член ее изменял все догадки, парализуя прежнее толкование. Несколько охотников, любуясь античным луврским кабаном, заслышавшим неприязненные звуки, могли бы, пожалуй, разыскивая в мраморе так называемые идеи художника, написать по интересной книге. Но в одном взгляде на кабана совмещаются все настоящие и будущие о нем суждения, и лишь потому, что художнику удалось вызвать из мрамора, так сказать, наикабаннейшего из всех кабанов.
Истина, как известно, является совпадением нашего представления или понятия с данным предметом. А как искусство есть воспроизведение нашего представления, а не самого понятия, то и истинность (реальность) искусства не есть безусловная верность будничной действительности. Мы видим красивую, вполне реальную руку; та же рука, совершенно измененная под микроскопом, никак не менее реальна, но, изваянная из мрамора, она преимущественно перед первыми двумя видами заслуживает название реальной, так как способна сохранить эту реальность тысячелетия, когда от первых не останется следа. До какой степени явления природы органической напрашиваются своею платоновской идеей, чувствовал уже Августин, говоря: «Растения предлагают нашим чувственным ощущениям различные свои формы, которыми так прекрасно видимое устройство этого мира, как бы желая, по-видимому, за невозможностью познавать, быть познаваемыми».
Сказанное утверждает нас в несомненной истине, что настоящий художник не задается первоначально какой-то отвлеченной идеей, для приискания ей соответственной формы, а что действительный прием творчества оказывается совершенно противоположным. Физический или умственный взор художника, падая случайно на известный предмет, при внезапном освещении последнего волшебным светом, провидит его вечную идею, и затем уже художник воспроизводит ее в пределах своего искусства. Этим объясняются и самые границы требований верности природе. Если мы эту верность станем понимать в смысле подражания, то она не выдержит ни малейшей критики. Можно ли в живописи — области двух измерений — подражать предметам трех измерений? Можно ли в неподвижной скульптуре подражать дышащим и движущимся организмам? И можно ли, наконец, мозаикой понятий, выражаемых отдельными словами, воспроизводить какое-либо нераздельное лицо или явление?
Если же от способа подражания мы перейдем к его сущности, то и тут легко заметим причину различия в понятии верности по отношению к миру действительности и к миру искусства. Припомнив, что художник представляет нам не сырой сколок с действительности, а ее отражение в его собственном волшебном фонаре, мы перестанем удивляться, что изображаемая им действительность нередко является действительностью только сна. Кто же имеет право возбранить спящему или мечтающему человеку видеть те или другие сны? Правило Горация11 касательно несочетания разнородных членов в смешанное целое относится именно к тому, что перед художником не было определенной вещи, и он созерцание идеи ищет заменить механическим богатством форм. В противном случае поучение обращалось бы против самого Горация, у которого химеры, треглавый Цербер и всевозможные превращения на каждом шагу. Если так трудно уловить идею будничных образов, то какая сила творчества нужна для правдивого изображения фантастических явлений и превращений «Тысячи и одной ночи» или сказок Гофмана? Мы не хотим сказать, что художественная правда преимущественно состоит в неправде, а лишь, что независимо от будничной, она заключает в себе бóльшую внутреннюю истинность, чем первая. Искусство не изменяет себе, воспроизводя человеческие сны или народные фантазии, ибо и здесь имеет дело не с понятиями, а с образами; художественная правда и тут остается верной образу, а не естественным наукам. Напрасно анатомия стала бы указывать на невозможность крыльев у льва с женской головой, или от пояса книзу мраморного принца. Эдип и Шехерезада говорят противное, а у Пушкина мы любуемся даже шестикрылым серафимом, заимствованным у пророков. Утверждать противное значило бы отвергать целый ряд гениальных произведений. Не лучше ли отвергнуть теорию, неспособную покрывать в своем предмете столь широкого поля. Истинный художник, вызывающий посредством волшебного фонаря первообраз предмета, должен руководствоваться его сущностью, а не случайной действительностью, как бы бесспорна она ни была. Его задача способствовать нам вступить в волшебное освещение, восхищающее наш дух, бегущий от мучений относительно реального к возможно прекрасному. Вызывая в портрете основную идею лица, художник не станет изображать сангвиника в ту минуту, когда флюс придает ему вид лимфатика, зная, что такая верность природе будет ложью в искусстве. И ложь, и правда не бывают без основания. Иногда трудно познать это основание, а иногда оно, коренясь в непосредственном чувстве и инстинкте, ярко выступает пред познанием. Так, например, красота низкого женского лба с глубокой древности инстинктивно чувствуется самими женщинами, которые в последнее время окончательно завешивают его до бровей волосами. Не удивительно, что эгоизм заставляет женщину нравиться в качестве женщины, а мужчину в качестве мужчины. Средство женщины, — красота, средство мужчины — телесная и умственная сила. Хранилищем последней является череп, и чем он обширней, тем большая умственная рекомендация. Преувеличивая на портрете лоб женщины, вы льстите ей как человеку и принижаете ее как женщину, и она справедливо негодует. Вы подчеркиваете в вашем Христе еврея, плотника, странника на счет царя и Господа, которого требует идея, и отгоняете алчущего вознестись в безотносительное, в ту же тесноту, от которой он уповал уйти. Ваша будничная правда становится в искусстве клеветой. Ведь искусство — праздник жизни, и последовательные пессимисты, не признающие праздников вообще, начиная с улучшенной пищи или жилища, будут правы, отвергнув всякое свободное искусство.
Упомянув о свободе искусства, не можем умолчать о свойствах этой свободы, еще раз указывающих на коренное отличие уличной идеи от художественной. В мире искусства повторяется тайна человеческой жизни. Умопостигаемая воля человека свободна, но индивидуальный человек — раб своей эмпирической воли. Не в нашей власти выдумывать себе волю... И если совершенно справедливо сказать: воля человека свободна, но сам человек не свободен, то не менее справедливо сказать: искусство свободно, но художник раб своего искусства. Достаточно привести стихи из «Онегина»:
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.
Ту же мысль приходилось нам слышать из уст самых могучих художников. Они не знали, что станут далее делать их герои и как выйдут из своего положения. Перейдем к поучительности. Поучение, в сущности, есть умственное сближение вполне по себе безразличных фактов с известным из него выводом. То и другое, будучи делом разума, никак не может заключаться во внешних фактах, способных быть лишь предметом бесконечных сближений и поучений. Так Парижская коммуна способна быть для одних поучением, как сжигать петролеумом дома и истреблять памятники истории и искусства, а для других, как избежать причин таких действий. Отрицать у искусства такого рода поучительность значило бы выдвигать его из области действительности, т.е. не признавать его существования. Для основателя буддизма, принца Шакьямуни12 случайная встреча с погребальной процессией была до того поучительна, что заставила его покинуть царский блеск для пустынножительства и проповеди. Но возможность поучения все-таки заключалась в нем, и нельзя утверждать, что появление смерти имеет целью научить одного Шакьямуни, так как обычно оно никого не поучает. Конечно, в ряду действительных явлений искусство по преимуществу поучительно уже потому, что сокращает нам наполовину доступ к идее предмета, озаряя его волшебным своим светом. Поэтому группа деревьев, которым художник, в смысле Августина, помог высказаться, гораздо поучительнее той же группы, не освещенной волшебным светом. Но, помимо главной цели, искусство при беспредельном своем запасе, невзирая на строгость своих границ, может нападать на содержание, имеющее внешнюю форму поучительности. С богатой мантии художника могут между прочими самоцветами спадать и алмазы поучений, в назидание желающим поднимать их; но превращать такие явления в цель искусства — то же, что утверждать, будто целью «Илиады» было научить греков энергически ругаться с противником. Психолог, политик, юноша, вступающий в жизнь, молодая девушка, актер и т.д. могут действительно найти в «Гамлете» драгоценные поучения, но не можем согласиться, что драма ставила их конечной целью.
Когда прирожденный художник в силу известных соображений и решается насиловать природу своего дела, начиная его не с созерцания, а с головной мысли, то зрелище выходит истинно поучительное. Личная головная мысль, способная произвести лишь мертворожденное, так и остается в одном заглавии, а сила творчества, овладев художником, ведет его своим путем, которым наглядно опровергается мысль заглавия. В этом случае мы не знаем более разительного примера, чем прекрасный рассказ графа Льва Толстого «Чем люди живы». Целых 8 цитат из посланий Иоанна указывают на любовь к ближнему, которой сам рассказ должен служить иллюстрацией. Всматриваясь в два самостоятельных факта, преднамеренно сближенных автором, мы видим, с одной стороны, что вся заслуга и значение поучений Иоанна в том, что, указывая людям на врожденное и общее у них со всей органической природой чувство любви, они напоминают им, что в будничной жизни люди слишком дозволяют гнетущим их обстоятельствам и собственным похотям заглушать это высокое чувство. Так что любовь к ближнему, как редкое исключение, как бы вовсе не существует между людьми. Зная, что вся природа, в том числе и человеческая, в силу вечных законов, живет чувством самосохранения особи, Иоанн рекомендует этой особи таящуюся в ней самой, высшую по значению, но нижайшую по мощи, силу братской любви, т.е. способность расширять свое я, свой эгоизм, как это явно в курице, идущей на бой с коршуном из-за цыплят. Этой рекомендацией Иоанн желает возвысить, но не изменить человеческую жизнь. Невзирая на свой платонизм, он не в силах закрыть глаз на ход человеческой жизни, — и знает, что последняя совершенно противоположна его высокому идеалу, осуществляемому лишь отрывочными, минутными проявлениями. Повторяю, в таком понимании и стремлении все значение проповеди апостола. С другой стороны мы видим художественный рассказ, вполне независимый от проповеди Иоанна, но, тем не менее, способный, рядом со всяким живым организмом, стать орудием не только поучения, но и целого ряда поучений. Читатель, привыкший наслаждаться художеством автора, и здесь отдался бы этому чувству, если бы его не смущали диссонансы, внесенные на этот раз преднамеренностью. Граф Толстой далеко не из людей, не владеющих словом. Всегда адекватное мысли, оно лишает нас возможности понимать его неточно. Поэтому, мы вынуждены, наравне со всеми, понимать заглавие «Чем люди живы» в смысле: вот основа и способ жизни людской. Или: если люди живы, то обязаны своим существованием попечению о них собратий. Предположим, что автор своим рассказом несомненно утвердил такое положение. В таком случае его рассказ являлся бы прямым опровержением апостола, на которого он ссылается. Если люди действительно искони живы (сущность человека неизменна) братской любовью, то слова Иоанна являются излишней рекомендацией вечно существующего. Кто серьезно станет учить людей дышать воздухом и враждовать? Уж если задаваться рассказом в подтверждение слов апостола, то надо выводить примеры тщетности таких поучений, чтобы сохранить за ними честь значительности.
Наслаждаясь произведениями графа Толстого, мы до сих пор ни разу не задавались розысками поучений. На этот раз автор сам побуждает нас к тому своим примером. Каково же по рассказу выходит это поучение? Воспользовавшись легендой, автор сообщает нам, что архангел Михаил, свергнутый Богом с неба за непослушание, спасен от замерзания бедным сапожником, у которого, выучившись в три дня ремеслу, он довел его до совершенства, доставившего хозяину известность и барыш.
Ангел предузнает смерть требовательного заказчика и, увидав женщину, выкормившую своим молоком, кроме собственного ребенка, двух сирот, получает прощение и возносится на небо. На земле он узнал три слова Господних: что есть в людях, чего не дано людям и чем люди живы? Непослушание ангела состояло в том, что он не вынул душу из больной, родившей двойню, но на земле он узнал, что у людей есть любовь, что люди не знают будущего, и что люди живы любовью к ним ближнего. Повторяем, если бы перед нами был чистый миф, то мы не стали бы искать в нем будничного здравого смысла. Но видя перед собой проповедь в рассказе, мы не можем не спросить: каким образом архангел, согрешивший неповиновением из-за любви матери к новорожденным, принужден был узнавать чувство любви на земле, как нечто ему совершенно незнакомое? Из легенды не видно, для кого важна истина незнания человеком будущего. Очевидно, не для людей, которые давным-давно поняли, что не только не знают будущего, но что им вообще не дано ни в чем истинного познания. Ясно, что ангел сходил на землю за этой истиной для себя; хотя странно, как он, зная о меньшем совершенстве людей, не догадался о деле по собственному незнанию будущего. Зная будущее, он не подпал бы под наказание. Но целью рассказа оказывается третья истина, послужившая заглавием: чем люди живы? Если бы в этой фразе были слова: иногда остаются, то и сам рассказ утратил бы свою тенденциозность, а слова апостола остались бы неприкосновенными. Между тем, оказывается, что работник Михаил «работает без разгиба, ест мало» — «и прошла слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник, Михайла. И стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться». Стало быть, и Семен, и случайно спасенный его любовью Михайла стали живы, подобно всем людям, трудом и трезвостью. Что любовью не проживешь, знает по опыту Матрена, у которой муж из любви к вину пропил холсты, и потому на здравый вопрос ее: «Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?» — «не знал Семен, что сказать». Женщина, выкормившая грудью троих, сама объясняет возможность такого дела: «Молода была, сильна была, да и пища хорошая. И молока столько Бог дал в грудях было, что зальются бывало». Следовательно, и женщина сама, а при ее посредстве и сироты живы остались, если не прямо трудом, то накопленным чужим трудом, — капиталом. Таким образом, головная сентенция осталась сентенцией, а художественная правда не только не дозволила автору оправдывать сентенцию рассказом, но и привела его к очевидному утверждению противоположного. Поневоле вспомнишь мудрый совет Козьмы Пруткова: «Когда в зоологическом саду на клетке носорога прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим».
Прослеживая шаг за шагом значительное по объему и громадное по содержанию произведение Гете, мы убеждаемся, что оно менее всего модное платье на вешалке предвзятого понятия в окне магазина поэзии. Гете не сочинял «Фауста» по правилам пиитики, а так сказать, наткнулся на готовый факт народной легенды и только при свете поэзии развил зачатки, лежавшие в легенде непосредственно.
Еще с двенадцатого века появилось множество людей, обманывавших толпу мнимым волшебством, которое объяснялось общением с дьяволом. Уже в XV столетии должен был существовать такой прославленный волшебник, принявший имя Фауста (Faustus — счастливый) так как в начале XVI века подобный площадной обманщик писался: Magister Georgius Sabellius — Фауст младший, второй маг, второй по предсказаниям по руке, по воздуху, по огню и по воде. Но главным носителем народного сказания является Иоанн Фауст (Фуст?) из Книтлингена (Кудлинга), земляк и знакомый Меланхтона, при котором около 1530 года проживал он некоторое время в Виттенберге. В 1525 году он выехал верхом на бочке из Ауербахова погреба в Лейпциге, как о том свидетельствуют там позднейшие картины и стихи. В сочинении виттенбергских теологов 1585 года много рассказано историй о Фаусте, мучительно умерщвленном дьяволом, после тщетной попытки волшебника обратиться снова к Богу. Два года спустя появилась во Франкфурте древнейшая книга о Фаусте: «Historia о Д. Иоанне Фаусте». Здесь уже указано на высокомерное стремление «к исследованию всех оснований на небе и на земле», как на причину, ввергнувшую Фауста в сети дьявола. Старейшая форма соблазнителя (одного из служителей сатаны) Мефистофель, от греческого «не любящий света», хотя само имя Мефистофель, подобно другим именам злых и добрых духов, происхождения ассирийского, откуда через посредство еврейской каббалы проникло в Европу. Мефистофелю Фауст за 24 года земных услуг записывает свою душу. На 23-м году договора Фауст требует у Мефистофеля греческую Елену, как сам он в Светлое Воскресенье показывал ее виттенбергским студентам. В начале последнего года он назначает своим наследником своего Фамулуса (помощника) — Христофа Вагнера (знаменитого в свою очередь волшебника), которому после своей смерти обещает прислать особенного духа Ауерхана (глухаря) в виде обезьяны.
В 1588 году в Тюбингене появилась в стихах история Фауста; а прозаическое ее распространение в 1591 и 1592 годах переведено на простонародный немецкий, датский, английский и французский языки — еще до исхода XVI века. По одним источникам время жизни Фауста относится к эпохе Карла V и Лютера, а по другим — Максимилиана I, перед которым он вызывает тень Александра Великого, с помощью Соломонова ключа (clavicula Salomonis)13. Уже в XVI столетии являются в Германии английские комедианты, игравшие на немецком языке. Таким образом «Doctor Faustus» Марло, вероятно, очень рано стал известен в Германии.