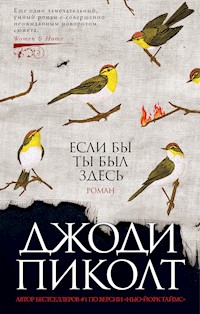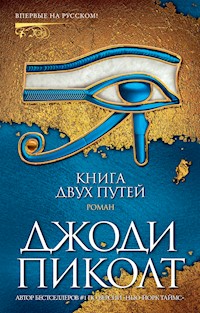Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Krimi
- Serie: Джоди Пиколт
- Sprache: Russisch
Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась, когда были убиты ее любимые муж и дочь. И только рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в будущее. Теперь ее жизнь состоит из ожидания: ожидания того часа, когда она залечит свои душевные раны, ожидания справедливости, ожидания чуда. Для Шэя Борна жизнь не готовит больше никаких сюрпризов. Мир ничего ему не дал, и ему самому нечего предложить миру. Но он обретает последний шанс на спасение, и это связано с Клэр, одиннадцатилетней дочерью Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет море горьких сожалений, прошлые преступления и гнев матери, потерявшей ребенка. Отец Майкл — человек, прошлые поступки которого заставляют его посвятить оставшуюся жизнь Богу. Но, встретившись лицом к лицу с Шэем, он вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои представления о добре и зле, о прощении. И о себе. В книге "Новое сердце" Джоди Пиколт вновь очаровывает и покоряет читателей захватывающей историей об искуплении вины, справедливости и любви. Впервые на русском языке!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Оглавление
Jodi Picoult
CHANGE OF HEART
Copyright © 2008 by Jodi Picoult
Originally published by Atria Books, a Division of Simon & Schuster Inc.
All rights reserved
Перевод с английского Ирины Иванченко
Серийное оформление и оформление обложкиИльи Кучмы
Пиколт Дж.
Новое сердце : роман / Джоди Пиколт ; пер. с англ.И. Иванченко. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2020.
ISBN 978-5-389-18192-2
16+
Счастливая жизнь Джун Нилон закончилась, когда были убиты ее любимые муж и дочь. И только рождение Клэр заставляет Джун вглядываться в будущее. Теперь ее жизнь состоит из ожидания: ожидания того часа, когда она залечит свои душевные раны, ожидания справедливости, ожидания чуда.
Для Шэя Борна жизнь не готовит больше никаких сюрпризов. Мир ничего ему не дал, и ему самому нечего предложить миру. Но он обретает последний шанс на спасение, и это связано с Клэр, одиннадцатилетней дочерью Джун. Однако Шэя и Клэр разделяет море горьких сожалений, прошлые преступления и гнев матери, потерявшей ребенка.
Отец Майкл — человек, прошлые поступки которого заставляют его посвятить оставшуюся жизнь Богу. Но, встретившись лицом к лицу с Шэем, он вынужден подвергнуть сомнению все то, что знает о религии, все свои представления о добре и зле, о прощении. И о себе.
В книге «Новое сердце» Джоди Пиколт вновь очаровывает и покоряет читателей захватывающей историей об искуплении вины, справедливости и любви.
Впервые на русском языке!
© И. В. Иванченко, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская Группа„Азбука-Аттикус“», 2020Издательство АЗБУКА®
Пусть эти страницы вместят в себя мою любовь и мое безграничное восхищение
Моему деду Хэлу Френду, у которого всегда хватало смелости интересоваться нашей верой...
И моей бабушке Бесс Френд, не перестававшей верить в меня
Алиса рассмеялась.
— Это не поможет! — сказала она. — Нельзя поверить в невозможное!
— Просто у тебя мало опыта, — заметила Королева. — В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье
Пролог
1996 год
Джун
Поначалу я поверила во второй шанс. Иначе как еще объяснить тот факт, что после аварии, когда дым рассеялся и автомобиль, перестав кувыркаться, приземлился вверх колесами в канаву, я выжила и услышала плач моей крошки Элизабет? Полицейский вытащил нас из машины и отвез в больницу, где мне наложили гипсовую повязку на сломанную ногу, а Элизабет — совершенно невредимая, о чудо! — все время сидела у него на коленях. Он держал меня за руку на процедуре опознания тела моего мужа Джека. Полицейский присутствовал на похоронах. Он наведался ко мне домой, чтобы лично сообщить об аресте пьяного водителя, столкнувшего нас с дороги.
Полицейского звали Курт Нилон. Он долго еще продолжал навещать меня после суда и вынесения приговора, чтобы удостовериться, что у нас с Элизабет все хорошо. Он приносил игрушки на ее день рождения и Рождество. Прочищал засорившиеся трубы в ванной на втором этаже. После дежурства приезжал стричь траву в саванне, возникшей на месте нашей лужайки.
Джек был любовью всей моей жизни, и, выходя замуж, я собиралась остаться с ним навсегда. Но это было до того, как какой-то мужик с уровнем алкоголя в крови 0,22 промилле разрушил это «навсегда». Меня тогда удивило, что Курт понимал: можно и не полюбить так же сильно, как в первый раз, — но еще больше удивило, когда оказалось, что полюбить все-таки можно.
Через пять лет я, узнав, что у нас с Куртом будет ребенок, почти пожалела об этом. Чувство было сродни тому, как, стоя в прекрасный летний день под необъятными голубыми небесами, предвидишь, что никакое возможное будущее уже не сравнится с этим моментом. Когда умер Джек, Элизабет было два года, и она считала Курта своим отцом. У них сложились особенные отношения, и подчас я ощущала себя третьей лишней, как если бы Элизабет была принцессой, а Курт — ее рыцарем.
С приближением появления маленькой сестренки (странно, но все мы представляли себе только девочку) у Курта и Элизабет развилось состояние крайнего возбуждения. Элизабет рисовала подробные эскизы детской комнаты. Курт нанял подрядчика для сооружения пристройки. Но потом у матери строителя случился удар, и ему пришлось неожиданно переехать во Флориду. Ни одна другая бригада не успевала выполнить наш заказ до рождения ребенка. В стене дома зияла дыра, потолок чердака протекал, на подошвах обуви росла плесень.
Как-то раз, на седьмом месяце беременности, я спустилась в гостиную и увидела, что Элизабет играет в ворохе листьев, занесенных в комнату из-под пластиковой завесы. Мое смятение — то ли разреветься, то ли убрать листья с ковра — прервал звонок в дверь.
Стоявший на пороге незнакомец держал в руках холщовую сумку с инструментами — она всегда была при нем, как у некоторых всегда с собой бумажник. Его спутанные волосы падали на плечи. От замызганной одежды веяло снегом, хотя для этого еще не настала пора. Шэй Борн возник неожиданно, как рекламная листовка с летнего карнавала, подхваченная зимним ветром, что вызывает лишь недоумение, где она таилась все это время.
Заговорил он сумбурно, сбиваясь с мысли. Ему даже пришлось замолчать, чтобы подобрать нужные слова и сказать то, что собирался.
— Я хочу... — начал он, но смутился и попытался снова: — У вас... есть здесь, потому что... — От напряжения у него на лбу выступили мелкие капельки пота, наконец он произнес: — Есть тут у вас какая-нибудь работа?
В этот момент ко мне подбежала Элизабет, и я стала закрывать дверь, инстинктивно защищая дочь.
Уходи, подумала я, а вслух выпалила:
— Пожалуй, нет...
Элизабет взяла меня за руку и, подняв взгляд на мужчину, заявила:
— Много всего надо починить.
Присев на корточки, он свободно заговорил с моей дочерью. Слова, минуту назад дававшиеся ему с большим трудом, теперь лились потоком.
— Я могу вам помочь, — заверил он.
Курт всегда предостерегал меня, что люди на самом деле не такие, какими кажутся, что, прежде чем давать обещания, необходимо выяснить все данные о человеке. На это я обычно отвечала, что он чересчур подозрителен, что он коп до мозга костей. В конце концов, самого Курта я впустила в свою жизнь просто потому, что у него добрые глаза и щедрое сердце, — и даже он сам не оспаривал результат.
— Как вас зовут? — спросила я.
— Шэй. Шэй Борн.
— Вы наняты, мистер Борн, — сказала я, и это стало началом конца.
Семь месяцев спустя
Майкл
Шэй Борн совершенно не походил на человека, которого я ожидал увидеть.
Я полагал, что встречу неуклюжего верзилу с мясистыми кулаками, короткой шеей и глазами-щелочками. Это же было преступление века — двойное убийство, приковавшее к себе внимание обывателей от Нашуа до деревушки Диксвилл-Нотч; преступление еще более ужасное из-за его жертв: маленькой девочки и полицейского, ее отчима. Оно заставляло задуматься: а безопасно ли находиться в собственном доме, не нападут ли на тебя в любой момент те, кому ты доверял? Вероятно, по этой причине прокуроры Нью-Гэмпшира впервые за пятьдесят восемь лет добивались вынесения смертного приговора.
Поскольку СМИ проводили массированную кампанию, то поговаривали даже, что вряд ли найдутся двенадцать присяжных, не успевших составить мнение об этом преступлении, но суду удалось разыскать нас. Меня раскопали в читальном зале Университета Нью-Гэмпшира, где я писал дипломную работу с отличием по математике. Я месяц жил впроголодь и не следил за новостями, так что оказался идеальным кандидатом для дела Шэя Борна, совершившего тяжкое убийство.
В первый раз, когда мы вышли гуськом из «загона» для присяжных — комнатушки в здании главного суда первой инстанции, которая вскоре стала нам чем-то вроде родного дома, — я подумал, что судебный пристав по ошибке привел нас не в тот зал. Обвиняемый был невысок ростом и имел хрупкое телосложение. Таких парней обычно донимают шутками в старших классах. На нем был твидовый пиджак, в котором он совершенно утонул, а узел галстука оттопыривался от шеи под прямым углом, словно под действием магнита. Руки в наручниках свернулись на коленях наподобие маленьких зверьков, голова была выбрита почти наголо. Он уставился на свои ноги и не поднял взгляд, даже когда судья произнес его имя, прошелестевшее, как пар из радиатора.
Пока адвокаты готовились к заседанию, в зал влетела муха. Я заметил ее по двум причинам: в марте в Нью-Гэмпшире мухи — редкость, и еще я подумал, как же прихлопнуть ее в наручниках и с цепью на поясе. Увидев перед собой насекомое, застывшее на странице желтого блокнота, Шэй Борн поднял руки и с металлическим звоном шмякнул ими по столу. Потом один за другим веером раскрыл пальцы, и муха взмыла вверх, намереваясь докучать кому-то другому.
Он перевел взгляд на меня, и я понял два факта:
1. Он напуган.
2. Он примерно одного со мной возраста.
Этот убийца-монстр напомнил мне капитана команды по водному поло, с кем в прошлом семестре я сидел рядом на семинарах по экономике. Он напомнил мне также курьера из ресторана, где выпекали пиццу с тонкой корочкой, какую я обожаю. Он даже напомнил мне недавнего прохожего, которого я увидел из машины по дороге в суд. Валил снег, и поэтому я, опустив стекло, предложил парню подвезти его. Иначе говоря, в облике осужденного не было ничего от убийцы. На его месте мог быть любой двадцатилетний юноша. На его месте мог быть я.
Разница состояла в том, что он сидел в десяти футах от меня с закованными в железо запястьями и лодыжками, а в мою задачу входило решить, заслуживает он жизни или нет.
Месяц спустя я мог бы сказать, что работа в коллегии присяжных совершенно не похожа на то, что показывают по телевизору. Мы без конца шествовали гуськом из совещательной комнаты в зал суда и обратно; ели на ланч какую-то дрянь из местного гастронома. Некоторые адвокаты упивались собственными речами, и, поверьте мне, ни один из окружных прокуроров не выступал с такой горячностью, как та девушка из сериала «Закон и порядок. Специальный корпус». Даже четыре недели спустя войти в зал суда для меня было все равно что приехать в чужую страну без путеводителя... хотя и не годилось оправдывать свое невежество тем, что я турист. От меня ждали беглого общения на иностранном языке.
Первая часть процесса завершилась: мы осудили Борна. Сторона обвинения предоставила гору улик, доказывающих, что Курт Нилон был застрелен при исполнении служебных обязанностей, когда пытался арестовать Шэя Борна, которого застал со своей падчерицей, причем в кармане последнего лежали трусики девочки. Джун Нилон, вернувшись домой после посещения гинеколога, обнаружила трупы мужа и дочери. Невнятные аргументы, предложенные защитой, — что Курт неправильно понял косноязычного Борна, что пистолет выстрелил случайно, — не шли ни в какое сравнение с бесспорными уликами обвинения. Более того, Борн ни разу не выступил в свою защиту, что могло объясняться его неумением владеть речью... или тем, что он, будучи виновен во всех грехах, был темной лошадкой и ему не доверяли собственные адвокаты.
Мы уже почти закончили со второй частью судебного процесса — стадией вынесения приговора, — то есть с тем, что отличало данное разбирательство от любого другого дела об убийстве в Нью-Гэмпшире за последние полвека. Теперь, когда было доказано, что Борн совершил преступление, нам предстояло решить, заслуживает ли он смертной казни.
Эта часть чем-то напоминала сжатый, как в «Ридерз дайджесте», вариант первой части. Сторона обвинения подвела итог свидетельским показаниям, представленным в ходе уголовного процесса, а затем защита получила возможность попытаться вызвать сочувствие к убийце. Мы узнали, что Борна воспитали приемные родители, а когда ему было шестнадцать, он поджег их дом, за что провел два года под стражей в исправительном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей. У него был маниакально-депрессивный психоз, который никогда не лечили, центральное нарушение обработки слуховой информации, он не выносил сенсорные перегрузки, испытывал сложности с чтением, письмом и речевыми навыками. Правда, все это мы уже слышали от свидетелей. И опять Шэй Борн ни разу не предстал перед судом, чтобы попросить о снисхождении.
По завершении прений сторон я заметил, как прокурор поправил полосатый галстук, прежде чем выйти вперед. Огромное различие между обычным процессом и этапом вынесения приговора с высшей мерой наказания состоит в том, кому предоставляется заключительное слово. Сам я этого не знал, но Морин, очень симпатичная пожилая присяжная — мне бы такую бабушку! — не пропустила ни одной серии «Закона и порядка» и в результате заработала себе место в управлении юстиции. В большинстве судебных процессов сторона обвинения выступала последней, и все только что сказанное жужжало у тебя в голове, когда ты шел совещаться в комнату присяжных. Однако на этапе вынесения смертного приговора сначала выступало обвинение, а потом защита использовала последний шанс изменить твое мнение.
Речь ведь действительно шла о жизни и смерти.
Прокурор остановился перед скамьей присяжных и обратился к нам:
— В истории штата Нью-Гэмпшир минуло пятьдесят восемь лет, с тех пор как юристу моего ведомства пришлось просить присяжных вынести столь же сложное и серьезное решение, как то, что предстоит принять вам, двенадцати гражданам. Это решение никому из нас не дается легко и выносится на основе установленных фактов по делу. Это решение призвано воздать должное памяти Курта Нилона и Элизабет Нилон, которых лишили жизни так трагично и подло.
Он взял в руки огромную фотографию и поднял ее как раз передо мной. Элизабет была одной из тех девочек, которые словно созданы из чего-то более воздушного, чем плоть, с бархатистой кожей и белокурыми локонами; из тех, что могли бы парить в воздухе, если бы не кроссовки на ногах. Но снимок был сделан уже после того, как ее застрелили. Забрызганные кровью лицо и волосы, широко открытые глаза. Под платьем, задравшимся при падении, — нагое тело.
— Элизабет Нилон никогда не научится делить столбиком, или скакать верхом, или выполнять переворот назад. Она никогда не поедет в лагерь с ночевкой, не пойдет на бал учащихся предпоследнего класса или выпускной вечер. Она никогда не примерит первую пару туфель на высоком каблуке, у нее никогда не будет первого поцелуя. Она никогда не пригласит домой парня знакомиться с матерью, никогда отчим не поведет ее под венец, она никогда не узнает свою сестру Клэр. Она пропустит все эти моменты и тысячу других — не из-за такой трагедии, как автомобильная авария или детская лейкемия, — а потому, что Шэй Борн решил, что она не заслуживает ничего из этого.
Прокурор достал еще одну фотографию и показал нам. Курт Нилон был убит выстрелом в живот. Голубая форменная рубашка пропиталась его багровой кровью и кровью Элизабет. Во время судебного процесса нам рассказывали, что, когда к нему подошли парамедики «скорой помощи», он не хотел выпускать девочку из рук, хотя сам истекал кровью.
— Шэю Борну мало было отнять жизнь у Элизабет. Он лишил жизни и Курта Нилона. И он не просто забрал отца Клэр и мужа Джун — он забрал офицера Нилона, служившего в полиции Линли. Он забрал тренера команды Малой лиги округа Графтон. Он забрал учредителя Дня безопасного велосипеда в начальной школе Линли. Шэй Борн забрал государственного служащего, который в момент смерти защищал не только свою дочь, но и каждого гражданина и общество в целом. Общество, которое состоит из отдельных личностей — из всех нас. — Прокурор положил фотографии на стол изображением вниз. — Есть причина, дамы и господа, по которой в Нью-Гэмпшире пятьдесят восемь лет не применялась смертная казнь. Это потому, что из множества дел, рассмотренных ранее, ни одно не соответствовало такому приговору. Однако существует причина, почему добропорядочные граждане нашего штата оставили возможность смертной казни, вместо того чтобы отменить ее, как сделали многие другие штаты. И эта причина сегодня сидит в зале суда.
Мой взгляд проследовал за прокурорским и остановился на Шэе Борне.
— Если за последние пятьдесят восемь лет по какому-то делу и могло быть назначено исключительное наказание, — заключил прокурор, — так это именно оно.
В колледже ты словно под огромным колпаком. Поступаешь туда на четыре года, забывая, что, помимо курсовых работ, промежуточных экзаменов и чемпионатов по бирпонгу, существует реальный внешний мир. Газет ты не читаешь — читаешь учебники. Новости не смотришь — смотришь шоу Леттермана. Но тем не менее до тебя доносятся отголоски внешнего мира: мать, запершая детей в машине и пустившая ее под откос в озеро, чтобы они утонули; разлюбленный муж, застреливший жену на глазах у детей; серийный насильник, месяц продержавший девочку-подростка привязанной в подвале, а затем перерезавший ей горло. Убийство Курта и Элизабет Нилон было ужасным, это верно, но разве другие были менее ужасны?
Поднялся адвокат:
— Вы признали моего клиента Шэя Борна виновным по двум пунктам тяжкого убийства, и он этого не оспаривает. Мы принимаем ваш вердикт, мы уважаем ваш вердикт. Однако в данный момент штат просит вас завершить это дело — о смерти двух человек — смертью третьего...
Я почувствовал, как между лопатками потек пот.
— ...Убив Шэя Борна, вы не сделаете ничью жизнь более безопасной. Но если вы решите не казнить его, он никуда не денется. Он будет отбывать два пожизненных срока без права на условно-досрочное освобождение. — Адвокат положил руку на плечо подсудимого. — Вы слышали рассказ о детстве Шэя Борна. Откуда ему было знать, что люди берут пример со своих близких? Как он мог научиться отличать правду от неправды, хорошее от плохого? Если уж на то пошло, где он мог узнать цвета и числа? Кто должен был читать ему сказки на ночь, как делали это родители Элизабет Нилон? — Адвокат подошел к нам. — Вы слышали, что Шэй Борн страдает маниакально-депрессивным психозом и его не лечили. Вы слышали, что у него нарушена обучаемость, поэтому простые для нас задачи представляют для него невероятную сложность. Вы видели, как трудно ему выразить свои мысли. Все это привело к тому, что Шэй сделал неправильный выбор — с чем вы, без сомнения, согласны. — Он по очереди взглянул на каждого из нас. — Шэй Борн сделал плохой выбор, — повторил адвокат, — но не усугубляйте этого своим неверным выбором.
Джун
Все зависело от присяжных. Опять.
Странная идея — отдать правосудие в руки двенадцати чужих человек. Во время вынесения приговора я наблюдала за их лицами. Там были матери — я ловила их взгляды и улыбалась, когда могла. Несколько мужчин по виду напоминали бывших военных. Был среди них и молодой парень, возможно еще не брившийся, — где уж ему принять правильное решение!
Мне хотелось посидеть рядом с каждым из них. Хотелось показать записку, оставленную Куртом после нашего первого официального свидания. Хотелось дать им прикоснуться к мягкому чепчику, в котором новорожденную Элизабет привезли домой из больницы. Хотелось, чтобы они прослушали автоответчик, — я никак не могла стереть эти записи с дорогими мне голосами, хотя всякий раз при их воспроизведении чувствовала, что с меня живьем сдирают кожу. Хотелось привести их в спальню Элизабет, где висели ночник с феей Динь-Динь и нарядные детские платья. Хотелось, чтобы они зарылись лицом в подушку Курта, вдохнули его запах. И я бы очень хотела, чтобы они пожили моей жизнью, потому что только тогда они бы поняли, что я потеряла.
В тот вечер, вернувшись домой после заключительного слова в суде, я, убаюкав Клэр, сама заснула с ней на руках. Мне приснилось, что она плачет наверху, вдали от меня. Я поднялась по лестнице в детскую, хранившую запах свежего дерева и подсыхающей краски, и открыла дверь. «Иду», — сказала я и, переступив порог, поняла, что эта комната так и не была закончена, что ребенка нет и я падаю в пустоту.
Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать.
Вольтер. За и против
Одиннадцать лет спустя
Люций
Не имею понятия, где они держали Шэя Борна, перед тем как перевести к нам. Я знал, что он был заключенным в тюрьме штата в Конкорде. Припоминаю, что смотрел по телевизору новости в тот день, когда был объявлен его приговор. Я внимательно вглядывался в окружающий мир, начавший меркнуть в моем сознании: грубый камень тюремных стен, позолоченный купол административного здания, даже очертания двери, сделанной не из металла и проволочной сетки. Его приговор тогда широко обсуждался: где можно содержать осужденного на смерть заключенного, если в вашем штате целую вечность не было таких преступников?
Ходили слухи, что фактически в тюрьме все-таки есть пара камер для смертников — неподалеку от моего скромного обиталища в специально изолированной камере на первом ярусе. Крэш Витале, имеющий мнение по любому вопросу — хотя обычно никто его не слушал, — рассказал нам, что старые камеры смертников забиты поролоновыми плитами, служащими здесь матрасами. Мне стало интересно, куда же подевались все эти лишние матрасы после появления Шэя. Одно ясно: никто не предложил их нам.
Перевод заключенных из камеры в камеру — общепринятая практика. В тюрьме не любят, когда ты чересчур к чему-то привязываешься. За пятнадцать лет моего пребывания здесь меня переводили восемь раз. Разумеется, все камеры выглядят одинаково — разница в том, что меняются соседи. Вот почему появление Шэя на первом ярусе сильно нас заинтриговало.
Это само по себе было редкостью. Шестеро заключенных нашего яруса радикально отличались друг от друга, и ничего удивительного не было в том, что один человек вызвал всеобщее любопытство. В камере номер один сидел педофил Джои Кунц, занимавший нижнюю ступень неофициальной иерархии. В камере номер два находился Кэллоуэй Рис, полноправный член «Арийского братства». В камере номер три был я, Люций Дефрен. Четвертая и пятая камеры пустовали, поэтому мы знали, что нового заключенного поместят в одну из них. Вопрос был в том, окажется он ближе ко мне или к парням из трех последних камер: Тексасу Райделлу, Поджи Симмонсу и Крэшу, самозваному лидеру первого яруса.
Пока Шэя Борна вели в сопровождении фаланги из шести тюремных охранников в шлемах, бронежилетах и защитных масках, мы все прильнули к дверям наших камер. Надзиратели прошли мимо душевой, расположенной в начале галереи, прошаркали мимо камер Джои и Кэллоуэя и задержались прямо напротив меня, так что мне удалось хорошо рассмотреть Борна. Он был маленьким и щуплым, с коротко остриженными темно-русыми волосами и глазами цвета Карибского моря. Я знал о Карибах, потому что провел там последний отпуск с Адамом. Хорошо, что у меня не такие глаза. Не хотелось бы каждый день, глядя в зеркало, вспоминать о месте, которое никогда больше не увижу.
И вот Шэй Борн повернулся ко мне.
Может, сейчас самое время рассказать, что из-за моей внешности надзиратели старались не смотреть на меня и поэтому я иногда прятался в глубине камеры. Все мое лицо ото лба до подбородка было покрыто красно-фиолетовыми шелушащимися язвами. Большинство людей при встрече со мной вздрагивали. Даже воспитанные, как восьмидесятилетний проповедник, раз в месяц приносивший нам буклеты. Сначала он отводил глаза, а потом весь обращался в зрение, словно мой облик был еще хуже, чем ему запомнилось. Но Шэй просто встретился со мной взглядом и кивнул, как будто я не отличался от любого другого.
Я услышал, как захлопнулась дверь соседней камеры, как загремели цепи, когда Шэй просунул руки сквозь проем в двери, чтобы ему сняли наручники. Надзиратель ушел с галереи, и почти сразу раздался голос Крэша.
— Салют, смертник! — завопил он.
Из камеры Шэя Борна ответа не последовало.
— Эй, отвечай, когда с тобой говорит Крэш!
— Оставь его в покое, Крэш, — вздохнул я. — Дай бедняге время сообразить, какой ты болван.
— О-о, смертник, берегись! — протянул Кэллоуэй. — К тебе подмазывается Люций, а его последний бойфренд уже отдал Богу душу.
Послышался щелчок и звуки из телевизора, а затем Шэй, вероятно, подключил наушники, которые нам предписывалось иметь, чтобы мы не цапались из-за громкости. Я немного удивился, что смертник в состоянии купить в лавке телевизор, такой же, как у нас. Видимо, экран у этого телика был тринадцать дюймов по диагонали и корпус из прозрачного пластика, чтобы надзиратели сразу заметили, если кто-то вынет детали для изготовления оружия.
Пока Кэллоуэй и Крэш, как обычно, на пару изводили меня, я достал собственные наушники и тоже включил телик. Было пять часов, и мне не хотелось пропустить шоу Опры Уинфри. Но когда я попытался поменять каналы, ничего не вышло. Экран мигал, как будто настраиваясь на двадцать второй, но тот не отличался от третьего, пятого, Си-эн-эн или кулинарного канала.
— Эй! — принялся колотить в дверь Крэш. — Слушайте, кабель накрылся! У нас есть свои права, вы, там...
Иногда наушники не спасают.
Я прибавил громкость и стал смотреть местные новости. Показывали акцию по сбору денег для детской больницы неподалеку от Дартмутского колледжа. Там были клоуны, воздушные шарики и даже два игрока команды «Ред сокс», раздающие автографы. Камера остановилась на девочке с белокурыми волосами сказочной принцессы и голубыми полумесяцами под глазами — как раз таких детей показывают по телевидению, чтобы заставить вас раскошелиться.
— Клэр Нилон, — произнес за кадром голос репортера, — ожидает донорское сердце.
О-го-го! — подумал я. У всех свои проблемы.
Я снял наушники. Если нельзя смотреть шоу Опры, не хочу ничего другого.
Вот почему я услышал самое первое слово Шэя Борна, произнесенное на нашем ярусе.
— Да, — сказал он, и неожиданно кабель снова врубился.
Вы, вероятно, успели заметить, что я дам сто очков вперед любому кретину с первого яруса, а все потому, что на самом деле я здесь не на месте. Это было преступление на почве страсти. Вот только противоречие состоит в том, что я сфокусировался на страсти, а суд — на преступлении. Но ответьте мне, что бы сделали вы, если бы любовь всей вашей жизни нашла себе новую любовь своей жизни: кого-то моложе, стройнее, привлекательнее?
Ирония заключалась в том, что никакой приговор, вынесенный судом за убийство, не мог сравниться с тем, что губило меня в заключении. В моем последнем анализе крови, взятом полгода назад, лимфоциты упали до семидесяти пяти клеток на кубический миллиметр крови. У здорового человека, без ВИЧ, нормальное количество Т-клеток составляет тысячу и больше. Вирус проникает в эти белые кровяные тельца, то есть лейкоциты. Для борьбы с инфекцией лейкоциты размножаются, и вирус тоже. Чем слабее моя иммунная система, тем скорее я заболею или подхвачу условно-патогенную заразу вроде токсоплазмоза или цитомегаловирусной инфекции. Врачи говорят, что я умру не от СПИДа — я умру от пневмонии или бактериальной инфекции мозга. Но какая разница, это лишь слова. Все равно — умру.
Я был профессиональным художником, теперь это мое хобби, хотя в подобном месте намного сложнее достать необходимые материалы. Если прежде я предпочитал масляные краски фирмы «Винзор и Ньютон», соболиные кисти и льняной холст, который сам натягивал и покрывал левкасом, то теперь довольствуюсь тем, что окажется под рукой. По моей просьбе племянники присылали мне рисунки карандашом на картоне, я стирал картинки и снова использовал эту плотную бумагу. Я припрятывал еду, из которой можно было извлечь пигмент. Этой ночью я тружусь над портретом Адама — конечно, по памяти, больше у меня ничего не осталось. Я смешал в крышечке от бутылки из-под сока немного красного сиропа, выдавленного из конфетки «Скитлс», с горошинкой зубной пасты, а во второй крышечке — кофе с каплей воды, затем соединил все это и получил нужный оттенок его кожи — глянцевитую черную патоку.
Я заранее набросал черным цветом его черты: широкий лоб, мощная челюсть, орлиный нос. С помощью самодельного ножа я соскоблил черную краску с фотографии угольной шахты из журнала «Нэшнл джиографик» и добавил толику шампуня, чтобы получить светлый тон. Огрызком карандаша перенес цвет на мое импровизированное полотно.
Господи, как он был красив!
Шел уже четвертый час ночи, но, честно говоря, я сплю немного. А когда засыпаю, часто хожу в туалет, хотя теперь я ем совсем мало, пища проскакивает через меня на раз-два. Меня часто тошнит, болит голова. Из-за стоматита трудно глотать. И когда меня одолевает бессонница, я занимаюсь творчеством.
Этой ночью я сильно вспотел. Проснулся весь мокрый и, сняв простыни, не захотел снова ложиться на матрас. Вместо этого достал свою картину и принялся заново создавать Адама. Но меня отвлекали другие его портреты, висевшие на стенах камеры: Адам стоит в той самой позе, впервые поразившей меня, когда он служил моделью в арт-классе, где я преподавал. Лицо Адама, когда он открывает глаза утром. Адам оглядывается через плечо в тот момент, когда я в него стреляю.
— Мне надо это сделать, — сказал Шэй Борн. — Это мой единственный шанс.
С момента своего появления днем на первом ярусе он не проронил ни слова, и я недоумевал, с кем он ведет разговор в этот ночной час. Галерея была пуста. Может быть, ему приснился кошмар?
— Борн? — прошептал я. — Ты в порядке?
— Кто... здесь?
Слова давались ему с трудом — он не заикался, нет, но каждый слог был как камешек, который ему приходилось проталкивать вперед.
— Я Люций, Люций Дефрен, — ответил я. — Ты с кем-то разговариваешь?
Он помедлил с ответом.
— Кажется, я разговариваю с тобой.
— Не спится?
— Я мог бы поспать, — ответил Шэй. — Просто не хочется.
— Значит, тебе повезло больше, чем мне, — заметил я.
Это была шутка, но он воспринял ее по-своему.
— Ты не такой везучий, как я, а я менее невезучий, чем ты, — сказал он.
Что ж, по-своему Шэй Борн был прав. Может, мне не вынесли такой же приговор, как ему, но, как и он, я умру в стенах этой тюрьмы — скорее рано, чем поздно.
— Люций, — позвал он, — чем ты сейчас занимаешься?
— Рисую.
Повисло молчание.
— Что — свою камеру?
— Нет. Портрет.
— Зачем?
— Я художник.
— Однажды в школе учитель рисования сказал, что у меня классические губы, — вспомнил Шэй. — До сих пор не понимаю, что это значит.
— Это отсылка к древним грекам и римлянам, — объяснил я. — А искусство, которое мы видим представленным на...
— Люций, ты видел сегодня по телику... «Ред сокс»?..
У всех обитателей нашего яруса, включая меня, есть свои любимые команды. Каждый из нас ведет дотошный счет очкам в турнирной таблице. Мы обсуждаем справедливость действий рефери, как будто мы судьи из Верховного суда. Иногда надежды наших команд разбиваются, как и у нас самих, а по временам мы смотрим по телику мировые турниры. Но сейчас продолжалось предсезонье, и вечером никаких игр не показывали.
— За столом сидел Шиллинг, — добавил Шэй, с трудом подыскивая нужные слова. — И там была девочка...
— Ты имеешь в виду акцию по сбору средств? Ту, что проводилась в больнице?
— Да, та девочка, — повторил Шэй. — Я хочу отдать ей свое сердце.
Не успел я ответить, как раздался грохот и вслед за ним глухой звук от падения тела на бетонный пол.
— Шэй? — позвал я. — Шэй!
Я прижался лицом к оргстеклу. Мне совсем не видно было Борна, но я слышал какие-то ритмические удары в дверь его камеры.
— Эй! — изо всей мочи завопил я. — Эй, нам тут внизу нужна помощь!
Зэки начали просыпаться, проклиная меня за то, что я нарушил их покой, но вскоре умолкли от изумления. На первый ярус ворвались двое надзирателей в бронежилетах. Один из них, Каппалетти, считал своим долгом всегда кого-нибудь осаживать. Другой, Смайт, относился ко мне сугубо профессионально. Каппалетти остановился перед моей камерой:
— Дефрен, если ты поднял ложную тревогу...
Но Смайт уже опустился на колени перед камерой Шэя:
— По-моему, у Борна припадок. — Он нажал клавишу на рации, и электронные двери раздвинулись, чтобы пропустить других офицеров.
— Дышит? — спросил один.
— Переверните его, на счет «три»...
Прибыли парамедики «скорой помощи» и повезли Шэя мимо моей камеры на каталке — носилках с ремнями на уровне плеч, живота и ног. Их применяли для перевозки зэков вроде Крэша, доставляющих беспокойство, даже если они закованы в цепи на уровне пояса и лодыжек, или для транспортировки больных, не способных дойти до лазарета. Я предполагал, что покину первый ярус на одной из таких каталок. Но в тот момент я понял, что эта каталка очень напоминает стол, к которому однажды пристегнут Шэя для введения ему смертельной инъекции.
Парамедики надели на лицо Шэя маску, запотевавшую все больше с каждым его вдохом. Глаза Шэя закатились, были видны только белки.
— Сделайте все возможное, чтобы привести его в чувство, — инструктировал надзиратель Смайт.
Так я узнал, что штат спасает умирающего, чтобы позже убить его.
Майкл
В церкви мне нравилось очень многое.
Например, чувство, которое я испытывал, когда во время воскресной мессы двести голосов возносились в молитве к стропилам. Или то, что у меня всякий раз дрожали руки, когда я предлагал прихожанину облатку. Мне нравилось недоверчивое выражение лица какого-нибудь тинейджера, когда тот с вожделением смотрел на мотоцикл «триумф-трофи» шестьдесят девятого года, отремонтированный мной, а потом оказывалось, что я священник и что быть крутым и быть католиком — вовсе не взаимоисключающие понятия.
Я служил младшим священником в церкви Святой Екатерины, что была одним из четырех приходов Конкорда, штат Нью-Гэмпшир. Почему-то времени постоянно не хватало. Мы с отцом Уолтером по очереди совершали мессу или выслушивали исповеди. Иногда нас просили провести урок в приходской школе соседнего городка. Всегда находились больные, чем-то обеспокоенные или одинокие прихожане, которые ждали нашего посещения. Всегда надо было читать молитвы. Но мне доставляли радость даже самые обычные дела: подмести вестибюль или вымыть сосуды для евхаристии в приделе, чтобы ни одна капля праведной крови не оказалась в канализации Конкорда.
У меня не было своего кабинета в церкви Святой Екатерины, в отличие от отца Уолтера. Но он столь давно служил в приходе, что воспринимался такой же его частью, как скамьи из палисандрового дерева и плюшевые драпировки у алтаря. Правда, он повторял, что постарается освободить для меня место в чулане, где он дремал после обеда. Но разве я мог позволить себе разбудить человека семидесяти с лишним лет и выпроводить его? Вскоре я перестал просить об этом одолжении, а просто поставил небольшой письменный стол в кладовке, где хранился хозинвентарь.
Сегодня мне предстояло написать проповедь. Я знал, что если уложусь в семь минут, то пожилые прихожане не заснут. Но вместо проповеди мои мысли были заняты одной из наших самых юных членов общины. Ханна Смайт была первым ребенком, которого я крестил. Теперь, всего год спустя, она то и дело попадала в больницу. Неожиданно у нее случился отек горла, и обезумевшие родители срочно везли ее в отделение скорой помощи для интубации, а там порочный круг начинался снова. Я вознес короткую молитву Богу, чтобы врачи вылечили Ханну. Когда я осенял себя крестным знамением, к моему столу подошла миниатюрная женщина с серебристыми волосами:
— Отец Майкл?
— Мэри Лу, как поживаете? — откликнулся я.
— Вы не могли бы уделить мне несколько минут?
Мэри Лу Хакенс обычно не ограничивалась несколькими минутами, а могла говорить час напролет. У нас с отцом Уолтером был неписаный уговор спасать друг друга от ее неумеренных восторгов после мессы.
— Чем могу вам помочь?
— Мне очень неловко, — призналась она. — Просто я хотела узнать, не можете ли вы благословить мой бюст.
Я улыбнулся ей. Прихожане часто просили нас помолиться за предмет поклонения.
— Разумеется. Он у вас с собой?
Она посмотрела на меня как-то странно:
— Ну конечно.
— Отлично! Давайте взглянем на него.
Мэри Лу скрестила руки на груди:
— В этом нет необходимости!
С опозданием уразумев, что именно она просила меня благословить, я почувствовал, как к моим щекам прилила кровь.
— Прошу прощения... — залепетал я. — Я не имел в виду...
Ее глаза наполнились слезами.
— Завтра мне удаляют опухоль молочной железы, отец, и я в ужасе.
Поднявшись, я обнял ее за плечи, подвел к ближайшей скамье и предложил бумажную салфетку.
— Простите, — всхлипнула она, — не знаю, с кем еще можно поговорить. Если я скажу мужу, то, боюсь, он тоже испугается.
— Вы знаете, с кем можно говорить, — мягко произнес я. — И вы знаете, что Он всегда слушает. — Я коснулся ее макушки. — Всемогущий и вечный Боже, бессмертный Спаситель всех верующих, услышь нас от имени Твоего слуги Мэри Лу, для которой мы молим о Твоем милосердии, а после восстановления ее телесного здоровья она воздаст Тебе благодарность в Твоей церкви. Во имя Господа, аминь.
— Аминь, — прошептала Мэри Лу.
Это еще одно, что мне нравится в церкви: никогда не знаешь, чего ждать.
Люций
Шэй Борн вернулся на первый ярус после трех дней в лазарете, и у него появилась миссия. Каждое утро, когда приходили надзиратели, чтобы узнать, кто хочет в душ или на прогулку во двор, Шэй спрашивал разрешения поговорить с начальником тюрьмы Койном.
— Заполни запрос, — снова и снова твердили ему, но, похоже, до него не доходило.
Когда наступала его очередь гулять на плацу, напоминавшем тесную клетку, он вставал в дальнем углу и, глядя в сторону административного корпуса, изо всей мочи выкрикивал свое требование. Когда ему приносили обед, он спрашивал, согласился ли начальник поговорить с ним.
— Знаете, почему его перевели на первый ярус? — спросил однажды Кэллоуэй, когда Шэй вопил из душа, требуя аудиенции у Койна. — Потому что на прежнем месте все от него оглохли.
— Он ведь тормоз, — отозвался Крэш. — Тут уж ничего не попишешь. Верно, Джои?
— Он не умственно отсталый, — сказал я. — Возможно, у него ай-кью в два раза выше, чем у тебя, Крэш.
— Заткнись, ты, мазилка! — приказал Кэллоуэй. — Заткнитесь, все!
Кэллоуэй опустился на колени у двери своей камеры, выуживая что-то с помощью переплетенных нитей, вытянутых из одеяла и привязанных одним концом к свернутому в трубочку журналу. Он забросил удочку в центр узкого перехода — рискованный трюк, поскольку надзиратели могли вернуться в любую минуту. Мы обычно передавали что-нибудь друг другу таким способом: книжку в мягкой обложке, шоколадный батончик. Поначалу мы не могли сообразить, чем он там занят, но вскоре заметили на полу маленький яркий овал. Лишь Господу Богу известно, зачем птице понадобилось свить гнездо в такой дыре, но несколько месяцев назад птаха, залетевшая к нам через прогулочный плац, сделала это. Одно яйцо вывалилось из гнезда и разбилось, недоразвившийся птенец дрозда лежал на боку, его тощая сморщенная грудка ходила ходуном.
Кэллоуэй дюйм за дюймом смотал бечевку.
— Он не выживет, — заметил Крэш. — Маме он уже не нужен.
— Ну а мне — нужен, — сказал Кэллоуэй.
— Положи его в теплое место, — предложил я. — Заверни в полотенце или типа того.
— Или в футболку, — добавил Джои.
— Не нуждаюсь в советах чмо, — заявил Кэллоуэй, но секунду спустя спросил: — Думаешь, футболка подойдет?
Пока Шэй вопил, призывая начальника, все слушали прямой репортаж Кэллоуэя. Дрозда завернули в футболку. Дрозда засунули в кед. Дрозд повеселел. Дрозд на полсекунды приоткрыл левый глаз.
Мы все успели позабыть, каково это — сильно любить что-то или кого-то и очень бояться это потерять. В первый год, попав сюда, я представлял себе, что полная луна — мой домашний любимец, что она раз в месяц приходит именно ко мне. А прошлым летом Крэш занимался тем, что обмазывал джемом решетку вентиляционной трубы, чтобы привлечь колонию пчел, но делал это не из любви к пчеловодству, а потому, что ошибочно полагал, будто может выдрессировать их для нападения на спящего Джои.
— Ковбои идут, — предупредил Крэш о приближении надзирателей к галерее.
Через минуту двери с лязгом открылись. Офицеры стояли перед камерой с душем, ожидая, когда Шэй просунет руки в проем, чтобы надеть ему наручники для перемещения на двадцать футов обратно в камеру.
— Они не знают, что это может быть, — сказал надзиратель Смайт. — Они исключили легочные проблемы и астму. Говорят, похоже на аллергию, но мы все убрали из ее комнаты, Рик, так что детская теперь голая, как камера.
Иногда надзиратели болтали при нас друг с другом. Они никогда не посвящали заключенных в свою жизнь, и это, по сути, было хорошо. Мы не хотели знать, что у парня, который подвергает нас полному личному досмотру, есть сын, забивший победный гол в футбольном матче в прошлый четверг. Лучше обойтись без сантиментов.
— Врачи говорят, — продолжал Смайт, — что ее сердечко не выдержит такого стресса. И я тоже не выдержу. Представь, каково это — видеть свою крошку со всеми этими подключенными трубками и мешочками?
Второй надзиратель, Уитакер, был католиком. Он любил подбрасывать на мой обеденный поднос написанные от руки цитаты из Библии, осуждавшие гомосексуализм.
— Отец Уолтер в воскресенье читал молитву за Ханну. Он сказал, что с радостью навестит тебя в больнице.
— Нет ничего такого, что я хотел бы услышать из уст священника, — пробормотал Смайт. — Что это за Бог, который творит подобное с ребенком?
Руки Шэя проскользнули через окошко в душевой камере, на них надели наручники, и дверь открылась.
— Начальник говорил, что примет меня?
— Угу, — пробубнил Смайт, ведя Шэя в камеру. — Он приглашает тебя на крутое чаепитие!
— Мне просто надо поговорить с ним пять минут...
— Не у тебя одного проблемы, — огрызнулся Смайт. — Заполни запрос.
— Не могу, — ответил Шэй.
Я откашлялся:
— Офицер, можно мне тоже бланк запроса, пожалуйста?
Он запер камеру Шэя, вынул бланк из кармана и просунул его в окошко моей камеры.
Когда надзиратели выходили с галереи, послышалось тонкое невнятное чириканье.
— Шэй? — спросил я. — Почему ты не хочешь сделать запрос?
— Не могу найти правильные слова.
— Уверен, начальнику наплевать на грамматику.
— Нет, когда я пробую писать, то путаю буквы.
— Так скажи мне, и я напишу за тебя.
Наступила пауза.
— Ты сделаешь это для меня?
— Вы оба, завязывайте с мыльной оперой! — вмешался Крэш. — Меня от вас тошнит.
— Скажи начальнику, — начал диктовать Шэй, — что я хочу пожертвовать свое сердце, после того как он меня прикончит. Я хочу отдать его девочке, которой оно нужно больше, чем мне.
Я приложил бланк к стене и написал все это карандашом, поставив подпись Шэя. Привязав запрос к своей удочке, я забросил листок в узкую щель под дверью его камеры.
— Отдай это надзирателю, который будет делать обход завтра утром.
— Эй, Борн, — вмешался Крэш, — не представляю, что бы я с тобой сделал. С одной стороны, ты подонок, убивший ребенка. За то, что ты сотворил с этой девчушкой, я бы пожелал тебе стать грибковой паршой, покрывающей Джои. Но с другой стороны, ты завалил копа, и я благодарен тебе за то, что на свете стало одной свиньей меньше. И что я, по-твоему, должен испытывать? Ненавидеть тебя или уважать?
— Ни то ни другое, — сказал Шэй. — То и другое.
— Знаешь, что я думаю? Убийство ребенка перевешивает все добро, что ты мог совершить.
Крэш встал перед дверью своей камеры и принялся молотить по оргстеклу металлической кофейной кружкой:
— Вышвырните его! Вон! Вон!
Джои, привыкший довольствоваться положением пешки, первым подхватил эти выкрики. Вскоре к ним присоединились Тексас и Поджи, поскольку они всегда слушались Крэша.
— Вышвырните его!
— Вышвырните его!
Из громкоговорителя зазвучал голос Уитакера:
— У тебя проблемы, Витале?
— У меня проблем нет. Проблемы есть у этого гаденыша, убившего ребенка. Вот что я скажу, офицер. Выпустите меня на пять минут, и я освобожу прилежных налогоплательщиков Нью-Гэмпшира от необходимости избавиться от него...
— Крэш, — тихо произнес Шэй, — остынь.
Меня отвлек свистящий шум, что вдруг стал доноситься из моей крошечной раковины. Только когда вода хлынула из крана, я встал посмотреть. Происходящее было примечательно в двух отношениях: обычно вода текла тоненькой струйкой, даже в душе. К тому же жидкость, которая сейчас выплескивалась из металлической раковины, была густого красного оттенка.
— Мать твою! — заорал Крэш. — Меня затопило!
— Чувак, это похоже на кровь, — в ужасе произнес Поджи. — Я не стану этим умываться.
— В унитазе то же самое, — добавил Тексас.
Все мы знали, что трубы в наших камерах соединяются. Это означало, что буквально невозможно было отделаться от дерьма, приносимого от соседей. Однако ты мог фактически отправить по трубам свое послание вдоль всего коридора. Перед тем как попасть в канализацию, оно ненадолго появлялось в раковине соседней камеры. Я обернулся и заглянул в свой унитаз. Вода была темной, как рубин.
— Чтоб мне провалиться, — проронил Крэш. — Это не кровь. Это вино.
Он загоготал как помешанный:
— Угощайтесь, дамы. Выпивка за счет заведения.
Я выжидал. Я не пил там воду из-под крана. И без того меня не покидало чувство, что мои препараты от СПИДа могли быть частью какого-то государственного эксперимента, проводимого над обреченными узниками... Я не был готов пить из системы водоочистки, контролируемой той же администрацией. Но потом я услышал смех Джои и причмокивание, с каким Кэллоуэй пил из крана, и пьяные песни Тексаса и Поджи. Действительно, настрой всего яруса радикально изменился, и вскоре мы услышали по интеркому рокочущий голос Уитакера, явно смущенного картинками на мониторах.
— Что там у вас происходит? — спросил он. — Утечка в водопроводе?
— Можно и так сказать, — ответил Крэш. — Или можно сказать, нас одолела сильная жажда.
— Присоединяйтесь, офицер, — добавил Поджи. — Поставим еще выпивку.
Всем это вроде казалось смешным, но они уже успели приговорить примерно полгаллона этого непонятного пойла. Я опустил палец в темный поток, продолжавший бить из моей раковины. Это могла быть вода с примесью железа или марганца, но на самом деле эта липкая жидкость пахла сахаром. Я нагнул голову к крану и начал осторожно пить.
Мы с Адамом были тайными сомелье и ездили на виноградники Калифорнии. На мой день рождения в том последнем году Адам подарил мне бутылку «Каберне-Совиньон» две тысячи первого года производства «Доминус Эстейт». Мы собирались распить ее в канун Нового года. Несколько недель спустя, когда я вошел в комнату и увидел их, переплетенных, как тропические лианы, эта бутылка тоже была там — опрокинувшись, она упала с тумбочки и запятнала ковер спальни, как и пролитая перед тем кровь.
Если бы вы просидели в тюрьме с мое, то испробовали бы много всяких инновационных способов кайфануть. Я пил крепкое пойло, полученное перегонкой из фруктового сока, хлеба и леденцов. Я вдыхал дезодорант-спрей и курил высушенную банановую кожуру, завернутую в страничку из Библии. Но это было нечто новое. Настоящее вино, клянусь Богом!
Я расхохотался. Но потом зарыдал, оплакивая то, что потерял, — то, что теперь буквально утекало у меня сквозь пальцы. Вам может недоставать только того, о чем вы помните. Прошло много времени с момента, когда земные блага перестали быть частью моей повседневной жизни. Я налил вина в пластмассовую кружку и выпил его. Я делал это снова и снова, постепенно забывая, что все необыкновенное в жизни кончается. Учитывая мою историю, я мог бы читать лекции на эту тему.
Наконец надзиратели сообразили, что с водопроводом случилась какая-то заваруха. Двое из них, кипя от злости, поднялись на наш ярус и задержались перед моей дверью.
— Ты! — скомандовал Уитакер. — Наручники.
Вся эта кутерьма с заковыванием моих запястий в наручники через открытое окошко камеры затевалась ради того, чтобы Уитакер мог отпереть дверь и обследовать камеру, пока Смайт сторожит меня. Я смотрел через плечо, как Уитакер опускает мизинец в поток вина и подносит его к языку.
— Люций, что это такое? — удивился он.
— Сначала я подумал, каберне, офицер, — ответил я. — Но теперь склоняюсь к дешевому мерло.
— Вода поступает из городского резервуара, — сказал Смайт. — Заключенным нельзя туда лезть.
— Может, это чудо, — пропел Крэш. — Вы же все знаете о чудесах, так ведь, офицер, фанатик веры?
Дверь моей камеры закрыли и освободили мне руки. Уитакер вышел на мостик яруса.
— Кто это сделал? — спросил он, но мы его не слушали. — Кто несет за это ответственность?
— Какая разница? — откликнулся Крэш.
— Так помогите мне. Если ни один из вас не сознается, я попрошу, чтобы сантехники на всю неделю отключили вам воду, — начал угрожать Уитакер.
— Уит, — рассмеялся Крэш, — Американский союз защиты гражданских свобод нуждается в живом примере.
Под наш хохот надзиратели стремительно ретировались с яруса. Смешными становились совсем не забавные вещи, я даже был не против послушать Крэша. В какой-то момент вино потекло тонкой струйкой и потом иссякло, но Поджи уже вырубился, а Тексас и Джои стройно пели балладу «Дэнни-бой», я же быстро отключался. Фактически последнее, что я помнил, — это как Шэй спрашивает Кэллоуэя, как тот назовет свою птичку, и его ответ: Бэтмен-Робин. И еще Кэллоуэй подбивал Шэя на состязание по выпивке, но Шэй говорил, что воздержится. И что он вообще не пьет.
После превращения в вино водопроводной воды на нашем ярусе в камеры два дня кряду шел непрерывный поток сантехников, научных работников и тюремных администраторов. Очевидно, мы были единственным блоком в тюрьме, где такое случилось. Представители власти поверили этому, потому что после обыска надзиратели конфисковали из наших камер флаконы с шампунем, молочную тару и даже пластиковые пакеты, которые мы находчиво использовали для хранения излишков вина. Кроме того, на стенках труб было обнаружено соответствующее вещество. Хотя никто не собирался показывать нам результаты лабораторных анализов, ходили слухи, что исследуемая жидкость явно не водопроводная вода.
Наши прогулки и душ отменили на неделю, как будто мы были виноваты в случившемся. Только через сорок три часа ко мне пустили тюремную медсестру Алму, от которой всегда пахло лимонами и постельным бельем, а на ее голове в виде башни кольцами была уложена коса. Я все думал, к каким ухищрениям она прибегает, когда ложится спать. Обычно она приходила дважды в день и приносила мне полный стаканчик ярких и больших, как стрекозы, пилюль. Она также смазывала кремом зараженные грибком ступни заключенных, проверяла зубы, испорченные кристаллическим метамфетамином, — вообще, делала все то, что не требовало посещения лазарета. Признаюсь, несколько раз я симулировал болезнь, чтобы Алма измерила мне температуру или кровяное давление. Иногда на протяжении многих недель она была единственным человеком, прикасавшимся ко мне.
— Итак, — начала она, когда ее впустил в мою камеру надзиратель Смайт, — я слышала, у вас тут творится всякое. Расскажешь, что произошло?
— Рассказал бы, если бы мог, — ответил я, покосившись на сопровождающего ее охранника. — А может, и нет.
— Мне на ум приходит только один человек, во время оно превративший воду в вино, — сказала она. — И мой пастор уверит тебя, что этого не было в тюрьме штата в минувший понедельник.
— Возможно, твой пастор предположит это в следующий раз, когда Иисус наполнит тела прекрасным вином «Шираз».
Рассмеявшись, Алма сунула мне в рот термометр. Поверх ее спины я рассматривал Смайта. Покрасневшими глазами он в задумчивости уставился на стену, вместо того чтобы следить за мной и не дать мне совершить какую-нибудь глупость, например взять Алму в заложники.
Запикал термометр.
— У тебя по-прежнему повышенная температура.
— Скажи мне что-то, чего я не знаю, — ответил я, нащупав кровь у себя под языком, сочащуюся из язв — неотъемлемых при этой ужасной болезни.
— Принимаешь лекарства?
— Ты же видишь, как я каждый день запихиваю их себе в рот, — пожал я плечами.
Алма знала, что любой заключенный может придумать свой способ убить себя.
— Только не умирай при мне, Юпитер, — сказала она, стирая что-то липкое с красного пятна у меня на лбу, благодаря которому я получил это прозвище. — Кто еще расскажет мне то, что я пропустила в «Главном госпитале»?
— Пустяковый повод околачиваться здесь.
— Я слышала и похуже.
Алма повернулась к надзирателю Смайту:
— Мы закончили.
Она ушла, и по команде с пульта управления дверь плавно закрылась под скрежет металлических зубьев.
— Шэй, — позвал я, — не спишь?
— Не сплю.
— Пожалуй, тебе стоит закрыть уши.
Шэй не успел спросить почему, а Кэллоуэй уже разразился потоком ругательств, что происходило постоянно, когда Алма приближалась к нему на пять футов.
— Проваливай отсюда, черномазая! — завопил он. — Клянусь Богом, что оттрахаю тебя, если только прикоснешься ко мне...
Надзиратель Смайт прижал дебошира к стене камеры.
— Ради всего святого, Рис, — сказал он, — неужели из-за чертова пластыря каждый день должно повторяться одно и то же?
— Да, если его клеит эта черная сука.