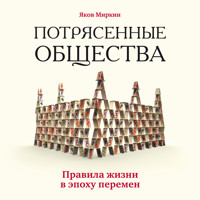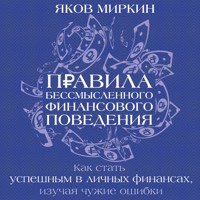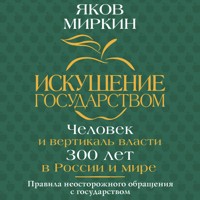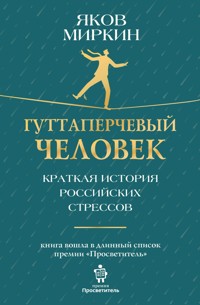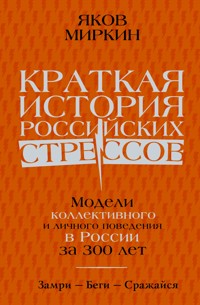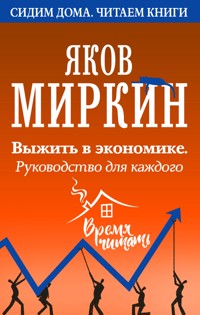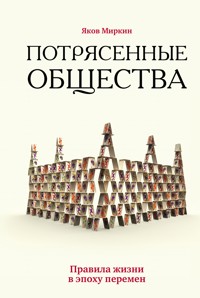
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Мы все знаем выражение «общественные потрясения». Но как жить в «потрясенном» обществе, как сохранить в нем имущество, достоинство, душевное равновесие — и саму жизнь? Как выдержать первый удар, когда привычный мир вдруг рухнул? Как выйти из кризиса умудренным и окрепшим? Кто, как не Россия, даст ответы на эти вопросы, ведь нас столетиями кидает из крайности в крайность. Яков Миркин давно известен как собиратель и бережный хранитель исторического опыта России в преодолении войн, революций, репрессий, кризисов. Он выстроил целую портретную галерею политиков, ученых, деятелей культуры, по-разному реагировавших на стресс. Но эта книга уникальна. Она не только о прошлом, но и о нынешнем опыте. Автор собрал более 100 личных историй своих подписчиков и создал поистине исцеляющую книгу – без поиска правых и виноватых, без ярлыков и обвинений. Врачующую душу книгу о том, как на протяжении 200 лет наши предки и современники выживали в эпохи бесконечных перемен.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Автор и издательство выражают благодарность Марине Новиковой-Грунд за предоставленные тексты.
Миркин, Яков Моисеевич
Потрясенные общества. Правила жизни в эпоху перемен / Я. М. Миркин. — Москва : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2025.
ISBN 978-5-389-28426-5
16+
Мы все знаем выражение «общественные потрясения». Но как жить в «потрясенном» обществе, как сохранить в нем имущество, достоинство, душевное равновесие — и саму жизнь? Как выдержать первый удар, когда привычный мир вдруг рухнул? Как выйти из кризиса умудренным и окрепшим? Кто, как не Россия, даст ответы на эти вопросы, ведь нас столетиями кидает из крайности в крайность.
Яков Миркин давно известен как собиратель и бережный хранитель исторического опыта России в преодолении войн, революций, репрессий, кризисов. В своих статьях и книгах он выстроил целую портретную галерею политиков, ученых, деятелей культуры, по-разному реагировавших на стресс. Но эта книга уникальна. Она не только о прошлом, но и о нынешнем опыте. Автор собрал более 100 личных историй своих подписчиков и создал поистине исцеляющую книгу — без поиска правых и виноватых, без ярлыков и обвинений. Врачующую душу книгу о том, как на протяжении 200 лет наши предки и современники выживали в эпохи бесконечных перемен.
© Миркин Я. М., текст, 2024
© Издание на русском языке, оформление.ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2025Азбука Бизнес®
Предисловие
Когда в стране все переворачивается, она может стать страной убывающей ценности — нас самих, наших идей, нашей памяти, нашего имущества, нашего будущего.
Мы попадаем в общество крайностей, в «потрясенное» общество.
В нем — все не так, как, мы ждем, должно быть.
Как жить в нем, сохраняя достоинство? Как выдержать первый удар? Как продолжать то, чем занимался всю жизнь? На какие изменения надеяться? Как их готовить?
Как вытерпеть время, которое кажется вычетом из жизни?
Как внутренне отделиться? Как не стать экономической жертвой? Политической?
Как окуклиться — в той мере, в какой это вообще возможно в современном обществе?
Как, даже в самые тяжелые времена, играть на усиление?
Собственно, это вопросы старые, и если мы заглянем в прошлое, даже недавнее прошлое, то найдем многих наших двойников. Им пришлось отвечать на вызовы, которые перед нами только стоят.
Их судьбы известны. По ним можно судить о том, что у нас впереди.
Так что хватит вопросов.
Нужно попытаться дать ответы.
1. Мы склонны к крайностям
Что такое «потрясенное общество»?
Есть крайние состояния общества, в которых трудно выживать любому, независимо от убеждений и личной судьбы. Общество: а) подвержено распаду, в нем нарастает хаос, или б) репрессировано, в нем обрушены свободы, засилье прямого управления сверху, или в) находится в состоянии быстрых, глубоких изменений, крайне неустойчиво, резкие колебания во всех сторонах жизни, шторм.
В том числе:
1) война, мобилизационная экономика;
2) анархия, распад, безвластье, двоевластье, революции, перевороты и т. п. Взрывные изменения в политической и других структурах общества;
3) массовые гонения, жестокости властей, кампании насилия (в отношении крупных групп населения);
4) общество «победивших» вертикалей. Унификация, насаждение одной идеологии, одних и тех же мифов, пронизывающих общество. Преобладание, резкое усиление прямого административного подчинения сверху вниз, глубокие ограничения индивидуальных свобод. Всеобъемлющий контроль за коллективным и личным поведением. Когда ни влево, ни вправо, человек — в клетке;
5) административная экономика — подавляющее преобладание государства в собственности, резкое сокращение всех видов рынков, приказная экономика (план — назначение, что производить, прямое административное распределение всех ресурсов, нормирование потребления, назначение сверху цен, зарплат, процента, валютных курсов и других экономических переменных), жесткий, репрессивный контроль за исполнением всех назначений, идущих сверху;
6) реформы (глубокие изменения в структуре собственности, целеполагания, ключевой идеологии и институтов общества, моделей коллективного поведения), вызывающие крайнюю нестабильность;
7) острые кризисы (экономические, финансовые, социальные), глубокие сокращения производства, гиперинфляция, денежные реформы, резкие падения реальных доходов, взрывные девальвации, разрушения финансовых рынков и т. п.;
8) бедствия, катастрофы, эпидемии, охватывающие всю страну, имеющие национальный масштаб (природные или вызванные человеком).
Наша склонность к крайностям
Мы постоянно попадаем в состояние потрясенного общества.
Нас столетия, как маятник, качает из стороны в сторону. Нет такой крайности, которую бы не пыталась перепробовать Россия. И нет такой идеи, которую мы бы не попытались превратить в крайнюю. В каждом столетии — две — четыре поворотные точки [1]. Эти повороты — на десятки лет.
Мы удивительно умеем наносить себе тяжелейшие удары. Мы весь XX в. прошли, впадая в крайности, с огромными потерями населения — миллионов людей, где каждый — целый мир.
Впрочем, в крайностях можно было бы дотянуться до XVI в. или еще дальше.
Кто еще так думал?
Петр Валуев, 1866 (ему 51 год), министр внутренних дел Александра II, один из великой команды его реформаторов:
«Бедная Россия! Что вытерпела она при Иоанне Грозном! Сравнивая нашу историю с другими историями, нельзя не остановиться на некоторых азиатских чертах. Жестокость еще свирепее и беззастенчивее, чем на Западе, терпение и покорность еще безответнее. Неисповедимые тайны промысла! Зачем нужно было столько страданий и столько крови!» [2]
Это когда-нибудь прекратится? Мы затвердили эти уроки?
Впрочем, мы не одиноки. Потрясенные общества — в мире не редкость.
Как нас раскачивает. Поворотные точки в истории России (XIX–XX вв.)
Март 1801, июнь 1812, декабрь 1825, февраль 1855, март 1881, октябрь 1905, август 1914, февраль — октябрь 1917, март 1921, 1928–1929, июнь 1941, март — декабрь 1953, октябрь 1964, март 1985, август — декабрь 1991, декабрь 1999.
Все это поворотные точки. Не менее десяти из них — переход к потрясенному состоянию общества.
Среди них есть войны.
Другие точки — это циклы либерализации — централизации («затягивания гаек») или даже сверхцентрализации Российского государства [3].
В зависимости от убеждений любой из этих поворотов для одних был потерей смыслов всей жизни, а для других — счастьем.
1810-е (война), 1820-е — 1850-е (сверхцентрализация, войны, восстания), 1860-е — 1880-е (великие реформы, террор), 1900-е — 1920-е (войны, революции, террор), 1930-е — 1950-е (войны, сверхцентрализация, репрессии), 1980-е — 2020-е (реформы, кризисы, военные конфликты, сверхлиберализация, затем сверхцентрализация) — все это состояния потрясенного общества в России.
Всегда в великом напряжении и болезненном состоянии.
Опустынивание. XX в. [4]
В 1897 году в современных границах России жили 67,5 млн чел. (Росстат). По прогнозу Менделеева в 2000 г. население Российской империи должно было достичь 594 млн чел. [5]. Для нынешней России это означало бы больше 310 млн чел.
Так могло бы случиться? Случилось бы, если бы не было войн и революций, волн эмиграций и голода? Несмотря на падение рождаемости в XX в.? На эти вопросы нет ответа. В США в 1900 г. жили 76 млн чел., в 2000 г. — 281 млн чел., в 3,7 раза больше. Да, конечно, не только рождения, но еще и иммиграция. А в Бразилии? Глобальные инвесторы 20 лет с лишним считали Россию сестрой Бразилии. В 1900 г. там обитали 17,4 млн чел., в 2000 г. — 174 млн чел. (МВФ). Ровно в 10 раз больше.
Что имеем сегодня? В России живут 145–146 млн чел. В 2 с лишним раза меньше, чем ждал Менделеев. Господи, хотя бы на 50–70 млн больше! Было бы ярче жить — и гораздо легче удерживать территорию, не терять Центральную и Северо-Западную Россию (там человеческое опустынивание), сохранять живыми малые и средние поселения. И расти, быть крупнее в имуществе семей, в глобальных активах.
Потери в российских войнах XVIII в. — около 0,7 млн солдат и офицеров (убитые и умершие) [6]. В 1801–1815 гг. (Наполеоновские войны) — 0,45 млн чел., в 1815–1914 гг. (до Первой мировой войны) — 0,67 млн чел. [7]. Потери в Первую мировую войну — от 1,8 млн чел. [8].
«Если исходить из того, что в границах Российской империи — СССР потери, связанные с Первой мировой войной, революцией, Гражданской войной и сопровождавшими их разрухой, голодом и эпидемиями, находятся в вилке между 14 млн и 21–23 млн преждевременно умерших, потери от голода 1932–1933 гг. составляют от 4 млн до 8 млн умерших, потери от политических репрессий — 4–6 млн, потери, обусловленные Второй мировой войной, — 27 млн, да еще 1 млн — от голода 1946–1947 гг., то общее число преждевременных смертей за первую половину века достигает 50–65 млн.
Примерно половину этих потерь — 25–35 млн человек — можно условно рассматривать как собственно российские — в нынешних границах Российской Федерации, но, конечно, — лишь в первом приближении» [9].
Накопленные демографические потери (включают нерожденных) только к 1954 г. по России — 76 млн чел. «Эти 76 млн человек и есть демографическая цена социальных потрясений и катастроф, обрушившихся на страну в первой половине минувшего столетия» [10].
И наконец, 1990-е, великие потрясения. C 1991 по 2001 г. население России сократилось на 2 млн чел. В пандемию 2020–2022 гг. «избыточная смертность» — больше 1 млн чел. (Росстат).
Все это — прямые потери, не считая нерожденных. Мы действительно выжившие, дети выживших. Но только кажется, что нас много. На самом деле нас мало, и может стать еще меньше.
Демографические прогнозы Росстата до 2035 г. пока только об одном — число людей в России может сохраниться лишь за счет миграции.
Это значит только одно — великую ценность каждой жизни ради нее самой и ради народа в целом. Хрупкость общества. Его высочайшую чувствительность к любым рискам. Вот что писал Менделеев в 1906 г.: «Для меня высшая или важнейшая и гуманнейшая цель всякой “политики” яснее, проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для размножения людского» («К познанию России»). Точнее не скажешь.
Историческое ядро России
Ни о чем не говорит? Население Владимирской области в 1915 г. — 2,2 млн чел., через сто лет, в 2023 г., — 1,3 млн чел.
Воронежской области в 1915 г. — 3,6 млн чел., в 2023 г. — 2,3 млн чел.
Курской области в 1914 г. — 3,3 млн чел., в 2023 г. — 1,1 млн чел.
Орловской области в 1914 г. — 2,8 млн чел., в 2023 г. — 0,7 млн чел.
Рязанской области в 1914 г. — 2,8 млн чел., в 2023 г. — 1,1 млн чел.
Смоленской области в 1914 г. — 2,2 млн чел., в 2023 г. — 0,9 млн чел.
Тульской области в 1914 г. — 1,9 млн чел., в 2023 г. — 1,5 млн чел.
Пензенской области в 1914 г. — 1,9 млн чел., в 2023 г. — 1,2 млн чел.
Вологодской области в 1915 г. — 1,8 млн чел., в 2023 г. — 1,1 млн чел.
Новгородской области в 1914 г. — 1,7 млн чел., в 2023 г. — 0,6 млн чел.
Калужской области в 1914 г. — 1,5 млн чел., в 2023 г. — 1,1 млн чел.
Псковской области в 1914 г. — 1,4 млн чел., в 2023 г. — 0,6 млн чел.
Ярославской области в 1914 г. — 1,3 млн чел., в 2023 г. — 1,2 млн чел.
Половина моей семьи из Спасского района Рязанской области. В нем в 1914 г. насчитывалось 241 тыс. чел., в 2023 г. — 25,5 тыс. чел.
Возникает много вопросов в связи с тем, что в России до 1917 г. губернии были крупнее, границы менялись. Если пересчитать данные и взять численность населения по всем областям (16) в пределах Центрального федерального округа, без Москвы и Московской области на 2015 г., она равна 19,5 млн чел. Параллельно взял численность населения по 12 губерниям, которые относятся к ЦФО (без Московской) на 1914 г. Она равна 29,3 млн чел. Не могу гарантировать полного совпадения границ, но в целом это тот же самый исторический ареал. На 10 млн чел. больше в 1914 г., чем в 2015 г.
Для 2023 г. — примерно та же размерность.
Вопрос: в чем крайности российской жизни?
Ответ — посмотрите на статистику.
Центральная Россия, ядро российской земли, просто кричит. Опустынивание.
Что дальше?
Зайдем внутрь потрясенного общества и посмотрим, что там происходит. Насколько высоко в нем напряжение каждого и всех вместе. Сделаем это на примере одного из самых ярких образцов такого общества — 1917–1920 гг.
Что еще почитать
Миркин Я. Искушение государством. М.: АСТ, 2024.
Миркин Я. Краткая история российских стрессов. М.: АСТ, 2023.
***
История России. XX век. В 3 т. (под ред. А. Зубова). М.: ЭКСМО, 2016–2017.
Ключевский В. О. Курс русской истории. Части 1–5 // Собр. соч. в 9 т. Т. 1–5. М.: Мысль, 1987–1989.
Корнилов А. А. Курс истории России XIX века (Историческое наследие). В 3 ч. М.: Высшая школа, 1993.
Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну. В 3 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014–2015.
3. Дойти до края. 1917–1920
Разруха
Октябрь 1920 г. Последние дни войны с Польшей. Через месяц красными будет занят Крым. Еще царствует военный коммунизм, торговля запрещена, продразверстка, карточки. Одна из поворотных точек (скоро нэп).
Промышленность — всего лишь 17% от уровня 1913 г. [44]. Производство чугуна в 1920 г. в 30 с лишним раз ниже, чем в 1912 г. «Пахотных орудий» меньше в 24 раза. Муки — почти в 3 раза. Тканей — в 15 раз. Число предприятий и рабочих сократилось в 3–5 раз [45].
А вот свидетельство Герберта Уэллса, приехавшего в это время в Россию:
«Впечатление величайшего и непоправимого краха… Нигде в России этот крах не предстает с такой неумолимой очевидностью, как в Петрограде… Улицы в ужасающем состоянии. Вот уже три или четыре года их не ремонтируют; это сплошные ухабы, похожие на воронки от снарядов… Морозы изгрызли мостовые, водостоки обрушились, деревянные тротуары взломаны, их растащили на дрова…
Все деревянные дома минувшей зимой были разобраны на дрова, и в провалах, зияющих меж каменных зданий, видны лишь развороченные кирпичные печи и фундаменты.
Все ходят в обносках; и в Петрограде, и в Москве все тащат на себе мешки…
Недоедание, полнейший упадок жизненных сил… За исключением крестьян, все классы общества — в том числе и руководящие круги — испытывают… крайние лишения… Новых товаров нет нигде… Медикаменты… невозможно достать… Полураздетые жители этого разоренного и разрушенного города, несмотря на тайную торговлю, живут впроголодь» [46].
Убыль людей
Во время великих потрясений земля пустеет.
«По переписи 20 августа 1920 г. в Петрограде оказалось только 722 229 жителей… Со времени революции в 1917 по 1920 г. население Петрограда уменьшилось более чем в 3 раза, именно на 1700 тыс., или более чем на 70% своей первоначальной численности…
По переписи 1920 г. (28 авг.) в Москве с пригородами оказалось 1028 тыс. жителей… По сравнению… с дореволюционной цифрой населения, т. е. с февралем 1917 г., население Москвы уменьшилось почти вдвое (на 1015 тыс. жителей)» [47].
Френкель это назвал «катастрофическое обезлюдение». Возникла и резко (десятикратно) выросла естественная убыль населения [48].
Короче говоря, на улицах пустота.
Лариса Рейснер, дева революции, очерк «Петербург», 1919 г.
«Отдыхают камни мостовой, опушенные робкою зеленью, освобожденные от гнета снующих толп, отдыхают когда-то смрадные кварталы, забывшие теперь о копоти и чаде, о гнусном запахе прелых торцов и облаках душной автомобильной гари.
Сады, не стесненные людьми, безумно и счастливо зарастают, глохнут, роскошно и праздно наверстывая свои былые искалеченные весны. Синее Нева. Острова превратились в зеленый рай…
Что же это, в самом деле? Запустение, смерть? Эта молодая свежесть северного лета среди домов, сломанных на топливо? Эти развалины на людных когда-то улицах, два-три случайных пешехода на пустынных площадях и каналы, затянутые плесенью и ленью, и осевшие на илистое дно баржи? …Неужели смерть? Нет» [49].
Да. Это человеческое опустынивание.
Так бывает в потрясенные времена.
Сколько людей мы потеряли
В России «всего с осени 1917 г. население сократилось к 1920 г. на 7083,3 тыс. чел., к 1921 г. — на 10 887 тыс., к 1922 г. — на 12 741,3 тыс. чел.» [50] (в границах 1926 г.). Оценки других исследователей: 10–12 млн чел., с учетом несостоявшихся рождений — свыше 21 млн [51].
В итоге за время Гражданской войны «показатели уменьшения населения России (в границах 1926 г., включая эмиграцию), определяемые в 11–15 млн чел., и показатели общих демографических потерь в амплитуде 20–25 млн» [52].
От этого можно сойти с ума.
Человеческая цена потрясенного общества невероятно высока.
Каждая человеческая жизнь — драгоценна.
Что еще почитать
Миркин Я. Краткая история российских стрессов. М.: АСТ, 2023.
***
Население России в XX веке. Исторические очерки. Том 1. 1900–1939. М.: РОССПЭН, 2000.
Смирнов С. Динамика промышленного производства и экономический цикл в СССР и России, 1861–2012. М.: ВШЭ, 2012.
Уэллс Г. Россия во мгле. М.: Прогресс, 1976.
Френкель З. Петроград периода войны и революции. Петроград: Издание ПЕТРОГУБОТКОМХОЗА, 1923.
4. Финансовые и имущественные катастрофы. Как без них?
Список наших катастроф
Мы живем в зоне финансовых и имущественных катастроф. Жизнь скорее отнимает, чем дает.
Мы должны уметь им противостоять.
Вот список.
1) Отъем имущества зажиточных семей (бизнес, дома, квартиры, земля, деньги, ценные бумаги и т. п.) в городах — 1917–1918. «Черный передел» (поместья, земля, леса, личное имущество) — 1917–1919. Отъем остатков (золото, валюта, бизнес в период нэпа — в городе, земля, имущество — на селе, раскулачивание, коллективизация) — 1928–1935.
2) Войны, революции, разорения (1812, 1914–1918, 1917–1920, 1939–1945, 1994–1996).
3) Голод (в рукотворной части — коллективизация, экспорт зерна) — 1932–1933.
4) Лишение гнезд («уплотнения» квартир — 1917–1918, выселения, высылки, чистки, депортации — середина 1930-х — конец 1940-х, вынужденные переселения, эмиграция с брошенным или проданным за бесценок имуществом — 1917–1920, Гражданская война, бегство из России 2–3 млн чел., 1990-е, распад СССР, этнические конфликты, 2020-е).
5) Утрата, конфискация имущества — кампании террора и репрессий (1918 — начало 1950-х).
6) Отсечение масс от собственности в производстве, реформы, ведущие к ее сверхконцентрации, — 1990-е (приватизация).
7) Три конфискационные денежные реформы — 1947, 1991, 1993.
8) Две гиперинфляции — 1917–1922, 1990-е.
9) Финансовые кризисы — 1859, 1869, 1899–1908, 1917–1921, 1990–1994, 1997–1998, 2008–2009, 2014, 2020. Падение акций в 2022.
10) Семь взрывных девальваций рубля — 1994, 1998, 2007–2008, 2014, 2020, 2022.
11) Массовые банкротства финансовых институтов: 1870-е — 1880-е, 1990-е — 2010-е.
12) Потери имущества (прямые или косвенные), рост издержек в результате санкций — с 2014.
А теперь расскажем, как это бывает, — в подробностях.
Лишение имущества. 1917–1918
Вы — семья среднего класса в 1917 г. Ваш кусок земли конфискуется безвозмездно. Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917). Ваш дом в городе — его больше нет. Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов (в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября 1917).
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и слитки), которые там есть (Декрет ЦИК от 14 декабря 1917). Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются. Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет СНК от 14 декабря 1917). Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного комиссариата юстиции от 6 сентября 1918). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 1918). Если вы писатель, ваши авторские права «переходят в собственность народа» (Декрет от 4 января 1918). Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК «Об аннулировании государственных займов» от 21 января 1918). Запрет денежных расчетов с заграницей (постановление Народного комиссариата по финансовым делам от 14 сентября 1918 г.). Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедельный срок сдать всю валюту (постановление Народного комиссариата по финансовым делам от 3 октября 1918). Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (Декрет СНК от 11 декабря 1917).
Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января 1918). У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918). Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет. Один за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых организаций. Издательств, аптек, нотных магазинов. Частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). «Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь». Конфискации одного за другим. «За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут преданы революционному суду».
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство. Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918). Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918). Вам запрещается вывозить за границу «предметы искусства и старины» (Декрет СНК от 19 сентября 1918). Вы не можете больше привозить из-за границы «предметы роскоши» (постановление ВСНХ от 28 декабря 1917).
Чтобы добить ваше имущество — единовременный чрезвычайный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918). Москва — 2 млрд руб., Московская губерния — 1 млрд руб., Петроград — 1,5 млрд руб. Плюс права местных органов «устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги», которые «должны взиматься преимущественно наличными» (Декрет СНК от 31 октября 1918).
Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара статуэток. А еще — семейные предания.
Семейные истории
«Помню рассказ бабушки о том, как мой драгоценный папа, женившись на маме и переехав к ним в дом с одной подушкой, думал, что раз они остались жить, уплотненные до полкомнаты в доме, который до революции принадлежал прадеду, значит, где-то в саду закопан клад. Бабушке было очень смешно, потому что три кольца и три брошки она снесла в войну в торгсин, чтобы прокормить двух дочек. Оставила себе одну, самую дорогую, тоненькую с одним бриллиантиком, которую ей подарили на шестнадцать лет родители» (Елена Пыльцова).
Больше 100 лет прошло, но семьи всё помнят. «Этот дом был наш». Или — «Эта земля была наша». Вот один из множества рассказов (Александра Орджоникидзе). «Мой прадед, подкидыш в Московском Воспитательном доме, работал лесным сторожем г. Брянска, имел восемь детей. Мой дед — восьмой, младший, встретил революцию студентом. Так вот — все дети лесного сторожа получили высшее образование (и две дочери тоже окончили Высшие женские курсы — акушер и учитель), далось это тяжелым ежедневным трудом. Двое старших (1873 и 1875 гг. рождения) выслужили личное дворянство, один по учительской, другой по инженерной (железнодорожной) части. Все они в 1918–1919 гг. лишились всего, что накопила семья, работая вдесятером».
«Разве был средний класс в 1917 году?» — спрашивают многие. Но вот же он — средний, из самых низов, когда семья встает на ноги и готова много и трудно работать. Слушаем продолжение: «Другой мой прадед, Филипп Кузьмич Понитков, крестьянин Орловской губернии, герой Японской войны, георгиевский кавалер, ранен. В поезде с востока в Питер у него началась гангрена, и ему ампутировали ногу. В Питере попал в госпиталь императрицы Александры Федоровны (на 25 коек), получил второй Георгиевский крест из рук царя, разрешение на обучение за счет государства двоих сыновей (один, мой дед, фельдшер, второй — священник) и… разрешение на торговлю спиртным (это было монополией государства). К 1917 г. у него было уже семь магазинов — в Туле, Орле, Брянске и др. В 1919 г. умный прадед бросил все и уехал в дальнее село никем».
Что сказать? Мы все очень разные — по доходам и имуществу. Одни семьи поднимаются, другие идут вниз, чтобы через два-три поколения снова встать на ноги. Многие и сегодня хотели бы все отнять.
Хорошо бы никогда больше.
Никогда больше отъемов, никогда — изъятий и конфискаций, никогда — слез и сломанных судеб. Отнятое не приносит счастья — это хорошо показала история России.
А что приносит? Уверенность каждой семьи в том, что она может строить свой дом, свою состоятельность поколениями, не ожидая, что ей скажут: «Отдай все».
Лишение гнезда. Чистки, выселения, высылки. 1930-е
Лучше бы им скрыться вглубь России еще в 1920-е. Бросить свои комнаты по уплотнению, уже не квартиры, в Ленинграде (уже не Петербурге) и уехать куда глаза глядят. На север, на Волгу, на Урал? Кто знает?
Шефнер, внук морских офицеров, генерал-лейтенанта (по отцу) и контр-адмирала (по матери) [53].
«В конце 1934 г., после убийства Кирова, нахлынула волна репрессий. Коснулась она и дворян; их стали высылать из Ленинграда только за то, что они бывшие дворяне… Мать, тётя Вера и дядя Костя прониклись убеждением, что нашему семейству грозит беда и что нагрянет она скоро. Стали готовить чемоданы. Тревожно, невесело стало в нашей квартире.
У меня до сих пор хранится справка, выданная мне… управдомом … В ней было сказано, что она «дана гр-ну Шефнеру В. С. в том, что он проживает в д. № 17, кв. 31 по 6-й линии В. О. Соц. положение — рабочий, в списках лишенцев не состоит». Мать утверждала, что благодаря этой справке меня никуда не вышлют, ведь я, выходит, пролетарий».
Его не выслали. А потом — Великая Отечественная, он прошел ее от начала и до конца. У других все было не так. Спецсообщение наркому внутренних дел СССР от 31 марта 1935 г. об итогах операции по выселению: «изъято бывших людей из г. Ленинграда и осуждено Особым Совещанием НКВД — 11 702 человека, их них — глав семей — 4833, членов семей — 6239 чел.», в т. ч. «бывших князей — 67 чел., бывших графов — 44, бывших баронов — 106, бывших фабрикантов — 208, бывших крупных помещиков — 370, бывших крупных торговцев — 276…» [54].
Бывшие люди, пишется без кавычек. Бывшие. Кампания по «изъятию». За что? «Террористы, шпионы, распространители контрреволюционной литературы, за связь с эмигрантами и прочими подрывными элементами». Богачи? Какие жалкие деньги у них изъяли! У 11 тыс. чел — 769 долл., 285 германских марок, 175 франков, 52 фунта стерлингов, 3841 руб. бонами торгсина.
А кто они? Служащие, пенсионеры, кустари, техники, инженеры. «Типичные фигуры бывших людей», как сказано в спецсообщении: «Гагарина Е. В. — дочь князя-камергера. До ареста — секретарь факультета 1-го Ленинградского медицинского института… Волконский В. Д. — бывший князь, сын прокурора-белоэмигранта… приемщик молококомбината… Татищева Е. В. — бывшая графиня, инструктор института наглядных пособий… Таубе В. Н. — бывший барон, счетовод ЖАКТа… Маврус д’Эске — бывший граф, полковник Генштаба, бухгалтер Плодоовощсбыта…».
Приемщик, секретарь, счетовод, инструктор, санитарная сестра. А дальше с ними — что? Аресты, концлагеря, ссылки.
Вот письмо «типичной фигуры бывших людей» княжны Екатерины Васильевны Гагариной (конечный адресат — Е. М. Пешкова), 29 марта 1935 г. [55]: «Мое тяжелое положение заставляет меня просить Вашей помощи. Утром 20-го марта я была арестована, и после трех дней ареста я получила предписание выехать с больной сестрой 28-го марта в Уфу. Обвинение я не получила, вина моя только в том, что я княгиня Гагарина. Мне 71 год, сестре 69 лет, она в течение 25 лет находится на моем иждивении, страдает склерозом мозговых сосудов и сердцем, большею частью лежит и не была арестована только из-за невозможности сойти самой с лестницы.
Мой служебный стаж 41 год, их них 10 лет в Центральном статистическом комитете и 31 год в I Ленинградском медицинском институте в должности технического секретаря…
Не имея ни сил, ни средств для выезда с такой тяжелой больной, умоляю Вас обратить внимание на мое положение и служебный стаж, который говорит, что жизнь моя была трудовая.
Надеюсь на Ваше ходатайство об оставлении меня в Ленинграде».
В возвращении в Ленинград сестрам было отказано.
А в чем мораль? Неизвестно. Все, что видим, — отнятые жизни, честные попытки сжиться с новыми временами, не бежать, не скитаться, а просто жить. И все равно неудача. Быть с парализованной сестрой на руках, не бросать ее, быть по-человечески — и все равно пропасть.
Конфискационные денежные реформы. 1947, 1991, 1993
В XX веке в России были три конфискационные денежные реформы. Объявили — обменяли — отняли.
Не копите бумажные деньги. Не считайте их истинной ценностью. Есть масса примеров, когда они вдруг, в один час становятся просто резаной бумагой, хорошего качества, с прекрасными иллюстрациями и защитными знаками, но все-таки — бумагой. Вкладывайте прежде всего в себя, в свою силу, в свое здоровье, в свои умения, в возможности генерировать доходы даже в самых старших возрастах. В свою семью, которая всегда поднимет и прокормит. В дома, в землю, в имущество, не теряющее в одночасье свою ценность. В то, что можно передавать из поколения в поколение, а не обклеивать им стены.
Будущее? Свободное от конфискационных денежных реформ?
Никто ничего не гарантирует.
Денежная реформа декабря 1947 г. [56]. Цель — отнять большую часть наличности, экспроприировать ее, резко сократить платежеспособный спрос тех, кто смог что-то накопить правдами и неправдами. Менять наличность как 10 «старых» рублей на один рубль новый, вклады в сберкассах до 3 тыс. руб. (более 80% вкладчиков) — как один к одному, суммы от 3 до 10 тыс. руб. — «за три рубля старых денег — два рубля новых денег», суммы свыше 10 тыс. руб. — «за два рубля старых денег — один рубль новых денег». Наличность — вон!
Что в итоге? На начало декабря 1947 г. в обращении 59 млрд руб. наличности, к 16 декабря — 43,6 млрд руб., к концу декабря они обменены на 4 млрд руб. Вклады в сберкассах на 16 декабря 1947 г. — 18,6 млрд руб., в конце декабря — 15 млрд руб. Количество денег, выпущенных в обращение, составило к концу 1947 г. 63,3% от уровня 1940 г. [57]. Экономический результат — экспроприация у населения более 90% наличности (полученных ранее доходов, платежеспособного спроса) и 16% вкладов в сберкассах.
Денежная реформа 1991 г. [58]. Объявлена «по телевизору» в 21 час 22 января. Из обращения были изъяты 50- и 100-рублевые купюры образца 1961 г. Точка отсчета — через три часа, с 0 часов 23 января. На обмен давались три дня, не больше 1000 руб. на человека. Все суммы свыше — только через спецкомиссии. Введен запрет на снятие наличных в Сбербанке на сумму свыше 500 руб. Снял — получи штамп в паспорте. Все это случилось после официальных заверений, что денежной реформы не будет. Через три месяца были кратно повышены государственные розничные цены, добивая сбережения.
Все в денежной реформе 1991 г. было искривлено. Самое главное — отношение к сбережениям населения как к «денежному навесу», как к фактору инфляции, к тому, что не покрыто товарами народного потребления. Избыточными считались 47% наличных (1990, ЦБР). И значит, их нужно бить-колотить, пусть даже под лозунгами того, что спекулянтов и темные силы следует брать за горло.
Денежная реформа 1993 г. [59]. Всё началось 5 июля 1993 г. Банк России (наш главный, Центральный) телеграфировал банкам — с 6 июля денежные знаки СССР в оборот не выпускать [60]. Почему? «В целях устранения множественности модификаций денежных билетов». Привычным всем бумажным рублям, трешкам, пятеркам, десятирублевкам вынесен приговор. Они еще есть, но будущего у них уже нет.
Но это еще не денежная реформа, не смерть старым деньгам. Зампред Банка России в «Известиях» заверяет, что замена банкнот будет мягкой, постепенной. Публика пока ничего не подозревает. Следует пауза, три недели — и вот наступает день Х.
Это суббота, 24 июля 1993 г. В выходные все закрыто. Мало что можно сделать, даже если кинешься менять, рыскать с деньгами по городам и весям, пытаясь их кому-нибудь всучить, пусть за немыслимый процент, лишь бы сохранить хотя бы часть стоимости. Лето, июль, разгар отпусков, масса людей в отъезде. Президент России — в отпуске, министр финансов — в США.