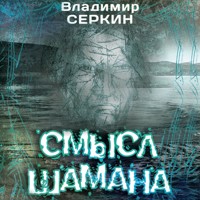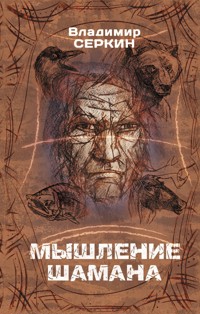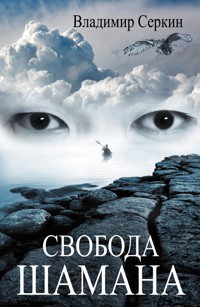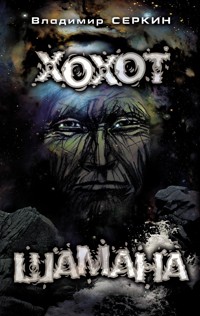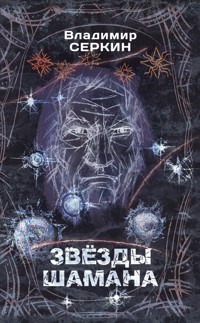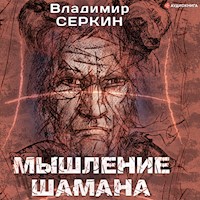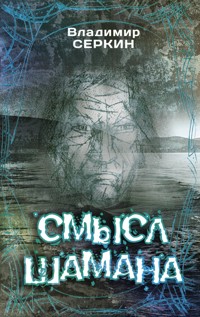
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Времена 2
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Хохот шамана
- Sprache: Russisch
В новой книге Владимир Серкин обращается к вопросам жизни, смерти и смысла существования. Автор поделится уникальным опытом и знаниями, которые получил за 25 лет свободных блужданий по лесам, горам и побережьям, чтобы прямо ответить на вопрос: «В чем секрет долголетия и бодрости Шамана?» Ключевая особенность книги — размышления об эволюции и экологическом сообществе. Должен ли сознательный, развивающийся человек думать только об индивидуальном смысле жизни? Или же смысл эволюционирующей экосистемы планеты не менее важен?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Владимир Павлович Серкин Смысл шамана
* * *
© Серкин В.
© ООО «Издательство АCТ»
Введение
Ртуть Охотского моря. © С. Гореликова
Герой книги – собирательный образ. Почти 25 лет моих свободных (в период отпусков и праздничных дней) блужданий по лесам, горам и побережьям (не охотился, рыбу ловил только поесть) дали неожиданный результат – встречи и диалоги с интереснейшими, добрыми, независимыми, свободными и решительными людьми.
Может, до этого, «в другой жизни» им и приходилось идти на ложь и компромиссы, но после решения «жить и умереть естественными и свободными» они уже выправились.
Понятно, что на многих встречах меня спрашивают: «В чем секрет долголетия и бодрости Шамана?» Многие годы не решался прямо ответить, хотя уже давно догадывался об этом. Но Шаман сказал, что могу ответить прямо, если не боюсь подорвать сложившееся доверие к книгам о нем.
Подумал, не боюсь. Отвечаю: дело том, что Шаман – уже не совсем такой человек, к которым мы привыкли. Он благожелателен и по-человечески настроен к нам, немножко как к детям. Но он, в отличие от нас, продолжает во взрослом возрасте эволюционное развитие (усилия). Началось это летом 1953 года (как-то, но не прямо связано со смертью Сталина)[1]. Уйдя в лес из Колымского лагеря (ГУЛАГ), Шаман попал в столь экстремальные условия, что для выживания должен был или продолжить развиваться, или умереть с наступлением зимы. В этой книге «Смысл Шамана» почти прямо начал писать об этом (эволюции через усилия) в разделах «Смысл Шамана», «Преобразование веществ» и других. Если времени хватит – продолжу, начал думать конкретно об эволюционных усилиях и упражнениях.
Они (сам Шаман и многие прототипы) понимают, что в физическом теле смертны, законов кругооборота природы (не только жизни на Земле, но и в Космосе) им не нарушить. В разговорах ссылаются на то, что и Будда, и Иисус, и Магомет, и другие известные и неизвестные (пророки) не нарушали в физическом теле этот земной закон. Но на вопросы о планируемых сроках, не сговариваясь, отвечают неопределенно, говорят, что сами не знают (не хотят знать?) точно, так как поиск более оптимального образа мира и образа жизни у них еще (постоянно) продолжается. Некоторые еще говорили о том, что трансцендентное живет значимо дольше физического.
Размышлять о практике собственно шаманизма затруднительно, как уже сказано многими авторами: «Практика (востребованная обращающимися за помощью) есть, а теории нет». Таким образом, такая практика выходит за теоретические рамки научных объяснений и находится вне пределов современной гносеологии, причем это уже проблема не самой практики, а именно проблема пока бездеятельностной современной гносеологии.
Должен также предупредить (ТБ):
1. Не все встреченные в глухих местах люди были добрыми.
2. Никому не советую без подготовки так жить, так как умереть в таких условиях гораздо легче, чем выжить.
Все это будет труднее понять, чем предыдущие книги о Шамане, в которых я старался не касаться вопросов жизни, смерти и смысла жизни. Но без прочтения этих вопросов не понять и не продвинуться эволюционно в их понимании.
Размышления об эволюции и экологическом сообществе (планеты?) вносят новый аспект: в разделе собственно «Смысл Шамана» я написал пока первые размышления о том, что взрослый, сознательный, развивающийся и эволюционирующий человек должен думать (нести ответственность) не только об индивидуальном смысле жизни, но и о смысле эволюционирующей экосистемы планеты (смена мировоззрения о смысле с геоцентрической («я») на гелиоцентрическую) и дальше).
Из первых «додиалогов» Шамана (Магадан, 2000)
04.08.2023–02.01.2000
Вчера, перебирая вещи для контейнера (отъезд), знакомые нашли у себя мою старую флешку (давно забыл). Оказывается, до публикации первых диалогов[2] писал стихи о Шамане (наверное, думал, как передать впечатление). С тех пор тексты о моем «Шамане» публикуются уже 23 года, переиздаваясь через год. Уже более 800 страниц текстов, а это стихотворение (от 2 января 2000 г.) не напечатано.
Всем участникам моих кружков по эзотерике в МГУ (Москва), СВГУ (Магадан), ДФУ (Дальневосточный Государственный), КамГУ (Петропавловск-Камчатский) и НИУ ВШЭ (Москва) слушавшим и обсуждавшим со мной курсы психологии и парапсихологии с 1984 по 2024 гг.
Смысл создается взрослым человеком
Ребенку смысл «накачивают». Ребенок хочет нравиться ухаживающим взрослым (обычно родители). Для этого ему транслируют первые смыслы (должен хорошо есть, проситься в туалет, потом прибирать игрушки, помогать прибираться в комнате и т. д.). Потом, например, следить за младшей сестрой (она маленькая, может что-то проглотить, пораниться и т. п.). Потом хорошо учиться… хорошо устроиться на работу… хорошо жениться (выйти замуж)… хорошо воспитывать (сам уже должен транслировать смыслы) детей (внуков)… Да еще вмешиваются потребности, гормоны, социальный престиж и пр. И важно не стать рабом всего этого.
Уже очень взрослым человек начинает задумываться о собственных смыслах.
Мысли появляются и раньше. Но трудно: зачем думать самому, когда кругом авторитетные взрослые, которые «лучше» знают? И боязно: я же с детства привык, что решают другие. А вдруг решу неправильно, сам же буду виноват? Не хочу…
Только взрослый, который не боится[6] трудностей, свободен и ответственен, может строить свой смысл. Некоторые (не все) могут.
2. Еще об эвелнах
04.05.2022
Как бы чувствовал себя эвелн, у которого годовой маршрут выпаса оленей больше некоторых европейских государств, попав на дачный участок в 6 соток, где соседи годами ведут ожесточенную войну из-за поставленного на полметра не там забора?
Он бы, наверное, решил, что попал в ад. А после прохождения шока стал бы думать, как быстрее вырваться отсюда, чтобы жить и умереть на воле. А житель Подмосковья так («попал в ад») думал бы, попав в зимнюю тундру – как бы быстрее на свой огороженный участок. «Запад есть Запад, восток есть Восток…»
02.02.1999
Отчислил девушку-эвелнку с отделения психологии (тогда работал и зав. кафедрой, и деканом гуманитарного факультета Магаданского университета). Смысла тянуть не было. Много занятий пропущено, две пересдачи, книг не читает, знания не увеличиваются, только чуть из разговоров с однокурсницами.
А летом смотрел в походе (тогда был еще и председателем турклуба факультета (энтузиазма много было в работе со студентами)), как она терпеливо и умело чистит кету[7] (много, нас человек 15 было), и думал: какая красивая, трудолюбивая и старательная девушка. Большинство сокурсниц уклонились от чистки (фотосъемка – стандартный способ уклонения студентов от работ в походе, у них, видите ли, художественное видение и творческое вдохновение именно сейчас[8]), но она спокойно занималась общеполезной работой.
Не хотел отчислять, разговаривал с ней несколько раз. Она спокойно говорила: «Я всегда так (два-три дня в неделю) училась, и в школе. Все равно все учебники не прочитаешь. Всем же выдали аттестаты. Переведусь на педфак, там не заставляют» и пр. Ее землячка из другого поселка успешно учится. Но у этой хорошей девушки нет привычки регулярно учиться. Думаю, со школой не повезло. Дай Бог, чтобы в жизни повезло.
04.03.2015
Случай с Ульвелькутом – если штормом оторвало лед от берега, нужно уходить (по льду) в море (не рекомендация, пересказ), держаться торосов. Попросил у Духов, послали нерпу. Вынесло на остров – это знак.
24.03.2017
– Почему у вас короче продолжительность жизни?
– Не меняем с возрастом образ жизни.
– В смысле?
– Другой жизни нет. Пожилой эвелн не садится на диван с пультом от ТВ или клавиатурой, не носит пузо по дачной дорожке вокруг шашлычницы. Сам бы зарезался от такого позора.
– То есть он так же охотится, как и молодой?
– Так же ходит в море, лезет по круче, не боится медведя…
– А женщины?
– Женщины, как и у вас, живут дольше на определенный период.
– Зачем им это?
– Ждут, когда внуки перестанут быть беспомощными.
Мысли: работа с КМНС[9] должна быть не только «выравниванием», восстановлением не только декоративных традиций, а уникального пути духовного развития.
21.03.2017
Однажды, находясь в полусне, Шаман (учился почти четыре года на юридическом факультете МГУ еще в царское время. И после много где учился. Но почти сто лет живет здесь) проговорил следующий текст (наставление?):
«Если этот мир во сне разрушится, можно вернуться к моменту начала фатальности сна и изменить параметр. На памяти ныне живущих это было дважды.
Первый раз – когда американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Началась планетарная цепная реакция, и планета „испарилась“. Но я вернулся во сне к моменту до начала реакции и изменил этот параметр мира. В этой версии локальный взрыв не ведет к планетарной реакции.
Второй раз – при работе с адронным коллайдером. Для оптимизации уничтоженной запуском коллайдера версии пришлось изменить параметр относительности фотонов. Теперь фотоны этой галактики – организованное сообщество мыслящих частиц».
Можно посчитать это проявлением Шаманской болезни. Газет, гаджетов и интернета у него (и в окрестности) точно нет. Что значит этот текст, Шаман пояснять не стал: «Не знаю. Духи».
В разделе «Люрна» («Звезды Шамана»): эвелн понимает, что при этой жизни он может не успеть перейти в солнечное тело. Поэтому для него важен не результат, а пройденная к этой цели дистанция и набранная скорость (тенденция) активности.
3. Из биографии Шамана
К биографии Шамана «Из биографических данных»
Необходимость описать кое-что из биографии Шамана обусловлена, в основном, тремя факторами:
1. Читатели задают много вопросов (спасибо!) о том, как мог сформироваться такой человек, как Шаман, с его мировоззрением и философией, позволяющей ему выживать, быть здоровым и эффективным в самых разнообразных, порой невероятно трудных условиях?
2. В последние годы появилось много самозванцев, объявляющих (или «таинственно намекающих») о том, что именно они являются прототипами Шамана.
3. Появились участники некоторых сетевых групп о Шамане (сайтов и пр.), которые недовольны сообщаемой мною информацией о Шамане. И (иногда довольно агрессивно) указывают мне (автору книг о Шамане), что, по их мнению, я пишу правильно, а что – неправильно. При этом мои отдельные фразы или даже отдельные слова выдергиваются из контекста. До смешного доходит. Например, я пишу: «Не так», а автор сайта утверждает, что Серкин написал слово «Так». И когда возражаю, то встречаю такие эмоциональные доводы: «Но ведь слово „так“ взято из Вашего же текста („Нетакли?“)».
Таким просто предлагаю самим написать и опубликовать более правильные, по их мнению, книги о Шамане (почему-то это вызывает озлобление и новую агрессию) и, во избежание дальнейшей агрессивно-искажающей переписки, прекращаю сотрудничество с такими сайтами.
Некоторые факты из биографии Шамана уже изложены в книгах «Хохот Шамана», «Свобода Шамана» и «Звезды Шамана» (спрашивайте об этом, разоблачая самозванцев).
Шаман (после ранения на Первой Империалистической в 1914 году) работал по договорам референтом в Румянцевской библиотеке, был лично знаком с Блоком, Вернадским, Чижевским, Циолковским и многими другими. И даже был ведущим (координатором) их спонтанно образовавшегося интеллектуально-культурного кружка. Был замешан в политическом движении, потом в восстании левых эсеров, арестован, бежал в Иркутскую область – Якутию, откуда позже сам ушел по тогда еще действующему Охотскому тракту в район будущей Магаданской области; был рабочим в геологических экспедициях (еще Обручева и др.); торговал с японскими рыбаками (шхунами) и был год женат на привезенной по заказу девушке-японке (и еще несколько раз женат, есть дети, внуки и правнуки); служил в РККА; учился в УВВКАУ и в Хабаровском медицинском; во время Отечественной войны служил в Закавказье (на границе с тогда союзницей Германии Турцией), потом, кажется, с 1943 года, на Северном флоте, был в плену, осужден за это; периодически живет в хижине на побережье и в городах, последний раз уже в начале 2000-х в Ярославле занимался участком (12 соток) и ресторанным бизнесом (кажется, поставками продуктов); иногда лечит обратившихся к нему и выполняет другие традиционно считающиеся шаманскими работы, сменил много занятий и профессий (от монаха до браконьера, от физика-исследователя до разнорабочего на стройке). Только рассказов Шамана об этом хватило бы на несколько авантюрных романов. Но мой ресурс времени несколько ограничен, как психолога меня интересовало главное – сами по себе события мало влияют на формирование личности. Влияют переживания, интерпретация событий и, главное, собственная активность (деятельность) человека в этих событиях. При этом некоторые события все же придется описать, так как без них непонятно влияние.
Конечно, опубликованные на сегодня сведения фрагментарны, поэтому я начну с сегодняшнего дня периодически дополняя их (полная биография будет в соответствующей книге).
Начало: Шаман – человек, родившийся в русской казацкой семье, член рода, который мигрировал столетия от Ярославля до Тихого океана, воспитанный на стыке культур (российской, культуры коренных народов Севера, культуры азиатского Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония, Индия)), переживший три войны (Первую мировую, Гражданскую и Вторую мировую), несколько революций, коренным образом менявших его образ жизни; много раз женатый (на русской, японке, полячке, украинке, эвелнке…); сидевший в царских и советских тюрьмах, зонах и лагерях, сменивший множество образов жизни…
Шаман (Петр Павлович по первому имени) родился, кажется, в 1896 году одиннадцатым ребенком (младший) в семье ленского (якутского) казака. Дед имел родовые грамоты еще от енисейских казаков, и семья до конца XIX века было освобождена от всех налогов и пошлин. А какой-то из прадедов пришел в Сибирь еще с ватагой Ермака Тимофеевича.
В Петины семь лет дед открыл один из сундуков и дал поиграть с семейными оружейными реликвиями: чуть изогнутая у конца почти метровая шашка из сероватой стали с длинной деревянной рукоятью в деревянных же обшитых кожей ножнах; чуть меньше половины длины шашки кинжал; еще вдвое короче кинжала четырехгранный тяжелый наконечник пики и метровый метательный дротик с трехгранным наконечником. Была раньше и пищаль, но ее утопил в болоте во время охоты один из многочисленных дедовых братьев (дядьев Пети). Самого еле успели вытащить.
В попытке махнуть лихо шашкой Петя не удержал ее, и шашка врезалась в деревянный подоконник-колоду, оставив глубокую отметину. Прибежавший на шум дед, вопреки ожиданиям, не ругался, но оружие отобрал и спрятал опять в сундук «до поры до времени». Тогда же и сказал он запомнившуюся, отчасти из-за непонятности в детстве, мальчику фразу:«Лихость без ума как …уй без шаров».
Семья была дружной и работящей. Огромный огород, лес и Лена – река-кормилица трудиться заставляли, зато пищей надежно обеспечивали. В самые тяжелые военные годы (Великая Отечественная война) картошку сажали, конечно, не целиком, а глазками[10], но рыба и мелкая дичь не переводились. Лет с шести-семи сыновья и дочери включались в хозяйство, начиная по малолетству участвовать в прополке-окучивании картофеля, пастьбе-кормлении кур и гусей, присмотре за кроликами, ловле-обработке рыбы, сборе-заготовке урожая, кормов, ягод-грибов и других дикоросов.
Женились тогда рано по нынешним меркам, в 15–17 лет. В год рождения Пети его старшая сестра (30 с небольшим) была уже бабушкой, а ее внучке – племяннице младенца Пети по родовому дереву – было 13 лет. Она (племянница Пети) и нянчила новорожденного маминого брата («дядю» Илью), засматриваясь уже на парней.
Лет в восемь-девять, глядя на эту взрослую женщину – свою племянницу, – Петя впервые призадумался над относительностью и возраста, и статуса.
Огородом и живностью, кроме периода посадки-уборки, занимались, в основном, женщины и младшие. В подростковом возрасте сыновья больше занимались рыбалкой, охотой, засаливая на зиму бочонки тагунка (мелкая рыбешка в Лене и озерах) и разнорыбицы, внося разнообразие в семейный стол то жирной стерлядью, то птицей или зайцем. Рыба ловилась весь год, а в период осенней шуги и весеннего ледохода, когда любую снасть срывало льдами, подлавливали, кому надо, на озерах лесных и даже в болотных бочажках иногда.
Шкурки и сухожилия зайцев и прочей мелочи шли на разнообразные варежки-завязки-поделки. Зимой охотились и взрослые. Меха песца, волчьи, оленьи и медвежьи шкуры приносили рублевый доход, который, однако, в семье был лишь дополнительным приработком.
Нужно было одеваться-обуваться, учить младших, давать старшим сынам наделы с избой, а дочерям приданное. Отец со старшими сыновьями и мужьями дочерей радели на государевой службе: обслуживали судоходный фарватер (обозначаемый бакенами) на пару сотен верст вверх и вниз от Киренска. Получал каждый небольшой, но твердый царев оклад – доход. А с 1911 года был даже совсем редкий по тем временам государев же угольный паровой катерок, а с ним и приработок на перевозке-буксировке людей, небольших грузов и лодок. Походы на дальние участки, снятие на зиму, установка в навигацию бакенов и другая работа, особенно после ледоходов и разливов с неизбежным замыванием леса, занимали по несколько дней: отец и старшие братья часто отсутствовали. Приходили, топили баню – и опять на фарватер.
Семья считалась зажиточной и уважаемой. Сыновей обучали, и Петя окончил двухклассную (4 года) церковно-приходскую школу. Учителя особо отмечали его успехи в освоении Слова Божия, арифметики и истории.
С пятнадцати Петр начал работать с отцом на фарватере, а в шестнадцать оформлен был с казенным окладом в бригаду бакенщиков вместо ушедшего охотником в армию старшего брата.
Дед уже заговаривал, прикидываясь простоватым по старости, о женитьбе, но у Петра были свои планы: урывками, он упорно читал-осваивал гимназические учебники математики и ждал семнадцатилетия, чтобы записаться в вольноопределяющиеся.
Все в небольшом Киренске (7 тыс. км от Москвы) чувствовали и знали, что война с немцами будет нешуточная. Хоть и невелик курс истории в церковно-приходской школе, но все же знали, что с начала истории Запад всегда нападал. В начале XVII века – поляки, в начале XVIII века – шведы, в начале XIX века – Наполеон (французы), вот и XX век напряженно начинался.
Романтизма было немного. Петр знал вполне определенно, что служба государева была для него единственным тем, что сегодня называется «социальным лифтом». В царевы времена ушедший с военной службы офицер поступал на гражданскую службу сразу с аналогичным чином по табели о рангах, а годы на воинской службе засчитывались в стаж госслужащего. Рассчитывал Петр, что его, как окончившего школу, почти сразу произведут в унтер-офицеры (что и произошло), а зная свою силу, сметку и меткость охотничью, полагал, что и звание подпрапорщика по военному времени не задержится, а там и полноценный офицерский чин. Но вот зачем ему это, не знал пока.
В Якутске команда призывников и добровольцев ждала баржи четыре дня до буксировки по Лене на юг и «до железки»[11]. Вольноопределяющиеся и призывники от скуки перелезали через невысокий забор сборного пункта и добирались до города перебежками через сборный пункт каторжан. Конвоиры их легко отличали по возрасту и по экипировке и старались не связываться с будущими служивыми «детьми тундры и тайги», лишь беззлобно ворча в усы: «А вот отправлю тебя вместе с этими на этап».
Раз Петр задержался возле сбежавшего, пойманного и побитого «за беспокойство» конвоем каторжанина. Тот сидел на высушенной солнцем до трещин земле, прикрыв голову руками, и громко говорил частью конвоирам, а частью проходящему мимо юноше: «За вашу же волю от супостата страдаю». Удивило, что пожилые (с точки зрения Петра – им под тридцать уже было) конвоиры не собирались заступаться словесно за царя-батюшку и не злобились, а, скорее, избегали дискуссии. «Чем же царь волю-то мою ограничивает, я же воевать еду за него?» – хотелось спросить Петру, но прошел мимо. А незаданный вопрос запомнился.
Вопрос этот (зачем?) иногда забывался. Иногда же так остро звучал в сознании, чтоПетр переплывал в лодке Лену (там ширина примерно 3 км) и подолгу сидел ночью, наслаждаясь уединением на безлюдном берегу, пока не «отпускало» напряжение и не вставали опять перед затуманенным взором далекие огни ночного Якутска за рекой.
Тогда не знал еще Петр, что это были первые проявления шаманской болезни, которые, однако, ни с кем не обсуждал, догадываясь о необычности таких состояний.
Как охотник-сибиряк Петр зачислен был в полк сибирских стрелков и в атаку штыковую или на пулемет цепью во время своей недлинной службы не ходил. Стрелков метких берегли, и полк перебрасывали для обороны в места ожидаемых прорывов. У каждого отделения была составленная офицером карточка сектора огня (Петр не видел в таких карточках ничего сложного, просто разбита линия обороны на сектора), а уж в своем секторе, кто из наступавших немцев чей, решали сами или изредка советовались с унтером. В первые месяцы, пока не начали опомнившиеся вороги артиллерийскую охоту на сибирский полк, потерь почти не было.
Окончивший церковно-приходскую школу Петр собирался быстро стать унтером и тактикой ведения боя интересовался. Составлять карточку огня для отделения командир почти сразу же перепоручил ему. Делить линию обороны на сектора для каждого стрелка с учетом рельефа было довольно просто. Да и взводные, и ротные сектора составлять ротный научил Петра довольно быстро, почти передоверив ему обход позиций. В роте все понимали, что и глаз у молодого сибиряка «позорчее», чем у ротного, и ноги пошустрее. Чем могли, Петру помогали, делились наблюдениями и кое-каким опытом.
О душах врагов убиенных старались не думать, списывая на Защиту Отечества. До рукопашной не доходило, так как одним залпом сибирские стрелки клали обычно почти всю наступающую немецкую цепь. Оставшиеся в живых немцы после первого же залпа понимали, кем заменили в окопах перед ними обычных солдат, и спешили убраться, уползти побыстрее.
Ты что, бедняжка?
В предыдущей книге («Звезды Шамана») писал про советы Шамана о том, как развивать бестрепетное сердце и бестрепетный ум. И сам не раз замечал, как эвелны с ужасной раной, полученной в результате несчастного случая или схватки со зверем, не предаваясь плачу и стонам, деловито работали с раной или терпеливо без жалоб ждали, пока другие оказывали помощь. Один раз видел, как заваленный глыбой, смертельно раздавленный эвелн в окружении молчащих земляков просто ждал смерти и умер без единого стона.
Понятно, что эвелны по-другому относятся к смерти (верят в рождение «в мире предков») и не боятся ее. Но в их умении переносить боль или лишения было что-то еще. Настало время спросить Шамана об этом. Обычно человек не помнит многого из дошкольного детства, но на всякий случай спросил:
– Помнишь, может, когда ты начинал быть бестрепетным?
– Случаев несколько помню. В детстве еще.
– Можешь рассказать?
Краткий пересказ рассказов Шамана
1. Лет пять было. Играли с эвелнской девочкой, взрослые ушли за стадом. Девочка показывала, как она ловко обращается с большим эвелнским ножом, и неудачным движением очень сильно разрезала кисть руки. Крови очень много, она громко кричала и плакала от испуга и боли. Петя не знал, что делать, и просто сидел в рядом с ярангой, рыдал. Это длилось долго, до прихода взрослых.
При их появлении девочка с ревом бросилась к отцу, протягивая окровавленную руку. Отец стал осматривать рану и вдруг спросил: «А ты че орешь? Ты бедняжка, что ли?» Девочка мгновенно перестала кричать и гордо, обиженно твердо ответила: «Нет, я не бедняжка».
Почему-то на Петю, секунду назад самого готового орать от страха, эта сценка произвела огромное впечатление. Сказал себе твердо: «Если уж девочка, то и я, мальчик, не бедняжка тем более».
Это один из многих аспектов, но именно с него начался (как кажется) контроль над своим поведением.
2. Естественно, для пацана в 6–7 лет интересна была стрельба из ружья. Отец дал выстрелить в этом возрасте, лет в 6–7. Объяснил, понятно в общем, как целиться и стараться не дергать ствол при нажатии на спуск.
Но ни слова не сказал про отдачу! При первом выстреле Петя почувствовал резкий болезненный удар в плечо. Виду не показал, и взрослые не обратили на это внимание. Сначала при последующих выстрелах старался незаметно держать приклад подальше от плеча. Удар получался еще сильнее и болезненнее. Возникала даже детская мысль отказаться от стрельбы из ружья и начать осваивать лук.
Слава Богу, стал присматриваться к взрослым и увидел, что они прижимают приклад как можно плотнее к плечу. Пацану это казалось парадоксальным, понятно же было житейски, что чем дальше от плеча приклад, тем слабее удар по плечу. Но попробовал и убедился, чем плотнее к плечу приклад, тем меньше удар (уже подростком понял – так приклад не разгоняется отдельно от плеча). Тогда еще понял про ложную стеснительность – спросил бы сразу у взрослых, они бы объяснили, показали пацану без его детских мук. И про то, что нужно присматриваться и пробовать самому. Практика иногда мудрее детского житейского опыта. И потом, даже когда кажется, что все нормально, – продолжать в любом возрасте спрашивать, наблюдать и учиться.
Сейчас некоторые считают Шамана великим охотником, который знает все о лесе. Часто кажется, что он не охотится и рыбачит, просто идет в нужное время в нужное место и «берет» нужное количество дичи, рыбы, грибов, растений, ягоды, шишек[12] и пр. Но если спросить его о зверях или растениях, он иногда расскажет об опыте других мастеров или даже о них (животных).
3. После травмы старшего брата, его привезли на санях – фельдшер зашивает, и они спокойно, нормальными голосами беседуют с братом, хотя 10-летний Петя знал и чувствовал, что страшно больно. Брат и фельдшер были бестрепетны. Брат (еще юноша) хорошо «держался», уж точно слово «бедняжка» ему не подходило. А фельдшер (Петя почему-то помнит фамилию – Долотов) не держался, он был просто бестрепетен.
Договориться с муравьями
…было лет 11–12 (примерно 1907 год). Еще действовала договоренность с отцом[13]: на Север дальше второго хребта не заходить. Я и шел по второму. Почувствовал дымок костра, удивился и двинулся на него.
Старый эвелн (волосы седые, а лицо гладкое) кипятил воду на удивительно маленьком костерке из нижних высохших веток лиственницы. Всего три язычка пламени, но все они вились именно по днищу котелка. Увидев Петю, он ничуть не удивился, жестом пригласил к костерку и долил в котелок воду из баклажки.
– Не знаешь русского? – спросил Петя, усаживаясь.
– Местный? – вопросом на вопрос ответил эвелн, показывая знание языка.
– Да, наши места.
– Далеко село?
– За той сопкой. А ты откуда?
– С Севера. – Эвелн неопределенно махнул рукой, но Петя почему-то не стал уточнять.
– К нам по делам?
– В лавку зайти нужно, а так дальше.
Помолчали. Петя достал кружку, с удовольствием ожидая хорошего чая (уловил по запаху). Тревожно не было. Наоборот, каждый знал как-то, что рад встретить другого человека.
– Сахар есть, а хлеб кончил уже, – предложил Петя. Эвелн улыбнулся.
– У меня так же.
– У нас заночуешь?
– Спасибо. Батька не против будет?
– Не. Изба большая, на ужин народу много, пирог и каша с мясом еще на утро или до обеда останутся.
Опять с удовольствием помолчали, потягивая чай. Но по-разному. Эвелн думал о чем-то своем. А Петя молчал спокойно, по-мужски, не сотрясая воздух лишними словами и отдыхая от беготни по лесу. Не умел еще ходить размеренно.
– Что возишься? – вдруг спросил эвелн, вернувшийся от своих мыслей.
– Муравьи в штаны. Муравейник где-то рядом… Тебе хорошо, как-то договариваешься на их языке.
– И ты можешь. Взрослые русские не могут уже, а ты еще помнишь.
– Как?
– Настройся на диалог НА РАВНЫХ. Как с группой сверстников. Без угроз и заискиваний. Как человек с человеком.
– Да не получится.
– Пробуй.
– Мутность какая-то.
– Пробуй, говорю.
– Ну ладно.
Муравьи, муравьи, Вы не трогайте меня.
А я оставлю Вам хлебной и сахарной крошки, когда буду уходить.
Через минуту все прекратилось, перестали наползать. Впоследствии всю жизнь так договаривался с комарами, птицами…
Объяснить другим трудно, тут важна не крошка, а готовность [разделять и внушать]. Не знать, а именно «вспомнить» как. В детстве смог вспомнить, и запечатлелось.
Новое решение, риск и новые права
Годами брали неводом тагунка[14] в привычной заводи. Почти традиция. В этом был резон, подкрепляемый опытом. Старшие рассказали-показали, какие места нужно обходить неводом, где приподымать его, чтобы не зацепить, не порвать о корни, коряги и камни. В начале лета иногда все равно рвали невод о принесенные половодьем деревья-коряги на дне, но чаще все обходилось благополучно. Трудные места запоминали. Особенно злили подъемы невода из-за нескольких высоких камней (уходило под невод до половины рыбы), но тут ничего не поделаешь. Заводили невод еще и еще раз.
Лет с десяти Петр присматривался к соседним заводям, чувствуя, что там много рыбы, и не раз предлагал пройтись там по дну неводом. Но отец правильно говорил, что рвать и путать невод в незнакомом месте себе дороже. Лучше прийти через пару недель и «обловить» знакомую заводь еще раз. Лет в 13 Петр попробовал поплавать-понырять в соседних заводях и убедился в том, что и так знал – отец прав, в незнакомом месте невод будет порван, а чинить его долго и муторно.
На следующее лето Петр мог нырять уже глубже, доставая дно, и несколько дней трудился под водой. Часть близких к берегу коряг удалось просто вытащить, у других он срезал-спилил самые мешающие ветви и корни. Даже удалось сбить узкую вершинку большого камня на дне. Когда предложил пройтись неводом по обработанной заводи, старшие братья и отец, видевшие его упорное ныряние с ножовкой и молотком, не удивились и согласились, сказав лишь, что невод будет чинить сам. А посмотрев нарисованный им план-чертеж дна, стали спрашивать, вначале чуть ни на каждом шагу, куда вести невод, где приподнимать, где опускать и пр.
Первый раз прошли, не зацепив ничего и взяв много рыбы. С тех пор в семье привычно стали говорить «Петькина заводь» (чаще просто – «Петькина») и редко брали там рыбу, если Петр был в отлучке по другим делам. Когда же Петька, поныряв, обустроил лучше и традиционное место, это было воспринято как должное, и старшие стали советоваться с ним насчет невода и сети во всех других местах.
Привыкнув к тому, что старшие к его мнению прислушиваются, Петр уже позже (по пути на передовую) сделал для себя некоторые выводы, которые не раз пригодились ему и на войне (войнах), и вообще:
1. Предлагая новое, ты рискуешь тем, что: а) будешь отвечать за последствия; б) мнение других людей о тебе ухудшится, если новое будет неудачным.
2. Если получится более-менее удачно, то: а) другие люди будут ценить твое мнение; б) твой авторитет повысится.
3. Прежде чем предложить и взяться за новое общее дело, лучше: а) узнать об этом деле как можно подробнее; б) подготовить, как сможешь.
В 20-х годах (XX века), выезжая с друзьями из Иркутска в деревню на Ангару, Петр заметил в заводях реки много тагунка и, раздобыв мелкоячеистый маленький невод, за полдня наловил (наневодил) рыбы в несколько раз больше, чем все присутствовавшие друзья. А после того как он показал засолку тагунка в бочонке, в Иркутском университете стал считаться опытнейшим рыбаком («с Лены»), и к нему не раз обращались за советом. Приобретенный, благодаря проведенным на Лене (семья бакенщика) детству и юношеству, опыт казался необычайно большим и уникальным городским жителям, особенно по зимней рыбалке (даже предлагали быть соавтором книги-справочника). В детстве Петр этого не ценил, но позже обдумал.
В обычное время в Киренске стоящий в погребе маленький бочонок тагунка считался всегда имеющейся под рукой легкой закуской (перекусом), как и бочонки с огурцом, капустой и пр. Но во время войны тагунка ставили уже несколько бочонков, и это выручало длинной зимой.
1915. Ранение. Румянцевская библиотека
С конца 1914 года был унтер-офицером полковой разведки. Рассказывал немного о разных «хитрых», как тогда казалось, военно-полевых верованиях. Например, перед ночной вылазкой сосали колотый кусочек твердого сахара-рафинада, или красным фонариком в глаза светили, верили, что от этого улучшается темновое зрение.
Возвращаясь с задания через линию фронта на Варшавском выступе, был тяжело ранен в живот разрывной пулей (Шаман уверен, вопреки записям историков, что снайперы у немцев уже были). Товарищи дотащили в часть, и началось «путешествие» по госпиталям.
Сначала Петру (будущему Шаману) относительно, как он позже понял, повезло. После многих переводов и хлопот самого полковника, близко принявшего тяжелое ранение юного Георгиевского кавалера (за храбрость в боях) сибирского стрелка, несколько месяцев долечивался в подмосковном госпитале. Но и там оформление ухода только ставшего прапорщиком (офицером) в отставку потребовало много тупого терпеливого упорства и потери чина (таков был несправедливый закон). В итоге все же получил документы отставника по ранению и право на мизерную пенсию (относительно мизерную – это для Москвы. Вообще-то она была равна почти половине оклада бакенщика в Олеминске).
Поразившись и посетовав на размер пенсии, 19-летний отставник задумался, как жить дальше. Сначала пришлось отказаться от мыслей о возвращении в Киренск. Тогда будущий Шаман сам еще не верил в свое полное выздоровление и, с сожалением, оставил свои мечты о работе бакенщиком и подработке при этом охотой и рыбалкой.
Пособия и пенсии должно было хватать нормально прожить до зимы. Нужно было строить жизнь и профессию в Москве. Поработав там и тут (грузчиком в булочной, кровельщиком, извозчиком на чужой лошади и пр.), Петр решил продолжать образование. Дерзость планов его никогда не останавливала, и он подал документы на юридический факультет МГУ. Рассчитывал, что у юного ветерана, раненого офицера-отставника гимназический аттестат сразу требовать никто не будет (так и вышло, все заполнили с его слов). Сделал себе легенду: с первого года Иркутской школы прапорщиков (о которой лишь мельком слышал в Якутске, на сборном пункте) ушел вольноопределяющимся на фронт, документы остались в Иркутске[15].
Сначала решил, как некоторые друзья-однокурсники, зарабатывать репетиторством, но знаний церковно-приходской школы было явно недостаточно, и, осмотревшись в Москве, устроился референтом (статус студента МГУ уже позволял) по договору в Румянцевскую библиотеку[16] (будущая библиотека им. В.И. Ленина). Тогда же понял, что при всех легендах о неодолимой царской бюрократии, главное – не аттестат или справка, а четкая цель и умение убеждать людей (например, при общении) и чувствовать их своими союзниками.
В ответе на вопросы о трудностях общения после сибирского маленького городка-поселения и армии в Москве со сверстниками-однокурсниками, выпускниками престижных гимназий, Шаман рассказал о нескольких странно неловких ситуациях в гостях у однокурсниц: сначала на вопрос «Что будете (например, кофе или чай)?» Петр несколько раз ответил: «А то же, что и Вы». В Киренске, в отцовской семье такого вопроса никогда не было, ели то, что на столе. В армии тоже, что полевая кухня привезла, то и ели.
Потом понял, что это новая часть самостоятельности – небольшое размышление и самоопределение при наличии выбора.
Впрочем, обычно все списывалось на молчаливость Петра и остающиеся после ранения переживания[17] (сейчас это описывается как ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. – В.С.). Однокурсники и даже их родители с большим пиететом относились к факту пребывания Петра на фронте и ранения.
Мятеж левых эсеров[18]
Летом 1918 года, фактически уже перейдя на четвертый курс юридического факультета МГУ, Петр, будучи представителем студентов-юристов, проголосовал на одной из конференций «за» резолюцию против ратификации Брестского мира[19]. В событиях 6 июля (мятеж) он не участвовал и узнал о них (убийство посла Германии Мирбаха, вооруженные столкновения в Москве и в Питере, аресты и пр.), лишь вернувшись в конце августа в Москву (летом гостил у родителей невесты).
Список голосовавших как-то попал в ВЧК, и в конце сентября Петр был арестован прямо на лекциях и доставлен на Лубянку (для допросов и уточнений).
В камере долго говорил с ехавшим из Питера в Улан-Удэ тибетским ламой, много узнал о тибетском буддизме. Тот тоже с огромным интересом слушал о таежной жизни в Якутии, назвав жизнь в тайге почти идеальной для развития и продвижения. Но с условием, если человек имеет образование и тягу к развитию. Впрочем, ламу на четвертый день выпустили (не до таких было), Петр же получил дополнительную опору в круговерти жизни – возможность приехать в буддистский монастырь и пожить там.
Узнав о расстреле верхушки партии левых эсеров, бежал (ему, фронтовику с опытом, это было нетрудно из-за расхлябанности конвоя и тогда еще двойственного отношения солдат к арестованным). Успел заскочить на свою съемную комнату-квартиру, сжег в печке большинство документов и метнулся на Ярославский (как он тогда назывался?) вокзал. Сел в поезд на Владивосток, но, узнав уже в поезде о мятеже во Владивостоке, сошел в Иркутске. Офицерские документы (в том числе и о награждении Георгиевским, и о ранении) уничтожил и начал новую жизнь в Иркутске, имея документы неокончившего студента МГУ. Никто его в Иркутске не искал и не ловил – Гражданская война разбушевалась всерьез.
Невесте и первой в жизни женщине он передал через друга-студента краткое письмо, опасаясь за нее: «Я арестован по политической статье против власти. Прости. Прощай». Неизвестно, дошло ли? Больше о невесте Шаман отказался рассказывать.
Осень 1918 года, зиму и весну 1919 года Петр работал в конторе по организации Иркутского Университета[20]. Старался в политику не вмешиваться. С падением Временного Сибирского правительства контора была временно распущена, и в 1920 году Петр устроился в один из отрядов РККА (рабоче-крестьянская Красная армия), охранять эшелоны и поезда КВЖД от нападений хунхузов (китайские разбойники-бандиты).
В охране железной дороги прослужил успешно до 1928 года, женился, купил дом и надел в Киренске, родилось девять дочерей и два сына, занимался хозяйством и рыбными промыслами.
Другая методология
Начало 2000-х
В начале 2000-х, когда Шаман жил у меня, я научил его пользоваться компьютером. Обучение, помню, заняло около часа. Могло и быстрее, если бы сразу учил по-другому. Думаю, и сегодня диалог полезен некоторым людям моего возраста и старше (да и младше).
Сначала показывал мышь, как открывать редактор, какие кнопки или их сочетания нажимать, пока у нас обоих хватало терпения. Шаман старательно записывал и, наконец, спросил:
– У тебя есть инструкция?
– Большинство инструкций есть в самом компьютере.
– Покажи, как открыть главную.
– Главной нет, они разные под разные задачи.
– Не может быть. Любой прибор сгорит нафиг, если действовать не по инструкции.
– Здесь ничего не сгорит, если питания не трогать.
– То есть могу давить любые кнопки, и ничего не будет?
– Да, сохраняй только, чтобы текст не потерять.
– Так бы сразу и сказал.
– Что сказал?
– Понимаешь, весь ХХ век нас учили – нажмешь не ту кнопку или рычаг, и дорогой сложный прибор сгорит или вообще взорвется.
– Поэтому ты спрашивал про инструкцию?
– Да.
– Здесь не так. Если не лезть в железо или в программы, то жми все смело.
– Пробуй и узнавай?
– Ага.
Когда вечером я пришел с работы, Шаман уже был пользователем не хуже меня, а через несколько дней – лучше. Сам себе задавал вопросы и сам же находил в Сети ответы, самоучители и курсы пользователя.
Это заставило меня задуматься о том, чему и как обучается Шаман. У него было два преимущества перед загруженным работой и делами взрослым (мной, например): а) преимущество ребенка над взрослым – время обучения (проб и ошибок) неограниченно (бесконечно); б) преимущество взрослого над ребенком – помнил свои вопросы и упорно целенаправленно искал ответы.
В немецком плену было лучше, но судьба здесь
05.01.2022