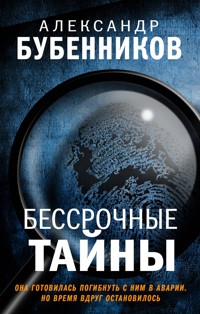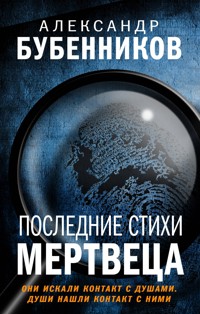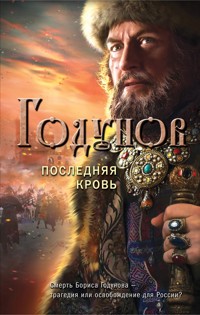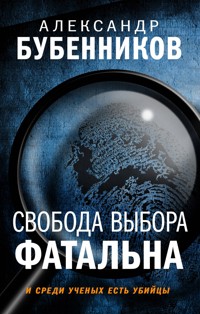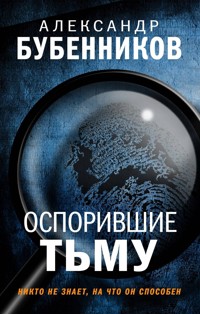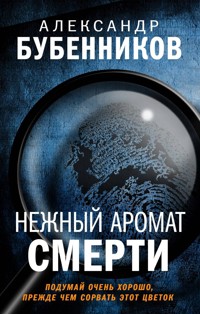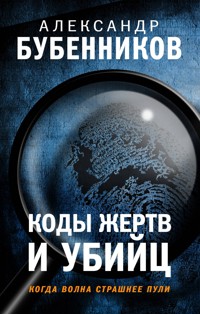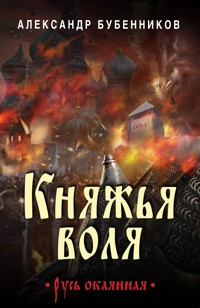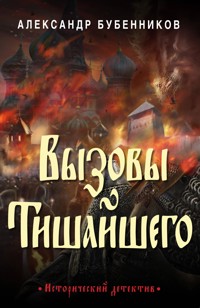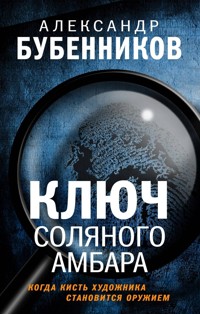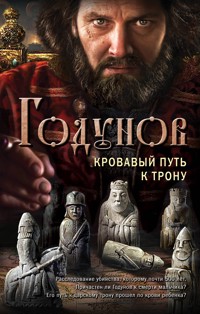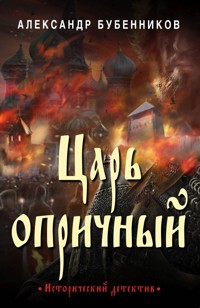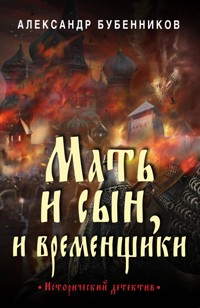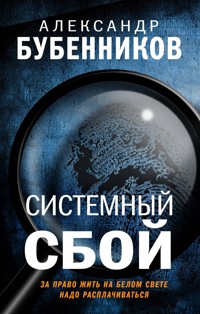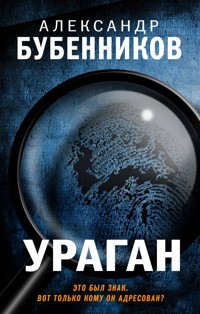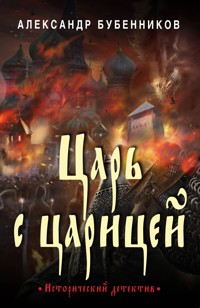
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Krimi
- Serie: Грозный. Исторический детектив
- Sprache: Russisch
Перед торжественно вступившим в город русским войском ехал младший воевода, держа в руках знамя мира. Этим фактом пощады и милосердия победителей было показано: русских не следует бояться. Но в жажде скорейшего выхода Руси к морю Грозному пришлось столкнуться с тем, что его усилия вязнут в тенетах полумер и частичных «разумных и осторожных» государственных мужей, советчиков ближней Думы, и не менее «осторожных» воевод, не желающих шибко рисковать своей шеей в авантюрах своего государя. Усмирение завоеванного Грозным Казанского царства и завоевание Астраханского царства в жестоком противодействие с изменниками государству Московскому. Милость Грозного царя и прощение изменников. Вынужденное покровительство царя к ненавистникам царицы Сильвестру, Адашеву, Курбскому при знании об их тайной связи с династическим соперником, двоюродным братом Владимиром Старицким. Предложение старосты Черкасского и Каневского Дмитрия Вишневецкого о вхождении «украинских» земель в Московское государство. Беседы царя с царицей о дворцовых интригах при дружбе Анастасией со ставленницей Адашева Марией-Магдаленой, обладающей даром предвидения, пророчества. В сюжетные линии романов органично вплетены древнерусские произведения - летописные своды, жития, послания, духовные грамоты, освещающие не только личности князей и преподобных - героев романа, но и тайны русской истории и его великих государей, русского прорыва на Западе и Востоке, создания Великой Империи Ивана Великого и Ивана Грозного. Цикл из шести исторических романов помогут глубже проникнуть в актуальные для нынешнего времени тайны отечественной истории первой Смуты в государстве и душах людей, приоткрыть неизвестные или малоизученные её страницы становления и укрепления русской государственности и гражданственности, и предназначается для всех интересующихся историей Руси-России.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Александр Бубенников Царь с царицей
1. Знак Николы
«…Кого люблю, того и погублю!». Эта невыразимо грустная новоявленная присказка царапнула мозг царю где-то под хмурое утро, еще в темной сонной дрожи, когда его странный сон – сродни мороку – на мягких кошачьих лапах уже отходит к дверям опочивальни.
Почему-то страшно огорчился он этим залетевшим в его сон на хрупких ангельских крыльях знаковым словам… Ведь по сути, за всю своею недолгую жизнь – всего-то двадцать три года! – Иван больше всего на свете любил только одно живое родное существо, дышал над ним, пылинки сдувал с чела и оберегал, как зеницу ока… Анастасия, свет души его – о ней Иван подумал в первую очередь, когда, уже окончательно проснувшись, со смеженными веками шальную мысль материализовать сумел в звук, прошелестев сухими губами:
– Кого люблю, того и погублю… – Иван оцепенел от страшного смысла произнесенного вслух. «Бог ты мой, ведь не так в народе нашем говорят… – подумал он с тревожно колотящимся сердцем. – А как?.. Ах да, конечно же, так… Кого люблю, того и бью… Любят наши русские мужички поколачивать своих женушек-сударушек, что под горячую руку или по пьяни – вовремя или не вовремя – подвертываются… А еще почему-то припомнил скороговорку скоморошью: Жена, а жена, любишь ли меня? «А?», Аль не любишь? «Да» Что да? «Ничего, люблю как клопа в углу – где увижу, туи и задавлю».
Несмотря на тревожное неспокойное сердце, он улыбнулся… Уж чего-чего, а поднять руку на обожаемую им царицу царь никогда бы не посмел – тем более, сейчас, после гибели царевича Дмитрия, в ожидании снова ребенка… Уже на пятом месяце беременности… И в любви Анастасии к нему Иван был уверен, потому что не знай, не чувствуй ее светлой и окрыляющей любви, он давно бы сломался от гнета неподъемных дел, которые он взвалил себе на плечи, от потрясений, выпавших ему особенно в последнее время – война, болезнь смертельная, мятеж бояр и злодейство мистическое на богомолье в Белоозеро, и ересь, и предательство в момент жесточайшего династического кризиса…
Но всегда с царем была его светлая и добрая царица – опора души его, потому и выжил во время смертельной болезни, хотя обязан был отойти к праотцам на небеса… За четыре года супружества нежная и набожная Анастасия налилась удивительной женской красотой и статью… Походка стала плавной и грациозной – словно белый лебедь по озеру плывет… Во взгляде – чистота и покой душевный… Только иногда благонравие и благочестие уступят место неожиданной печали горькой – как никак двое дочек крохотных похоронила, да сынка-царевича оплакала слезами горючими… Попробуй утешь разбитое сердце матери… Даже когда тетки-мамки утешают наивными утешениями, мол полюбил шибко их детинушек Господь Бог – вот и забирает на небо, чтобы им, безвинным, ангельские крылышки сотворить и отпускать на землю ангелами-хранителями душ добрых и таких же безвинных…
Лелеял и холил юный государь свою драгоценную нежную чистую женушку, знал, что такое счастье истинной любви только раз в жизни выпадает – и все, как ни зови, как не лей слезы, больше в жизни такого уже счастья не выпадет… Это уже Иван знал точно, ни разу на этот счет ни с кем не обмолвившись – такое тонкое, дарованное свыше чувствие судьбы, было запрятано на глубине души государевой, и нечего было его выволакивать на поверхность сует и дрязг жизненных, чтобы не сглазить… Ведь не чувствие своей собственной судьбы, породненной с судьбой обожаемой и единственной на всем белом свете и сплетенной с судьбой своего народа русского – это греху унынию сродни… А царь все грехи своей юности и жестокого своенравия добрачного – светлой любовью царицыной очистил, народной любовью к царице и к себе искупил, покаявшись и возлюбив еще сильнее и возвышенней…
Ведь когда в Москве говорили об «эпохе чудных перемен» в самом царе и его царства Третьего Рима, прежде всего говорили о благотворном влиянии на Ивана Грозного первой покровительницы нищих и сирых на Руси – царицы Анастасии. Конечно, царице много пришлось пережить и побеспокоиться из-за характера юного супруга, одновременно сильного, вспыльчивого, жестокого, прекрасно и слабодушного.
Царь как великолепный актер с блестящими врожденными артистическими задатками – наверное, в матушку Елену или в бабку Софью – понимал очень важное и тонкое в их супружеских венценосных отношениях. Когда умница и скромница царица чувствует себя с ним, царем, словно в античной трагедии на подмостках сцены – Жизни Монарха – на которой ей приходится постоянно усмирять дикое, жестоко-зверское в царе, которого она бесконечно любит и в то же время постоянно боится и пытается приручить к себе. Иван знал, за что он больше всего любит свою суженую, ниспосланную ему свыше Анастасию – за кроткое очарование душевной красоты и юности, смирение и покорность, перед которыми пасовали его сила, жестокость, буйный нрав, проявленный смолоду. Своей слабостью, покорностью, беззащитность перед царем и окружающим жестоким миром, Анастасия добивалась того, чего никогда нельзя было добиться силой, упрямством, непробиваемой броней и настойчивостью иного властного женского характера. Потому и счастлив был царь с царицей в освященном церковью браке ярких противоположностей, где очевидные минусы характера царя уравновешивались не менее очевидными гармоничными плюсами женского начала: потому и молитвенное вдохновенье им открывалось во всей полноте и благодати только вместе. Когда в единой молитве царя с царицей их души открывались и напрямую общались Господом, когда ее душа откликалась и верила прежде всего в Божью благодать милосердного Бога, а его душа, измученная боязнью гнева Божьего, внушенного царю Сильвестром, смягчалась верой в благовест Господа…
После трагедии на Белозерском богомолье – вслед за боярским мятежом ради династического переворота в пользу Старицкого – государь ждал какого-то доброго знака свыше, чтобы укрепиться в вере в себя, утвердиться в намерениях покончить с волнениями на казанской земле и пойти войском на Астраханской ханство. И сны были соответствующие – боевые, успешно воевал в них царь Горную область, где восстали черемисы с казанскими татарами, и на Астрахань походом шел уверенно. И вдруг утреннее оцепенение от тайного страшного смысла явившихся поутру слов – «Кого люблю, того и погублю».
Если до подтверждения новой, четвертой по счету беременности царицы Иван по возвращении поздними вечерами – из-за разных неотложных дел – спал вместе с супругой, то потом, «на шестом брюхатом месяце», приказал стлать себе в отдельной скромной опочивальне – низенькой с одним крохотным оконцем. Царь молился на ночь глядя только об одном, чтобы Господь смиловался над ними, царем с царицей, и подарил им наследника престола взамен загубленного мистическим пророчеством, ненавистью и коварством человеческим безвинного сынка-царевича Дмитрия. Потеряв уже троих младенцев, царь подбадривал себя тем, что после ушедшей к ангелам на небеса несчастной младенческой «Троицы, любимой Богом», наконец-то, для облегчения их с царицей душевных страданий родится царевич Иван – уже имя в святцах по срокам было подобрано… Не то что несчастное для царя с царицей имя «Дмитрия Ивановича» – в честь великого прапрапрадеда Дмитрия Донского – сотворенное по октябрьским калькам тщеславия и эйфории казанской победы «победителя татар», как над Мамаем…
Знака доброго – свыше или откуда еще, со всех концов земли русской – Иван ждал, как можно быстрее, для царя и царицы, чтобы утвердиться в правоте дела царского на благо Москве – Третьему Риму… Потому и переиначивал царь свою приснившуюся мрачную присказку «Кого люблю, того и погублю» в более благостные и благозвучные: «Любящих Бог любит… Кого любишь, того сам даришь, а не любишь, и от того не примешь… Так бы меня Бог любил, как царя царица любит». Свою жизнь, свою любовь подарил царь царице, но сейчас, как никогда раньше, ждал от нее щедрого подарка – наследника. Все мысли царя были заняты ожиданием доброго знака, чтобы…
И в начале декабря 1553 года царь-государь получил добрый знак от святого Николы Чудотворца, которого ждал всем сердцем и который вдохнул в его душу новые надежды… К нему из монастыря святителя Николая Чудотворца прибывает гонец-вестник с удивительным сообщением…
Буквально в то время, когда царю стало известно о зачатии царицы, а именно 24 августа 1553 года из Белого моря вошел в Двинской залив иностранный корабль огромных размеров и пристал к берегу, где стоял монастырь святого Николая. С корабля сошли чужеземцы, говорящие на неизвестном языке, но жестами объяснившие, что у них самые добрые намерения к русским северным поселенцам. И самое главное, у капитана английского корабля «Edward Bonventura» Ричарда Ченслера есть рекомендательное послание короля Эдуарда к русскому царю – оказать содействие купцам во взаимовыгодной торговле. Выяснилось, что кораблю Ченслера, только единственному из всей экспедиции под началом Гуга Виллоби удалось остаться на плаву после сильной бури. Два других корабля из экспедиции, пытавшейся достичь берегов далекой Индии через северо-восточный путь в Ледовитом океане, затонули у берегов русской Лапландии: начальник Гуг и его экипаж или погибли в ледяной воде или замерзли на берегу.
Наместники Двинской земли немедленно снарядили гонца в Москву с известием, словно догадывались, что ждет царь в Москве доброй вести для себя и своего Русского государства. Сообразил смышленый молодой царь-государь, какие выгоды его стране принесет торговое сотрудничество с далекой морской островной державой, рвущейся в соперничестве с торговыми гегемонами Испанией, Венецией, Генуей, проложить путь в Индию и Китай Ледовитым океаном. Понимая важность данного счастливого случая, чудного доброго знака Николы Чудотворца во время беременности царицы, бездетный, но ожидающий потомства Иван повелел, чтобы английским путешественникам были выделены лошади, повозки, провиант и все необходимое для их передвижения в русскую столицу.
В конце декабря англичане прибыли в Москву после долгого и трудного пути по бескрайним заснеженным просторам Руси. Представленные царю заморские гости видели, по их словам, «беспримерное» великолепие кремлевского дворца, ряды сановитых бояр и вельможных чиновников в расшитых золотом одеждах, бесподобный царский трон и самого молодого царя, окруженного потрясающим величием и безмолвием. Царь ведь тоже решил не ударить в грязь лицом и поразить иноземца-англичанина пышностью и роскошью приема, устроив капитану Ченслеру грандиозную торжественную встречу – чтобы о русском самодержце прослышали в островной Англии.
Одетый в золоченый пурпурный кафтан, в красивой шапке, отороченной собольим мехом, царь гордо и величаво восседал на троне. Ченслер вручил царю грамоту своего короля Эдуарда, написанную по-английски и на латыни «ко всем северным и восточным государям:
«Эдуард Шестой вам, цари, князья, властители, судии земли во всех странах под солнцем, желает мира, спокойствия, чести, вам и странам вашим! Господь всемогущий даровал человеку сердце дружелюбное, да благотворит ближним и в особенности странникам, которые, приезжая к нам из мест отдаленных, ясно доказывают тем превосходную любовь свою к братскому общежитию. Так думали отцы наши, всегда гостеприимные, всегда ласковые к иноземцам, требующим покровительства. Все люди имеют право на гостеприимство, но еще более купцы, презирая опасности и труды, оставляя за собой моря и пустыни, для того, чтобы благословенными плодами земли своей обогатить страны дальние и взаимно обогатиться их произведениями. Ибо Господь Вселенной рассеял дары его благости, чтобы народы имели нужду друг в друге, и чтобы взаимными услугами утверждалась приязнь между людьми. С сим намерением некоторые из наших подданных предприняли дальнее путешествие морем и требовали от нас согласия. Исполняя их желание, мы позволили мужу достойному, Гугу Виллоби, и товарищам его, нашим верным слугам, ехать в страны, доныне неизвестные, и меняться с ними избытком, брать, чего не имеем, и давать, чем изобилуем, для обоюдной пользы и содружества. Итак, молим вас, цари, князья, властители, чтобы вы свободно пропустили сих людей чрез свои земли: ибо они не коснутся ничего без вашего дозволения. Не забудьте человечества. Великодушно помогите им в нужде и примите от них, чем могут вознаградить вас. Поступите с ними, как хотите, чтобы мы поступили с вашими слугами, если они когда-нибудь к нам заедут. А мы глянемся Богом, Господом всего сущего на небесах, на земле и в море, клянемся жизнью и благом нашего царства, что всякого из ваших подданных встретим как единоплеменника и друга, из благодарности за любовь, которую окажите нашим. За сим молим Бога Вседержителя, да сподобитвас земного долголетия и мира вечного. Дано в Лондоне в лето от сотворения мира 5517, царствования нашего в 7».
Проникшись обращенными к нему словами благовестника, Иван устраивает в честь капитана Ченслера с англичанами роскошный пир на сто с лишним человек… Сто пятьдесят царских слуг, которые трижды во время пира сменяют свои одеяния, подносят редкие угощения и напитки на золотой посуде. Трапеза длится под шесть часов: мозги лося с пряностями и медвежатину в вине, сменяют куры с имбирем, затем фаршированная осетрины и щука… Разгоряченные винами и медами стоялыми английские и русские сотрапезники запросто находят общий язык при помощи всем понятных жестов.
Затем капитан Ченслер в сопровождении гостеприимного царя с любопытством осматривал внутренности роскошного кремлевского дворца – изразцовые печи до потолка, великолепные ковры, меха, бархат, парчу. Дивился святым иконам и запаху церкви – ладана, воска, лампадного масла… А сам царь поражен нарядами, манерами иноземцев, самих с одного края света и к тому решившихся на путешествие на другой край света – это вызывает уважение и неподдельный интерес к далеким подданным короля английского…
Царь написал королю Эдуарду, что он, искренне желая быть с ним в дружбе, согласно с учением Веры христианской, с правилами истинной науки государственной и с лучшим его разумением, готов сделать все ему угодное, что, приняв ласково Ченслера, так же примет и Гуга Виллоби и других английских послов, купцов и путешественников. Что дружба, защита, свобода и безопасность ожидают всех послов и купцов их Англии в Русском государстве…
Этой же зимой 1554 года лапландские рыбаки нашли начальника экспедиции мертвым, сидящим ледяным изваянием в шалаше с вахтенным журналом в руках, зато капитан Ченслер добрался до Англии и вручил послание царя с немецким переводом заступившей на трон Марии Тюдор вместо умершего короля Эдуарда. Надо ли говорить, что вернувшийся из Москвы на родину капитан своими рассказами о Руси и ее царе произвел радость и изумление англичан. Там заговорили о Руси, Русской земле как о «вновь открытой земле», желали знать ее любопытную историю, географию, при этом в Англии моментом было организовано купеческое общество для торговли с удивительной северной страной…
После отъезда Ченслера, буквально за считанные недели до рождения долгожданного потомства, Иван постоянно думал о доброй вести из северного монастыря Николы Чудотворца, о странном эпохальном явлении англичан из далекой чудесной страны – почти на краю света. Царь не сразу понял, почему он на редкость радостно и беспрекословно так полюбил английских моряков и купцов. Во первых, они, как никто, отвечали его любознательному мятежному духу – надо же решились переплыть через непроходимый Ледовый океан с одного края света на другой, не боясь, трудностей, потерь, жертв. Не бояться, жертвовать собой и смело идти до конца, ради блага Отечества – не этот ли добрый знак подал царю русскому Никола Меченосец, держащий в руках меч водной руке для защиты дома-крепости – Государства и Веры – в другой?.. Не ленивцы – лежебоки и сребролюбцы, а смелые и мужественные воинники – вот кто соль земли, кто честь своему государству приносит, защищая и покоряя пространство, что от Бога… И царь тоже стал грезить покорением новых пространств – ради процветания и блага своего Отечества Русского! – вот только любимая царица разродится и…
А во-вторых, особо выделял Иван, что Никола Чудотворец является покровителем и святым защитником купцов-моряков, нелегкий промысел которых был связан с постоянной опасностью перевозок товаров и ценностей по морю. Причем на покровительство Николы Угодника рассчитывали не только русские купцы, но и заморские, те же спасшиеся англичане капитана Ченслера не раз воздавали молитвы, что Господь после шторма, во время которого затонуло два из трех корабля Виллоби, прибил их именно к русскому берегу, где стоял северный монастырь святителя Николы Чудотворца. Значит, это еще одно свидетельство, что спаситель бедствующих и погибающих купцов и моряков в который раз отвел от них костлявую руку смерти, вняв мольбам людей – Бог далеко, а Никола Близко! – и предложил двум державам, Англии и Руси редкий шанс купеческого благоденствия. «Ведь северный морской купеческий путь через устье Двины и Белое море – в обход литовских, ливонских земель, без королевских пошлин и ограничений – открывает новую эру в русской торговле… Пока мы еще прорвемся к морю, к портам Нарвы, Ревеля, Риги – а здесь уже готов торговый путь, проложенный англичанами… И король Сигизмунд скрежещет зубами от бессилия… А Русь торгует и на новые выходы к морям на западе и на юге нацеливается…» – восторженно-лихорадочно думал взволнованный Иван.
– Капитан Ченслер вернется в Москву ровно через год, чтобы заключить договор английского короля со мной… Сколько воды за это время утечет… Только знак Никола Чудотворец подал нам добрый… Чудный знак… Все у тебя, ладо мое, будет хорошо, поверь мне, милая… Ничего и никого не бойся – подаришь мне наследника престола, царевича Ивана…
Иван ласково заглянул в глаза Анастасии и нежно провел ладонью по набухшему животу. Выплакавшая все очи, дожидаясь своего лапушку суженого, Анастасия прильнула к нему лицом, грудью, вздувшимся животом… Она хотела сказать, что ей страшно рожать после гибели их маленького царевича, когда память не отпускает ее мучительными видениями смертей двух дочек, но только всхлипнула и еще сильней прижалась к супругу, обнимая его за шею…
– Ну, что ты, что ты… – Иван не мог подобрать никаких нежных и ласковых слов утешения и сам готов был разрыдаться – с глазами на мокром месте – вместе с супругой в душевном очистительном порыве. «Бог ты мой, – подумал он с мгновенным ужасом, уколовшем ледяной иглой сердце, – что со мной будет, если не дай Бог, я ее когда-нибудь потеряю… Бог ты мой, зачем мне жить-то, зачем?..»
Анастасия вытерла слезы, с трудом успокоилась и сказала мягким грудным голосом, полным любви и ласки:
– …Государь мой единственный… Соскучилась по тебе безумно, тебя не видевши, пока ты к войску в Коломну ездил… Мыльню тебе с утра давно уже топим… – Анастасия попыталась улыбнуться. – …Знаешь, родной, какой сегодня день?.. – Видя, что уставший, с дороги супруг совсем не среагировал на вопрос, небось голова своими государевыми делами забита, пояснила. – … Ведь сегодня, родной, Сретение Господа нашего Иисуса Христа…
– А-а-а… – протянул Иван. – Понятно, какой праздник тебя, милая, взволновал и к слезам подвигнул.
– Я сегодня, когда молилась в церкви, не только о Христе, но и о нас с тобой думала, о нашем ребенке… Знаешь, почему?.. Разум у нас помутился после того, что произошло летом на Белозерском богомолье…
– Больней не могли меня ужалить мои враги – сына-царевича отняли у меня, которому только что присягнули… Такое не забывается, царица души моей… Ехидны ядом изъязвили мое сердце – и пророчеством жутким и гибелью царевича Дмитрия после осуществления пророчества…
– Затихни, мой царь, единственный и любимый, ладо мое… Затихни и успокой себе душу тревожную моим светлым напоминанием… Именно в Сретение на сороковой день после Рождества Спасителя Христа его Матерь Божья Мария и ее обручник Иосиф принесли младенца крохотного в иерусалимский храм, чтобы представить Его перед Богом и принести положенную жертву… А в храме младенца с матерью и обручником встретил мудрый старец-священник Симеон, который взял Христа на руки и сказал священные слова, свидетельствовавшие о том, что тайна Божия о пришествии в мир Спасителя уже открыта ему…
Иван еще нежнее обнял прильнувшую к нему Анастасию, поцеловал ее в мокрые от слез глаза и тихо промолвил:
– …Мне впервые о чудном празднике Сретения рассказала моя матушка покойная… И о Симеоне-Богоприимце, которому выпало на долю воспринять в храме новорожденного Христа и в восторге воспеть знаменитую песнь – «Ныне отпущаеши раба Твоего Владыко…». Потому, наверное, я, милая, праздник Сретения и многие прочие раньше невольно связывал с моей матушкой Еленой, раз от нее впервые о них услышал… Вот, недавно Никола Чудотворец добрый знак русскому царю с царицей подал… Это ведь не случайно в Москве английские купцы с капитаном Ченслером объявились, доплывшие после шторма до монастыря святителя Николы… И Сретенья добрый знак… Все будет славно у нас… Родишь мне наследника… Старец Симеон был Богоприимцем, а любящий нас всем своим сердцем владыка Макарий будет «цареприимцем» – хорошо?..
– Хорошо… Кому же как не ему, владыке, быть… Ты же, милый, рассказывал мне, как он молился за рождение сына твоего батюшки Василия и матушки Елены… – Анастасия хотела добавить, что митрополит Макарий сильно молил Бога и при рождении царевича Дмитрия, но мгновенно осеклась…
Со смертью царевича по вине ее братьев Данилы и Никиты Романовичей, не уследивших за «мамкой» с Дмитрием в пеленах при сходе по узкому, ветхому трапу со струга на Белом озере, будто черная туча легла на голову Анастасии. Она много плакала по приезде с северного паломничества в Москву. Казалось, даже новая беременность не принесла ей отдохновения и спокойствия – царица боялась не столько родов, сколько повторения жалкой судьбы уже троих родившихся младенцев – Анны, Марии, Дмитрия – потому и слезы чаще обычного навертывались на ее глаза при встрече с супругом. Чувствовала, что жестокая тревога о судьбе их потомства мучит не только сердце несчастной царицы, но и разрывает на части сердце впечатлительного царя. Неприбранная с припухшими веками она заглядывала в его глаза и ждала нежных и ласковых слов утешения… И, наконец, только при добром знаке Николы, при приезде и отъезде английского капитана Ченслера Анастасия услышала их.
Царь поцеловал царицу в лоб и мягко сказал:
– …Осиротели мы с потерей Дмитрия… Только это горе нас не разметало в разные стороны… Наоборот сблизило… Потрясение и ужас потери не сломал нас, ладо мое… Я люблю тебя еще крепче… Взгляни на меня веселей и ласковей… Ты ведь про Сретение неспроста сегодня мне напомнила – то тебе был добрый знак Богородицы… Царицы Небесной знак, Матери всего живого и сущего… А мне русский Бог Никола Чудотворец, как отцу отец, еще ранее знак добрый подал – все будет славно у нас, до поры, до времени, по крайней мере… А там уж, как Богу будет угодно – если не прогневим его чем, если наши враги и недруги не пересилят… Отгони от сердца своего, царица души моей, все черные мысли и ожидания, развесели свое сердце и душу надеждой светлой и нашей неугасимой любовью, что сильнее смерти…
Анастасия присела рядом с царем, взяла его сухую сильную теплую руку, пахнущую овчиной, и стала целовать ее.
– Я так хочу подарить тебе царевича, царь мой любимый и обожаемый… – она снова всхлипнула, но тут же остановила слезный приступ, не желая огорчать слезами супруга.
Иван погладил другой рукой ее волосы под взбившимся платком и, задыхаясь от невыносимой нежности и жалости к самому любимому на свете существу, простонал:
– …Ярочка моя нежная, стыдливая… Нет у меня никого на свете, кроме тебя… Только ты одна… Единственная и неповторимая… Любовь моя…
2. Взятие Астрахани и изменники
Со светлыми ожиданиями рождения царевича царь Иван, окруженный любовью благочестивой царицы Анастасии, и не убитый вконец печальными событиями на Белозерском богомолье с прежней ревностью и охотой отдавал все силы делам государственным. Главным делом 1553 – 1554-х годов было усмирение завоеванного им казанского царства и завоевание Астраханского. Брата своего первого советника в «ближней» Думе Алексея Адашева, воеводу Данилу с небольшим, но сильным войском царь послал на Каму, а огромное войско под началом отмеченных доблестью воевод Семена Микулинского, Андрея Курбского и Ивана Шереметева послал в казанские земли на мятежников.
Войска, выступив зимой, в самые жестокие морозы, успешно воевали несколько месяцев, разорили в казанских землях возведенную мятежниками новую крепость, уничтожили более десяти тысяч вооруженных неприятелей и взяли в плен вдвое больше. Отличившиеся воеводы получили от государя самые лестные награды того времени – золотые медали – а особо отличившийся в разгроме восставших татар и черемисов князь Андрей Курбский был пожалован царем в бояре…
Усилия бунтовщиков ослабли, черемисы, вотяки и прочие племена в казанской земле просили у московского царя милосердия, обязуясь блюсти ему верность и платить дань. Царь милостиво принял в Москве старейшин племен и дал им жалованные грамоты. Догадывался царь, что на этом мятежи и бунты не закончатся, только на какое-то время оказались развязанными руки царя для завоевания Астрахани. К тому времени посла московского обесчестили и держали в неволе в далекой Астрахани: вот и воспользовался царь удобным случаем, развязав себе руки в казанской земле, возвратить себе древнерусские земли Тмутаракани, где когда-то княжил сын Владимира Святого, князь Мстислав…
Умыслил царь Иван сразу после появления на свет своего потомства послать свою рать на Астрахань… Наконец, когда царица Анастасия подарила царю такого долгожданного сына Ивана, а случилось это 28 марта 1554 года, он решился на астраханский поход… Траур по царевичу Дмитрию снят, все вместе с царем надеются на чудные благотворные в Русском государмтве. Царь был вне себя от великой радости, он искренне верит, что он снова в согласии с Господом, потому и добрый его знак надо использовать по назначению – ради интересов Отечества… Сразу же после ледохода 30-тысячное войско под началом сильного воеводы, князя Юрия Пронского-Шемякина поплыло на судах по Волге на Астрахань. Туда же отправилось войско вятских служилых людей под началом князя Александра Вяземского.
Трудно было предполагать, какое сопротивление окажет последний из астраханских ханов Ямгурчей, который одно время даже хотел быть данником Москвы, но потом, обольщенный мнимым покровительством турецкого султана, пристал к союзу с крымским ханом Девлет-Гиреем и ногайским – Юсуфом. Многие же ногайские мурзы, противники Юсуфа, просили царя, чтобы он отдал Астрахань изгнаннику Дербышу, прежнему властителю астраханскому – еще до Ямгурчея – и готовы были помочь московскому войску. Потому для покорения Астрахани Иван послал гонца в ногайские улусы с призывом к Дербышу срочно выступать и помочь отборному московскому войску.
Опрокинув сторожевые посты астраханцев, и взяв несколько пленников, воеводы узнали от пленных, что хан Ямгурчей стоит в пяти верстах от города в нижнем течении Волги, а в самом городе нет почти никого… Высадившись в двух местах 2 июля, войска Пронского двинулись на астраханскую крепость, редкие защитники при первом же появлении русских побежали. Не встретив никакого сопротивления, наши войска вошли в крепость и заняли Астрахань. Вяземский же со своими полками решительно пошел на ханский стан, только и там не нашел никого. Ямгурчей увел свое войско к Азову, отпустивши своих жен и детей, а также своих знатных вельмож-чиновников на легких судах к морю – эти суда со знатными пленниками были быстро перехвачены.
Все пленники тут же изъявили желание служить Дербышу и зависеть от русского царя, требуя единственно для себя сохранения жизни и личной свободы. После бескровного взятия Астрахани знатных князей и мурз набралось под пятьсот, а простых людей – под десять тысяч. Новый астраханский властитель Дербыш от лица своих подданных поклялся высылать в Москву ежегодную дань – сорок тысяч алтын и три тысячи ценных осетровых рыб. Вельможам предписывалось в случае смерти их властителя Дербыша не искать себе татарского или ногайского хана, а ждать, кого царь московский Иван пожалует им в законные правители. В клятвенной грамоте, скрепленной печатями, сказано было, что подданные русского царя могли теперь свободно ловить рыбу от Казани до Каспийского моря без обложения данью и пошлинами с налогами.
Оставив вместе с Дербышем для его безопасности Козаков, учредив порядок на астраханской земле, воеводы возвратились в Москву с пятью взятыми в плен царицами и великим множеством освобожденных русских невольников, томившихся в астраханских улусах…
Царь Иван получил весть об успешном завершении астраханского похода в конце августа, в день, когда ему исполнилось 24 года. Основанная восточным деспотом Тамерланом Астрахань, на землях древнерусской Тмутаракани – в его руках… Благодаря бескровной победе Русь получила выход в Каспийское море: теперь Москва контролирует все течение Волги – от истоков в тверской земле до дельты в астраханской. Персия и правители Центральной Азии вынуждены считаться с Москвой, потому и обязаны пустить русских купцов на свои богатейшие рынки…
Празднуя свой день рождения, 29 августа 1554 года, с митрополитом Макарием и со всем своим двором в подмосковном селе Коломенском, обрадованный своей астраханской победой не менее, чем своему отцовству, царь ликует. Победителю пристало быть милосердным; царь, встретив с великой честью плененных цариц, отпускает всех назад в Астрахань – к удовольствию Дербыша…
Только младшая из пленных цариц, которая на пути в Москву родила сына, пожелала вместе с ним креститься в Москве. И на торжественном богослужении митрополит Макарий в присутствии царя Ивана крестил знатную пленницу-царицу: сына назвали царевичем Петром, а мать Юлианией… Скоро царь женил на Юлиании своего именитого дворянина Захария Плещеева…
Не ведал государь, что скоро придется столкнуться ему с изменой и вероломством Дербыша, снявшего с себя личину друга царя московского и пошедшего на союз с Девлет-Гиреем и Юсуфом, как только что прознал про измену в собственном государстве…
В конце июля 1554 года, в разгар астраханского похода, в Литву пытался убежать один из участников заговора против царя, князь Никита Ростовский, которого схватили по дороге недалеко от города Торопца. На допросе тот признался, что его послал в Литву боярин Семен Васильевич Ростовский передать королю Сигизмунду, что он сам отъезжает к нему от царя с братьями и племянниками…
Схваченный по приказу царя боярин Семен Ростовский на допросе стал прикидываться ветошью и «Ваньку валять»: якобы хотел бежать от собственного убожества и скудоумства – поскольку по-пустому изъедает царское жалованье и отцовское наследство. Однако люди, вызванные на допрос, показали, что он сносился с литовским послом Довойною, когда тот был в Москве, и даже сам тайно дважды виделся с ним – говорил ему, как обстоят дела в Думе насчет мира с Литвой, поносил государя и требовал себе опасной грамоты для бегства. Семен Ростовский вынужден был признаться, что с ним хотели бежать в Литву родственники его, князья Лобановы и Приимковы.
Боярин очень боялся сурового наказания государя. Если в Литве и Польше участие знати в избрании на трон монарха считалось само собой разумеющимся – законным и необходимым! – и ни коим образом не рассматривалось как государственная измена, то в Русском государстве все было с точностью наоборот. Князья и бояре, высказавшиеся в момент болезни царя не за царевича Дмитрия, а за его династического соперника Владимира Старицкого, знали, что от выжившего царя их ожидает неминуемая кара…
Судебное разбирательство по делу беглеца-боярина Семена Ростовского выявило многих заговорщиков, имена которых были неизвестны царю. Многие знатные бояре и князья, оказавшиеся в тени «мятежа у постели царя», были скомпрометированы розыском Семена Ростовского, вскрылись невидимые доселе связи и нити масштабного заговора против царя и его семейства, в первую очередь против партии Захарьиных. Кроме многочисленной родни Ефросиньи и Владимира Старицких, из старомосковского рода Патрикеевых, князей Щенятевых, Курлятевых, Куракиных, выяснилась неприглядная роль князей Турунтая-Пронского, Немого-Оболенского, Репнина и даже бояр-воевод Серебряного, Микулинского, а также многих других князей и дворян, членов Государевого двора. Большинство заговорщиков сплачивала ненависть к партии Захарьиных, решимость не допустить их прихода к власти…
Боярский суд – по делу Семена Ростовского – с ведома царя Ивана и митрополита Макария вел дело весьма осмотрительно и осторожно. Судьи по тайному распоряжению царя намеренно закрывали глаза на многие боярские преступления, не придавали значения выбитым из Ростовского показаниям насчет преступных связей Ефросиньи Старицкой со многими и многими знатными вельможами, которым царь доверял, как самому себе. Нарочно главными сообщниками князя Ростовского в Москве были объявлены только княжьи холопы.
В письменном наказе послу, отправленному царем в Литву, говорилось: «Если станут спрашивать о деле князя Семена Ростовского, то говорить: пожаловал его государь боярством для Отечества, а сам он недороден, в разуме прост и на службу не годится. Однако захотел, чтоб государь пожаловал его наравне с дородными. Государь его так не жаловал, а он, рассердившись по малоумству, начал со многими всякими иноземцами говорить непригожие речи про государя и про землю, чтобы государю досадить. Государь вины его сыскал, что он государя с многими землями ссорил, и за то велел его казнить. А станут говорить: с князем Семеном хотели отъехать многие бояре и дворяне? Отвечать: к такому дураку добрый кто пристанет? С ним хотели отъехать только родственники его, такие же дураки…»
Выяснилось, что в беседах с литовским послом и его помощниками боярин Ростовский почем зря поносил партию Захарьиных. Если бы Никита и Данила Романовичи не оплошали на Белозерском богомолье, оказавшись повинными в «случайном» утоплении своего племянника-царевича Дмитрия, которому они первыми из бояр присягнули на верность, они имели бы все основания настаивать на казни беглеца изменника Семена Ростовского. Наверняка, вместе с боярином на скамью подсудимых пошли бы князья Старицкие и многие их сообщники… Только учинить суд над своими противниками из соперничавших боярских партий, изгнать из Думы многих своих противников Захарьиным было уже не под силу – они справедливо лишились кредита доверия у царя после трагической промашки на Белозерском богомолье.
3. Прощение изменников
Суд все же приговорил боярина Ростовского к публичной позорной казни на Красной площади – на Лобном месте. В ночь перед казнью поседевшего, белого, как лунь боярина, боярина доставили к царю для беседы с глазу на глаз.
– Скажи то, что от суда утаил, Семен… – Иван устремил на боярина испепеляюще-насмешливый взор. – Скажешь мне на ухо – и казни позорной и лютой избежишь… Кого еще знаешь из главных заговорщиков?..
– Господи, господи, господи… – затараторил боярин. – …О чем ты спрашиваешь, царь? Не пойму… Ничего не знаю – не ведаю ни сном, ни духом… Я все, что знал, сказал…
– …На ухо говори мне, Семен, и жить останешься… Завтра выведут тебя на площадь – и ничего тебе за слово правды не будет… Доверься мне… Будет объявлено, что по ходатайству митрополита Макария царь твою казнь заменил заточением – тюрьмой в северной земле…
– Тюрьмой?..
– Да, тюрьмой… Тебя помилуют и отправят на Белоозеро… Конечно, всю твою вооруженную свиту распустят… Но ведь жизнь твоя сохранена будет – понимаешь хоть это, Семен?.. Или ты и вправду дурак – дураком, за которого выдавал себя судьям на суде?..
– Ни за кого я себя не выдавал… – Ростовский сокрушенно качнул головой и выдохнул. – Действительно, все это от моего собственного малоумия – и участие в заговоре, и поддержка Старицких… Откуда мне было знать, что царь Иван Васильевич выздоровеет и всех нас, грешных еще переживет… Княгиня Ефросинья меня лично склонила в свою сторону двумя козырями… Во-первых, говорит, в жилах сына Владимира и малолетнего царевича Дмитрия течет одна кровь их праотцев великий Дмитрия Донского и Ивана Великого… Только шестимесячному царевичу нужно еще лет шестнадцать, чтобы войти в разум князя-воеводы Владимира Старицкого…
– А во-вторых?
А во-вторых, Ефросинья говорила нам всем на тайных встречах – царь Иван сам выделил ее сына Владимира в казанском походе, самыми знатными дарами отметил среди всех воевод и князей… Что после этого скажешь?.. Сам видел, как ты, царь Иван Васильевич уважил на знатном пире после Казани своего любимого двоюродного брата Владимира… В любом случае династический соперник у царевича Дмитрия в лице князя-воеводы Владимира Старицкого был достойный из достойнейших… А малоумство мое только в одном – не мог додуматься, что мой любимый царь, что при смерти лежал, способен вдруг выздороветь… Если б знал, моментом присягнул бы царевичу – и к Старицкой ни одной ногой, ни одним копытом…
– Вот это и есть скудоумие боярское, что готов ты был, Семен, посягнуть на законного природного престолонаследника, учинить беззаконие на троне в пользу двоюродного брата моего при живом еще царевиче и больном государе… – Иван поморщился и возвысил голос. – Только твое скудоумие меня уже мало интересует – все это в прошлом, а враги и недруги в настоящем… Говори, кто еще принимал участие в заговоре? – Иван ласково погладил боярина по голове. – Отвечай, не бойся… Я даже готов дать тебе слово царское, что не только ты избежишь позорной лютой казни, но и названные тобой люди не будут наказаны… Понимаешь – никто не будет наказан…. Разумеется, до поры, до времени – до нового преступления… После которого уже нельзя будет прощать… Или ты не веришь слову царскому, Семен?..
– Верю, царь…
– Так в чем же дело?.. Или изменникам сочувствуешь больше, чем своему царю милосердному?.. Собачьего нрава не изменишь, впрочем настоящие верные псы своего хозяина не кусают… А предатели, словно ждали удобного случая, чтобы укусить… Вот и ты, Семен, укусил своего царя, как бешенная собака… А царь даже к бешенной собаке милостив оказался – казнить не желает… Только требует от тебя… Нет, просит тебя, боярин, быть правдивым перед твоим законным природным царем русским… Ведь ты же русский православный князь… Так оставайся же князем, а не…
Боярин заплакал, плечи его затряслись… Размазывая слезы по щекам, Ростовский жалостно пискнул:
– Не хочу грех на душу брать даже перед казнью… Уверен точно, наверняка, что еще двое принимали участие в заговоре… Насчет третьего до конца не уверен… Только тем двум я слово дал, что никогда никому не выдам…
– Поплачь, Семен, поплачь… Ты не предатель, если царя известишь об измене, о которой он сам не догадывался… Утаишь – стыдно и совестно будет, что царя своего не предупредил, новые измены и преступления измены множа… Сам знаешь, раз русским уродился, что стыд-то на Руси Святой гораздо сильнее страха смерти… А совесть – вещь такая, что душу оскверненную изменой изъесть может… Совесть на Руси Святой больше жизни иногда, нет… Всегда, брат, всегда, стоит больше жизни совесть, пока душа в телесной оболочке теплится…
– Знаю, царь… Знаю… Вот и боюсь назвать имена близких тебе людей, ибо также уверен, что твое знание великой скорбью обернется… Ефросинья Старицкая могла бы подтвердить об их участии в заговоре – только не скажет, хоть на огне ее пытай… А скорбью великой сердце ты опалишь себе – жить не захочется, когда самые близкие друзья и соратники предают.
– Не причитай, князь…
– Сейчас, сейчас… Только с мыслями соберусь…
– Собирайся…
– Сейчас, царь, сейчас…
– Ну…
– Ты им веришь, как себе, а они…
– Говори мне на ухо – кто они?..
Ростовский наклонился к царю и прошелестел еле слышно одними губами:
– Иерей Сильвестр и Алексей Адашев – твои ближайшие советники… Которым ты доверяешь, как самому себе.
– Врешь, собака… Ой, ведь врешь… Они самыми первыми присягу царевичу Дмитрию принесли… На моих глазах…
– …Они же первыми из твоей «тайной» Думы – даже быстрей свояка твоего, князя Палецкого связались с Ефросиньей Старицкой… – Ростовский горько усмехнулся, видя опрокинутое лицо царя. – …Я же говорил тебе, Иван Васильевич, что преумножив знания тайные, ты только скорбь преумножил… Меру скорби душевной превзошел, и потому твое горе от потери друзей и соратников безмерно… Ну, как теперь, после моего признания простишь своих друзей, точнее, простишь своих тайных врагов-изменников – или не простишь?..
– А вот это уже не твоего ума дело, Семен… – Спокойно с непроницаемым лицом ответил Иван. – …Иногда не надо спешить не только с наказанием, но и милостью… Уж в чем-чем, а ты своего царя в скудоумии не обвинишь…
– Не думаю, чтобы Сильвестр и Адашев твоей погибели жаждали… – Ростовский зябко повел плечами. – Только уж в случае твоей смерти – это уж точно – переметнулись бы на сторону Старицких… У них какие-то давние связи со Старицкими князьями… Какие-то тайные новгородские нити у Сильвестра… А насчет Алексей Адашева – не знаю толком, почему он к Старицким переметнулся… Может, Сильвестр его склонил?.. Врать не буду… Не моего ума это дело… Только вот такие вот пироги испеклись на кухне Старицких – несъедобные, ядовитые пирожки для царского семейства… Грешным делом, когда с царевичем Дмитрием беда на богомолье приключилась, я на них подумал, на Сильвестра и Адашева… Им ничего не стоило убедить Максима Грека сделать свое зловещее пророчество насчет гибели царевича, если…
Иван сделал недовольный решительный жест рукой, обрывая речи боярина, и жестко приказал:
– …Хватит… Остановись… Я о том тебя не расспрашивал…
– Понял, царь… Хочешь узнать третье имя главного заговорщика?.. – Ростовский ухмыльнулся. – Только напраслину возводить на этого князя не буду… Сам своими глазами у Старицких не видел… Слышал от самого князя Владимира речи, сказанные при Ефросинье, что к ним примкнул и твой сердечный друг юности Андрей Курбский… Как ему не примкнуть, если у того большие претензии есть к царю за ущемление удельных князей ярославских?.. Правда, князь Андрей, судя по речам Владимира Старицкого, больше всего переживал что крест целовал царевичу и мучился, как разрушить бы крестоцелование, которое, как тяжелый жернов на шее… Это я к тому, что в отличие от Сильвестра и Адашева Алексея, Курбский все же совестливый человек… Тех двоих, судя по всему, совесть не мучила… Поцеловали крест царевичу, готовы были также легко целовать крест Владимиру Старицкому…
– Не врешь про Курбского? – Иван напряженно примерил суровый взгляд в переносицу вспотевшего боярина. – Смотри в глаза…
– Дай, царь, крест, поцелую… – Ростовский умоляюще смотрел на царя, показывая всем видом, что готов хоть сейчас, в сию минуту крест целовать. – …Истинная правда, нет нужды врать и наговаривать… Но и покрывать не имею права перед царем всемогущим и милостивым…
– Вот что, я тебя попрошу… – Иван тяжко вздохнул и негромко, но твердо произнес. – …Как я обещал, завтра тебя помилуют, казнь заменят ссылкой на Белоозеро… Но ты никому не должен говорить то, что мне сказал… Это в твоих же интересах, Семен… Молчи, как рыба в воде… Будешь молчать, не будет тебе худа в ссылке, а то и вовсе прощу тебя, если в том необходимость увижу… Молчок – понял?..
– М-м-м… – промычал Ростовский и удовлетворенно кивнул головой, показывая, очевидно, что отныне он нем, как рыба в воде – и это его последнее нечленораздельное мычание тому подтверждение.
Действительно, осужденный на смерть боярин Семен Ростовский был выведен палачами для публичной казни – «на позор и ради пресечения новых измен» – только приговор суда не был приведен в исполнение. Народу на Красной площади было объявлено, что по ходатайству митрополита Макария милосердный царь Иван Васильевич позорную казнь заменил изменнику бессрочным заточением в тюрьме на Белоозеро…
После того, как воспользовавшись подстроенной «трагической промашкой» на Белозерском богомолье братьев царицы, Данилы и Никиты Романовичей, мудрые советники «ближней» думы отогнали этих недостойных «ласкателей» прочь от государя, партия Захарьиных на долгое время утратила свое влияние в государстве после острейшего династического кризиса. Царь нарочито равнодушно отнесся к удалению из власти неудачников-шуринов Захарьиных, да и к тому, что в соперничестве за влияние на царские властные решения верх взяли придворный «советчик» Сильвестр и инициатор главных государственных реформ Алексей Адашев.
Иван с внутренним наслаждением видел страх и подобострастие «советчика» и реформатора, с которыми те внушали царю необходимость полной реабилитации Владимира Старицкого и его матери Ефросиньи, замешанных в «боярском мятеже у постели государя». Благодаря стараниям Сильвестра и Адашева, царь милостиво допускает до себя двоюродного брата… Все вокруг рады и счастливы, видя, как недавний главный претендент на престол, князь Владимир Старицкий, покорно склоняется пред царем-братом, смиренно и раболепно просит прощения за непокой и хлопоты во время болезни царя, выражает искреннюю радость в связи с появлением законного престолонаследника, царевича Ивана Ивановича…
«Советчик» Сильвестр и реформатор Алексей Адашев пошли еще дальше: внушили царю мысль о необходимости написания нового завещания. И снисходительный царь, утешенный рождением сына-царевича Ивана – по настойчивой подсказке советников «ближней» Думы – в написанном новом завещании высказал абсолютную доверенность к двоюродному брату Владимиру. Объявил его – в случае своей скоропостижной смерти – не только главным опекуном малолетнего царевича Ивана и своей правой рукой, государственным правителем, но и законным правопреемником престола в случае, если Боже упаси, царевич Иван скончается в малолетстве.
Не было никаких оснований царю видеть в действиях Сильвестра и Адашева некие тайные, преступные намерения, ибо по подсказке своих советников из «ближней» Думы Владимир Старицкий дал царю клятву быть верным своей совести и долгу… Даже странное приложение к клятве князя Старицкого выбили у него – якобы на радость царю и всему царскому семейству – его ушлые и проницательные советники… Поклялся Владимир Старицкий даже в том, что готов не пощадить он даже своей матери Ефросиньи, если та замыслила бы какое зло против царевича Ивана и царицы Анастасии… И еще поклялся на Животворящем Кресте князь Андрей Старицкий – «не знать ни мести, ни пристрастия в делах государственных, не вершить оных дел без ведома царицы Анастасии, митрополита Макария, думных советников и не держать у себя в московском доме больше ста воинов».
Обратил внимание царь, что священной клятвой, крестоцелованием князь Старицкий оказался повязан не только по отношению к царю, царице, митрополиту, но и к думным советникам… А это означало, что теперь «законный наследник трона» со своей третьей позиции чем-то был обязан и Сильвестру, Адашеву, Курбскому, ибо многих дел – хороших или дурных, это уже другой вопрос – не должен делать без их ведома…
Закрыл Иван глаза на эту странную обмолвку клятвенную двоюродного братца, который ободренный проявлением неслыханной милости, спешил уверить своего государя, что теперь он верен ему до гроба и счастлив видеть в вечном добром здравии все его царское семейство. Царь равнодушно выслушивал и даже благодарил коварного брата Старицкого, доброхотов-советников, сделавших все возможное и невозможное для сближения династических соперников… Только в каждом взгляде и легком движении губ своих главных «советчиков» Сильвестра и Адашева спокойно, без излишнего содрогания сердца видел неискренность и фальшь…
Даже честный и преданный друг детства и юности Андрей Курбский, только что удостоенный боярского звания, уже не кажется Ивану искренним в своей радости служить царю, готовности сложить голову за царя и Отечество. Чувство испытанной измены друзей и соратников не остро и мучительно – просто он им не доверяет полностью и безоглядно, как ранее… Хотя дела есть дела – и в выполнении неотложных дел государственных Иван вынужден по-прежнему полагаться на своих соратников, только уже не безоглядно, не до конца, до самого последнего края… Простил ли царь друзьям и соратникам первую измену?.. Вторая измена все скажет-покажет – или все же Бог на Руси любит Троицу?..
Треснула царева душа великими сомнениями, изнемог в поисках врагов и недругов, когда и опереться-то не на кого… Даже в «ближней» Думе после изгнания оттуда Захарьиных не было прежнего единодушия и единомыслия… «Так ведь, может, это к лучшему?.. – С тревогой на сердце спрашивал себя царь. – Зачем мне дутые вожди-шурины, которые, формально руководя ближней Думой, как братья царицы, на самом деле были беспомощны в проведении реформ, ни шагу не могли ступить без подсказок Адашева, Сильвестра… Если бы Захарьиным удалось, как им мечталось, добиться суда над Владимиром и Ефросиньей Старицкими вместе с их сообщниками, они могли бы запросто изгнать из боярской Думы всех своих политических противников и безоговорочно утвердить свои первые позиции при дворе…»
Иван догадывался, что Анастасии будет тяжело услышать об отставке ее братьев, когда их почетное место в ближней Думе займут новые люди во главе с Дмитрием Курлятевым-Оболенским. «А этих новых людишек активно продвигают и поддерживают Адашев, Сильвестр, Курбский, скрытые изменники, не догадывающиеся, что царь знает об их тайных связях со Старицкими во время его болезни и династического кризиса, об их зловещем вкладе в страшное пророчество Максима Грека и трагедию на Богомолье… – думал Иван с внутренней ухмылкой. – Ведь, по сути, ни к чему не придерешься – успешно продвигаются реформы… И в новых проектах реформ больше всего импонирует мне, что есть твердые намерения искоренить боярские злоупотребления, беззакония и самовольства… Только стесняют меня их советы, давят… Царская власть из-за ограничений со стороны даже самых ближних советников ближней Думы утрачивает блеск, особенно, если вспомнить, что благостные и полезные советы дают бывшие изменники…».
Иван давно хотел поговорить с Анастасией после отставки ее братьев, памятуя ее слова: что бы ни случилось, в личной преданности царю братьев Данилу и Никиту Романовичей упрекнуть не удастся… Не то что новых членов ближней Думы, с явным преобладанием представителей княжеского дома Оболенских, которые привел с собой заступивший на место Захарьиных новый глава Думы Дмитрий Курлятев-Оболенский – креатура Сильвестра, Адашева, Курбского… Наконец, в опочивальне царицы Иван решился на давно откладываемый откровенный разговор с супругой.
– Хочу, чтобы все тебе было ясно в удалении из ближней Думы твоих братьев… Были большие надежды, что новые люди в ней дела большие государственные помогут устроить… Вроде и устраиваются… Только смущает меня, уж больно ловко одна рука другую руку моет… – с глубоко скрытой горечью в голосе пожаловался Иван Анастасии. – Сначала Сильвестр с Адашевым на место твоих удаленных братьев ввели в ближнюю Думу князя Дмитрия Курлятева…. А потом уже Сильвестр с Адашевым и Курбским, пользуясь покровительством Курлятева, начали все под себя подминать, царскую власть веригами своих ограничений отягощать… На словах все гладко, а на деле – ой, как не сладко… Рисуют реформаторы благостную перспективу укрепления единодержавия и могущества царской власти… Токмо вериги тяжкие ограничений так грудь царскую сдавливают, что царю уже и не дыхнуть и не развернуться, ни волю не изъявить, ни приказом на нерадивых и корыстных обрушиться… Все в их системе управления страшными ограничениями опутано… Понимаешь о чем я говорю?.. Всех моих советчиков объединяла ранее решимость не допустить прихода к власти Захарьиных… А теперь, когда твои братья задвинуты, советчиками движет новая идея фикс – ограничить царскую власть… И все это под сладким соусом резкой критики боярских злоупотреблений – от Глинских, до Захарьиных…
– Осунулся ты, милый, помрачнел… Морщины резче выступают от дум твоих тяжких… Неужто думаешь, что за братьев буду заступаться?.. Твоей воли перечить не смею – если на твоя воля царская… Токмо если ты с чужого голоса и по чужой воле братьев удалил от себя, со двора прогнал – тогда Господь тебе судья… Думай и действуй твёрдо и решительно, без оглядки на советчиков своих… Я ведь раньше от всей души одобряла твою дружбу и с Алексеем Адашевым, и с Андреем Курбским, даже с Сильвестром…
– …Почему даже с Сильвестром?
– А потому что ты больше всего прислушивался к наставлениям и советам Сильвестра… А потом уже Алексея, Андрея… Иногда мне казалось, что, если Сильвестр сказал бы тебе, откажись от своей супруги Анастасии – так надо Господу, не гневи Бога! – ты бы отказался от меня… А что говорить о моих братьях Даниле и Никите?.. Наверняка, сказал тебе Сильвестр – откажись от Захарьиных, не гневи Бога… Вот ты и отказался от помощи самых преданных нам людей…
– Остановись, Анастасия… Сколько слез мы выплакали с тобой тогда на богомолье над гробиком несчастного Дмитрия…
– Но нельзя же его гибель приписывать только нерадивости моих братьев… Иван, милый, неужели ты по-прежнему считаешь, что в том несчастье виноваты только одни мои братья безвинные…
Иван попытался погладить Анастасию по голове, но царица спокойно и твердо отстранила его руку. Иван, немного задумавшись, произнес глухим не своим голосом, в котором было замешано столько тоски и печали:
– …Когда-то ты думала не так… – Иван поежился от пробежавших по спине мурашек. – …Это сейчас, когда у нас с тобой есть сын-царевич Иван, когда ты снова брюхата, можно вести такие речи… А вспомни, что было с нами тогда на Белоозеро?.. На тебя страшно было смотреть… Да и братья тогда у тебя и у меня в ногах валялись – о своей вине перед Господом голосили, что сгубили младенческую душу Дмитрия… Али позабыла, Анастасия?..
– Ничего не позабыла… – Анастасия тяжело вздохнула. – …Время раны душевные лечит… Наверное, ты прав, что, не будь сына, и не жди я снова ребенка, по другому бы на мир глядела… Черным мне бы этот мир без маленького Дмитрия казался – это точно… А сейчас… Не знаю, что сейчас… Ведь мне передается твое отношение с друзьями-советниками… Женское сердце – вещун великий… Разве я не ощущаю, что тон твоих речей с советниками старыми после изгнания из ближней Думы изменился?.. Разве я не вижу, что, несмотря на их радость при удалении от тебя Данилы и Романа – их трудами и помыслами – появилась натянутость в ваших взаимоотношениях… Разве я не замечаю жестокий блеск в твоих глазах, когда ты говоришь о Сильвестре, Адашеве, Курбском… Скажи, Иван, ведь они, а не мои братья виновны в гибели маленького Дмитрия – не так ли?.. Ведь они все так устроили и подговорили старца Максима Святогорца, чтобы он напугал тебя зачем-то зловещим пророчеством… Зачем им нужны были твои и мои страдания, муки не выносимые – словно они смерти нашей желали… Разъединить нас с тобой задумали… Словно знают, что мне без тебя не жить, а тебе без меня… Ты что-то не договариваешь… Не мучай меня, откройся мне, ладо мое…
«Может, сказать ей о том, что мне поведал с глазу на глаз перед ссылкой боярин Семен Ростовский?.. Об измене Сильвестра, Адашева, Курбского, их тайной связи с Владимиром и Ефросиньей Старицкой… – размышлял Иван, гладя нежно голову Анастасии. – Только зачем ее тревожить? Скоро ей снова рожать – ни к чему ей новые волнения и сомнения… То дела и тайны государственные – мужские… Незачем нежных жен вмешивать в государевы дела… В конце концов, удалось успокоить смуту в государстве, престол зашатавшийся укрепить… Совсем ни к чему вносит раздор в отношения ближних советников с царицей… Это только во вред делам и реформам продолжающимся… Ведь все же реформы заработали – что я, царь, без помощи своих ближайших советников… Нечего распаляться и царицу распалять ненужными подозрениями… Дмитрия-царевича не воротишь – царствие ему небесное… Может, то что я простил его возможных погубителей, я его в рай Небесный определил – малютку безвинного… Через него зло новое на Руси святой не будет уже столь страшным и безнаказанным… Потому и прощаю… Все простил изменникам, возможным его убийцам, что Господь меня утешил снова сыном-наследником, утешит и новыми сыновьями и дочками…».
Иван тяжело вздохнул, удрученно покачал головой и сказал: