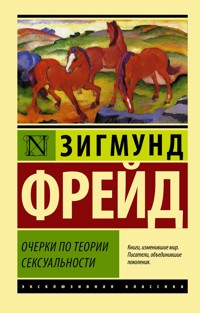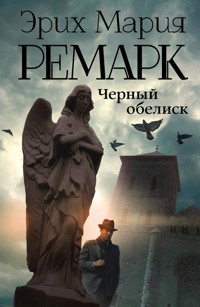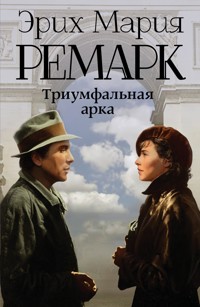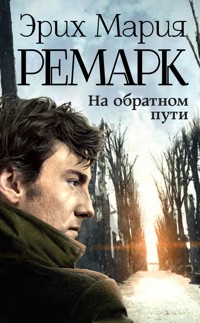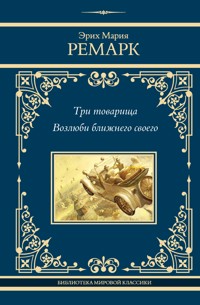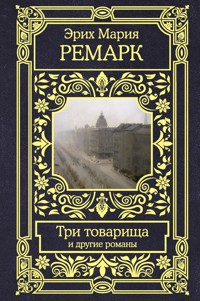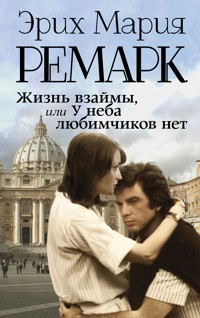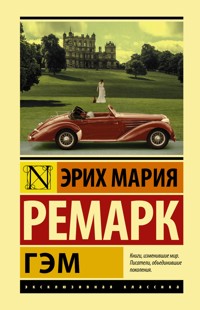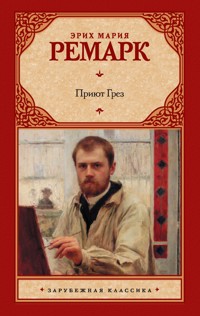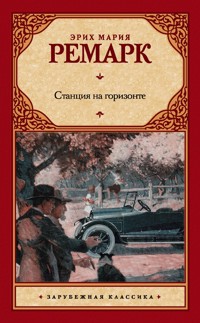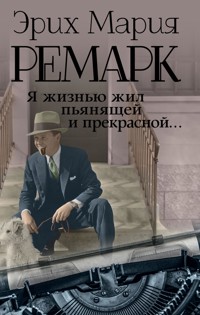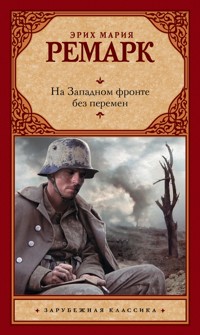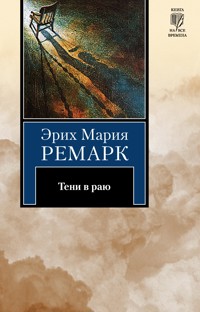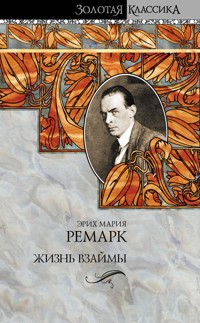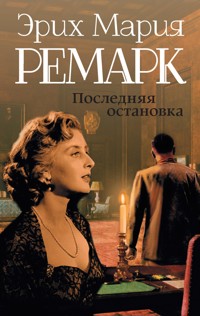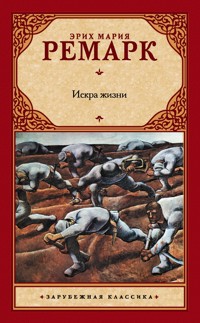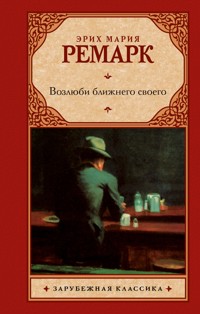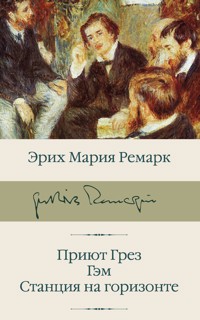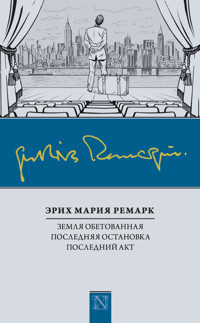
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: АСТ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: NEO-Классика
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Земля обетованная" — роман, опубликованный уже после смерти автора. Судьба немецких эмигрантов в Америке. Они бежали от фашизма, используя все возможные и невозможные способы и средства. Бежали к последнему бастиону свободы и независимости. Однако Америка почему-то не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет… благопристойное и дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно забывшей, что такое война и тоталитарный режим. И каждому из эмигрантов предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно — самим о себе позаботиться. В издание также включены единственная пьеса Ремарка "Последняя остановка", положенная в основу нескольких телепостановок, и киносценарий "Последний акт".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 875
Ähnliche
Эрих Ремарк Земля обетованная. Последняя остановка. Последний акт
Erich Maria Remarque
Das Gelobte Land
Die Letzte Station
Der Letzte Akt
© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956, 1998
© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Cologne/ Germany, 1998, 2010
© Перевод. М. Рудницкий, 2018
© Перевод. Е. Зись, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Земля обетованная
I
Третью неделю я смотрел на этот город: он лежал передо мной как на ладони – и словно на другой планете. Всего лишь в нескольких километрах от меня, отделенный узким рукавом морского залива, который я, пожалуй, мог бы и переплыть, – и все же недосягаемый и недоступный, будто окруженный армадой танков. Он был защищен самыми надежными бастионами, какие изобрело двадцатое столетие, – крепостными стенами бумаг, паспортных предписаний и бесчеловечных законов непрошибаемо бездушной бюрократии. Я был на острове Эллис[1], было лето 1944 года, и передо мной лежал город Нью-Йорк.
Из всех лагерей для интернированных лиц, какие мне доводилось видеть, остров Эллис был самым гуманным. Тут никого не били, не пытали, не истязали до смерти непосильной работой и не травили в газовых камерах. Здешним обитателям даже предоставлялось хорошее питание, причем бесплатно, и постели, в которых разрешалось спать. Повсюду, правда, торчали часовые, но они были почти любезны. На острове Эллис содержались прибывшие в Америку иностранцы, чьи бумаги либо внушали подозрение, либо просто были не в порядке. Дело в том, что одной только въездной визы, выданной американским консульством в европейской стране, для Америки было недостаточно, – при въезде в страну следовало еще раз пройти проверку Нью-Йоркского иммиграционного бюро и получить разрешение. Только тогда тебя впускали – либо, наоборот, объявляли нежелательным лицом и с первым же кораблем высылали обратно. Впрочем, с отправкой обратно все давно уже обстояло совсем не так просто, как раньше. В Европе шла война, Америка тоже увязла в этой войне по уши, немецкие подлодки рыскали по всей Атлантике, так что пассажирские суда к европейским портам назначения отплывали отсюда крайне редко. Для иных бедолаг, которым было отказано во въезде, это означало пусть крохотное, но счастье: они, давно уже привыкшие исчислять свою жизнь только днями и неделями, обретали надежду еще хоть какое-то время побыть на острове Эллис. Впрочем, вокруг ходило слишком много всяких прочих слухов, чтобы тешить себя такой надеждой, – слухов о битком набитых евреями кораблях-призраках, которые месяцами бороздят океан и которым, куда бы они ни приплыли, нигде не дают причалить. Некоторые из эмигрантов уверяли, будто своими глазами видели – кто на подходе к Кубе, кто возле портов Южной Америки – эти толпы отчаявшихся, молящих о спасении, теснящихся к поручням людей на заброшенных кораблях перед входом в закрытые для них гавани, – этих горестных «летучих голландцев» наших дней, уставших удирать от вражеских подлодок и людского жестокосердия, перевозчиков живых мертвецов и проклятых душ, чья единственная вина заключалась лишь в том, что они люди и жаждут жизни.
Разумеется, не обходилось и без нервных срывов. Странным образом здесь, на острове Эллис, они случались даже чаще, чем во французских лагерях, когда немецкие войска и гестапо стояли совсем рядом, в нескольких километрах. Вероятно, во Франции эта сопротивляемость собственным нервам была как-то связана с умением человека приспосабливаться к смертельной опасности. Там дыхание смерти ощущалось столь явно, что, должно быть, заставляло человека держать себя в руках, зато здесь люди, только-только расслабившиеся при виде столь близкого спасения, спустя короткое время, когда спасение вдруг начинало снова от них ускользать, теряли самообладание начисто. Впрочем, в отличие от Франции, на острове Эллис не случалось самоубийств – наверное, все-таки еще слишком сильна была в людях надежда, пусть и пронизанная отчаянием. Зато первый же невинный допрос у самого безобидного инспектора мог повлечь за собой истерику: недоверчивость и бдительность, накопленные за годы изгнания, на мгновение давали трещину, и после этого вспышка нового недоверия, мысль, что ты совершил непоправимую ошибку, повергала человека в панику. Обычно у мужчин нервные срывы случались чаще, чем у женщин.
Город, лежавший столь близко и при этом столь недоступный, становился чем-то вроде морока – он мучил, манил, издевался, все суля и ничего не исполняя. То, окруженный стайками клочковатых облаков и сиплыми, будто рев стальных ихтиозавров, гудками кораблей, он представал громадным расплывчатым чудищем, то, глубокой ночью, ощетиниваясь сотней башен бесшумного и призрачного Вавилона, превращался в белый и неприступный лунный ландшафт, а то, поздним вечером, утопая в буране искусственных огней, становился искрометным ковром, распростертым от горизонта до горизонта, чуждым и ошеломляющим после непроглядных военных ночей Европы, – об эту пору многие беженцы в спальном зале вставали, разбуженные всхлипами и вскриками, стонами и хрипом своих беспокойных соседей, тех, кого все еще преследовали во сне гестаповцы, жандармы и головорезы-эсэсовцы, и, сбиваясь в темные людские горстки, тихо переговариваясь или молча, вперив горящий взгляд в зыбкое марево на том берегу, в ослепительную световую панораму земли обетованной – Америки, застывали возле окон, объединенные немым братством чувств, в которое сводит людей только горе, счастье же – никогда.
У меня был немецкий паспорт, годный еще на целых четыре месяца. Этот почти подлинный документ был выдан на имя Людвига Зоммера. Я унаследовал его от друга, умершего два года назад в Бордо; поскольку указанные в паспорте внешние приметы – рост, цвет волос и глаз – совпадали, некто Бауэр, лучший в Марселе специалист по подделке документов, а в прошлом профессор математики, посоветовал мне фамилию и имя в паспорте не менять; и хотя среди тамошних эмигрантов было несколько отличных литографов, сумевших уже не одному беспаспортному беженцу выправить вполне сносные бумаги, я все-таки предпочел последовать совету Бауэра и отказаться от собственного имени, тем более что от него все равно уже не было почти никакого толку. Наоборот, это имя значилось в списках гестапо, посему испариться ему было самое время. Так что паспорт у меня имелся почти подлинный, зато фото и я сам малость фальшивили. Умелец Бауэр растолковал мне выгоды моего положения: сильно подделанный паспорт, как бы замечательно он ни был сработан, годен только на случай беглой и небрежной проверки – всякой сколько-нибудь дельной криминалистической экспертизе он противостоять не в силах и неминуемо выдаст все свои тайны; тюрьма, депортация, если не что похуже, мне в этом случае обеспечены. А вот проверка подлинного паспорта при фальшивом обладателе – история куда более длинная и хлопотная: по идее, следует направить запрос по месту выдачи, но сейчас, когда идет война, об этом и речи быть не может. С Германией нет никаких связей. Все знатоки решительно советуют менять не паспорта, а личность; подлинность штемпелей стало проверять легче, чем подлинность имен. Единственное, что в моем паспорте не сходилось, так это вероисповедание. У Зоммера оно было иудейское, у меня – нет. Но Бауэр посчитал, что сие несущественно.
– Если немцы вас схватят, вы просто выбросите паспорт, – учил он меня. – Поскольку вы не обрезаны, то, глядишь, как-нибудь вывернетесь и не сразу угодите в газовую камеру. Зато пока вы от немцев убегаете, то, что вы еврей, вам даже на пользу. А невежество по части обычаев объясняйте тем, что ваш отец и сам был вольнодумцем, и вас так воспитал.
Бауэра через три месяца схватили. Роберт Хирш, вооружившись бумагами испанского консула, попытался вызволить его из тюрьмы, но опоздал. Накануне вечером Бауэра с эшелоном отправили в Германию.
На острове Эллис я повстречал двух эмигрантов, которых мельком знал и прежде. Случалось нам несколько раз повидаться на «страстном пути». Так назывался один из этапов маршрута, по которому беженцы спасались от гитлеровского режима. Через Голландию, Бельгию и Северную Францию маршрут вел в Париж и там разделялся. Из Парижа одна линия вела через Лион к побережью Средиземного моря; вторая, проскочив Бордо, Марсель и перевалив Пиренеи, убегала в Испанию, Португалию и утыкалась в лиссабонский порт. Вот этот-то маршрут и окрестили «страстным путем». Тем, кто им следовал, приходилось спасаться не только от гестапо – надо было еще не угодить в лапы местным жандармам. У большинства ведь не было ни паспортов, ни тем более виз. Если такие попадались жандармам, их арестовывали, приговаривали к тюремному заключению и выдворяли из страны. Впрочем, во многих странах у властей хватало гуманности доставлять их по крайней мере не к немецкой границе – иначе они неминуемо погибли бы в концлагерях. Поскольку очень немногие из беженцев имели возможность взять с собой в дорогу пригодный паспорт, едва ли не все были обречены почти беспрерывно скитаться и прятаться от властей. Ведь без документов они не могли получить никакой легальной работы. Большинство страдали от голода, нищеты и одиночества, вот они и назвали дорогу своих скитаний «страстным путем». Их остановками на этом пути были главпочтамты в городах и стены вдоль дорог. На главпочтамтах они надеялись получить корреспонденцию от родных и друзей; стены домов и оград вдоль шоссе служили им газетами. Мелом и углем запечатлевались на них имена потерявшихся и искавших друг друга, предостережения, наставления, вопли в пустоту – все эти горькие приметы эпохи людского равнодушия, за которой вскоре последовала эпоха бесчеловечности, то бишь война, когда по обе стороны фронта гестаповцы и жандармы нередко делали одно общее дело.
Одного из этих эмигрантов, увиденных на острове Эллис, я, помнится, встретил на швейцарской границе, когда в течение одной ночи таможенники четыре раза отправляли нас во Францию. А там французские пограничники ловили нас и гнали обратно. Холод был жуткий, и в конце концов мы с Рабиновичем кое-как уговорили швейцарцев посадить нас в тюрьму. В швейцарских тюрьмах топили, для беженцев это был просто рай, мы с превеликой радостью провели бы там всю зиму, но швейцарцы, к сожалению, очень практичны. Они быстренько сбагрили нас через Тессин[2] в Италию, где мы и расстались. У обоих этих эмигрантов были в Америке родственники, которые дали за них финансовые ручательства. Поэтому уже через несколько дней их выпустили с острова Эллис. На прощанье Рабинович пообещал мне поискать в Нью-Йорке общих знакомых, товарищей по эмигрантскому несчастью. Я не придал его словам никакого значения. Обычное обещание, о котором забываешь при первых же шагах на свободе.
Несчастным, однако, я себя здесь не чувствовал. За несколько лет до того, в брюссельском музее, я научился часами сидеть в неподвижности, сохраняя каменную невозмутимость. Я погружался в абсолютно бездумное состояние, граничившее с полной отрешенностью. Глядя на себя как бы со стороны, я впадал в тихий транс, который смягчал неослабную судорогу долгого ожидания: в этой странной шизофренической иллюзии мне под конец даже начинало чудиться, что это жду вовсе не я, а кто-то другой. И тогда одиночество и теснота крошечной кладовки без света уже не казались непереносимыми. В эту кладовку меня спрятал директор музея, когда гестаповцы в ходе очередной облавы на эмигрантов прочесывали весь Брюссель квартал за кварталом. Мы с директором виделись считаные секунды, только утром и вечером: утром он приносил мне что-нибудь поесть, а вечером, когда музей закрывался, он меня выпускал. В течение дня кладовка была заперта; ключ был только у директора. Конечно, когда кто-то шел по коридору, мне нельзя было кашлять, чихать и громко шевелиться. Это было нетрудно, но щекотка страха, донимавшая меня поначалу, легко могла перейти в панический ужас при приближении действительно серьезной опасности. Вот почему в деле накопления психической устойчивости я на первых порах зашел, пожалуй, даже дальше, чем нужно, строго-настрого запретив себе смотреть на часы, так что иной раз, особенно по воскресеньям, когда директор ко мне не приходил, вообще не знал, день сейчас или ночь, – к счастью, у меня хватило ума вовремя отказаться от этой затеи. В противном случае я неминуемо утратил бы последние остатки душевного равновесия и вплотную приблизился бы к той трясине, за которой начинается полная утрата собственной личности. А я и так от нее никогда особо не удалялся. И удерживала меня вовсе не вера в жизнь; надежда на отмщение – вот что меня спасало.
Неделю спустя со мной вдруг заговорил тощий, покойницкого вида господин, смахивавший на одного из тех адвокатов, что стаями ненасытного воронья кружили по нашему просторному дневному залу. При себе он имел плоский чемоданчик-дипломат зеленой крокодиловой кожи.
– Вы, случайно, не Людвиг Зоммер?
Я недоверчиво оглядел незнакомца. Говорил он по-немецки.
– А вам-то что?
– Вы не знаете, Людвиг Зоммер вы или кто-то еще? – переспросил он и хохотнул своим коротким, каркающим смехом. Поразительно белые, крупные зубы плохо вязались с его серым, помятым лицом.
Я тем временем успел прикинуть, что особых причин утаивать свое имя у меня вроде бы нет.
– Это-то я знаю, – отозвался я. – Только вам зачем это знать?
Незнакомец несколько раз сморгнул, как сова.
– Я по поручению Роберта Хирша, – объявил он наконец.
Я изумленно вскинул глаза.
– От Хирша? Роберта Хирша?
Незнакомец кивнул.
– От кого же еще?
– Роберт Хирш умер, – сказал я.
Теперь уже незнакомец глянул на меня озадаченно.
– Роберт Хирш в Нью-Йорке, – заявил он. – Не далее как два часа назад я с ним беседовал.
Я тряхнул головой.
– Исключено. Тут какая-то ошибка. Роберта Хирша расстреляли в Марселе.
– Глупости. Это Хирш послал меня сюда помочь вам выбраться с острова.
Я ему не верил. Я чуял, что тут какая-то ловушка, подстроенная инспекторами.
– Откуда бы ему знать, что я вообще здесь? – спросил я.
– Человек, представившийся Рабиновичем, позвонил ему и сказал, что вы здесь. – Незнакомец достал из кармана визитную карточку. – Я Левин из «Левина и Уотсона». Адвокатская контора. Мы оба адвокаты. Надеюсь, этого вам достаточно? Вы чертовски недоверчивы. С чего бы вдруг? Неужто столько всего скрываете?
Я перевел дух. Теперь я ему поверил.
– Всему Марселю было известно, что Роберта Хирша расстреляли в гестапо, – повторил я.
– Подумаешь, Марсель! – презрительно хмыкнул Левин. – Мы тут в Америке!
– В самом деле? – Я выразительно оглядел наш огромный дневной зал с его решетками на окнах и эмигрантами вдоль стен.
Левин снова издал свой каркающий смешок.
– Ну, пока еще не совсем. Как вижу, чувство юмора вы еще не утратили. Господин Хирш успел кое-что о вас порассказать. Вы ведь были вместе с ним в лагере для интернированных во Франции. Это так?
Я кивнул. Я все еще не мог толком прийти в себя. «Роберт Хирш жив! – вертелось у меня в голове. – И он в Нью-Йорке!»
– Так? – нетерпеливо переспросил Левин.
Я снова кивнул. Вообще-то это было так только наполовину: Хирш пробыл в том лагере не больше часа. Он приехал туда, переодевшись в форму офицера СС, чтобы потребовать от французского коменданта выдать ему двух немецких политэмигрантов, которых разыскивало гестапо. И вдруг увидел меня – он не знал, что я в лагере. Глазом не моргнув Хирш тут же потребовал и моей выдачи. Комендант, пугливый майор-резервист, давно уже сытый всем по горло, перечить не стал, но настоял на том, чтобы ему оставили официальный акт передачи. Хирш ему такой акт дал – он всегда имел при себе уйму самых разных бланков, подлинных и фальшивых. Потом отсалютовал гитлеровским «хайль!», затолкал нас в машину и был таков. Обоих политиков год спустя взяли снова: они в Бордо угодили в гестаповскую западню.
– Да, это так, – сказал я. – Могу я взглянуть на бумаги, которые вам дал Хирш?
Левин секунду поколебался.
– Да, конечно. Только зачем вам?
Я не ответил. Я хотел убедиться, совпадает ли то, что написал обо мне Роберт, с тем, что сообщил о себе инспекторам я. Я внимательно прочел листок и вернул его Левину.
– Все так? – спросил он снова.
– Так, – ответил я и огляделся. Как же мгновенно все вокруг изменилось! Я больше не один. Роберт Хирш жив. До меня вдруг долетел голос, который я считал умолкнувшим навсегда. Теперь все по-другому. И ничто еще не потеряно.
– Сколько у вас денег? – поинтересовался адвокат.
– Сто пятьдесят долларов, – осторожно ответил я.
Левин покачал своей лысиной.
– Маловато даже для самой краткосрочной транзитно-гостевой визы, чтобы проехать в Мексику или Канаду. Но ничего, это еще можно уладить. Вы чего-то не понимаете?
– Не понимаю. Зачем мне в Канаду или в Мексику?
Левин снова осклабил свои лошадиные зубы.
– Совершенно незачем, господин Зоммер. Главное – для начала переправить вас в Нью-Йорк. Краткосрочную транзитную визу запросить легче всего. А уж оказавшись в стране, вы ведь можете и заболеть. Да так, что не в силах будете продолжить путешествие. И придется подавать запрос на продление визы, а потом еще. Ситуация может измениться. Ногу в дверь просунуть – вот что покамест самое главное! Теперь понимаете?
– Да.
Мимо нас с громким плачем прошла женщина. Левин извлек из кармана очки в черной роговой оправе и посмотрел ей вслед.
– Не слишком-то весело тут торчать, верно?
Я передернул плечами.
– Могло быть хуже.
– Хуже? Это как же?
– Много хуже, – пояснил я. – Можно, живя здесь, умирать от рака желудка. Или, к примеру, остров Эллис мог бы оказаться в Германии, и тогда вашего отца у вас на глазах приколачивали бы к полу гвоздями, чтобы заставить вас признаться.
Левин посмотрел на меня в упор.
– Чертовски своеобразная у вас фантазия.
Я покачал головой, потом сказал:
– Нет, просто чертовски своеобразный опыт.
Адвокат достал огромный пестрый носовой платок и оглушительно высморкался. Потом аккуратно сложил платок и сунул обратно в карман.
– Сколько вам лет?
– Тридцать два.
– И сколько из них вы уже в бегах?
– Пять лет скоро.
Это было не так. Я-то скитался значительно дольше, но Людвиг Зоммер, по чьему паспорту я жил, – только с 1939 года.
– Еврей?
Я кивнул.
– А внешность не сказать чтобы особенно еврейская, – заметил Левин.
– Возможно. Но вам не кажется, что у Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Гесса тоже не особенно арийская внешность?
Левин опять издал свой короткий каркающий смешок.
– Чего нет, того нет! Да мне и безразлично. К тому же с какой стати человеку выдавать себя за еврея, раз он не еврей? Особенно в наше-то время? Верно?
– Может быть.
– В немецком концлагере были?
– Да, – неохотно вспомнил я. – Четыре месяца.
– Документы какие-нибудь есть оттуда? – спросил Левин, и в его голосе мне послышалось нечто вроде алчности.
– Не было никаких документов. Меня просто выпустили, а потом я сбежал.
– Жаль. Сейчас они бы нам очень пригодились.
Я глянул на Левина. Я понимал его, и все же что-то во мне противилось той гладкости, с которой он переводил все это в бизнес. Слишком мерзко и жутко это было. До того жутко и мерзко, что я сам с превеликим трудом сумел с этим совладать. Не забыть, нет, но именно совладать, переплавить и погрузить в себя, покуда оно без надобности. Без надобности здесь, на острове Эллис, – но не в Германии.
Левин открыл свой чемоданчик и достал оттуда несколько листков.
– Тут у меня еще кое-какие бумаги: господин Хирш дал мне с собой показания и заявления людей, которые вас знают. Все уже нотариально заверено. Моим партнером Уотсоном, удобства ради. Может, и на них хотите взглянуть?
Я покачал головой. Показания эти я знал еще с Парижа. Роберт Хирш в таких делах был дока. Не хотел я сейчас на них смотреть. Странным образом мне почему-то казалось, что при всех удачах сегодняшнего дня я должен кое-что предоставить самой судьбе. Любой эмигрант сразу понял бы меня. Тот, кто всегда вынужден ставить на один шанс из ста, как раз по этой причине никогда не станет преграждать дорогу обыкновенной удаче. Вряд ли имело смысл пытаться растолковать все это Левину.
Адвокат принялся удовлетворенно засовывать бумаги обратно.
– Теперь нам надо отыскать кого-нибудь, кто готов поручиться, что за время вашего пребывания в Америке вы не обремените государственную казну. У вас есть тут знакомые?
– Нет.
– Тогда, может, Роберт Хирш кого-нибудь знает?
– Понятия не имею.
– Уж кто-нибудь да найдется, – сказал Левин со странной уверенностью. – Роберт в этих делах очень надежен. Где вы собираетесь жить в Нью-Йорке? Господин Хирш предлагает вам гостиницу «Мираж». Он сам там жил раньше.
Несколько секунд я молчал, а затем вымолвил:
– Господин Левин, уж не хотите ли вы сказать, что я и вправду выберусь отсюда?
– А почему нет? Иначе зачем я здесь?
– Вы и правда в это верите?
– Конечно. А вы нет?
На мгновение я закрыл глаза.
– Верю, – сказал я. – Я тоже верю.
– Ну и прекрасно! Главное – не терять надежду! Или эмигранты думают иначе?
Я покачал головой.
– Вот видите. Не терять надежду – это старый, испытанный американский принцип! Вы меня поняли?
Я кивнул. У меня не было ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяти легитимного права, сколь губительна иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксера, который безнадежно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ежиком свернувшаяся душа все силы сосредоточивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остается места.
Левин закрыл и запер свой чемоданчик.
– Все эти вещи я сейчас вручу инспекторам для приобщения к делу. И через несколько дней приеду снова. Выше голову! Все у нас получится! – Он принюхался. – Как же здесь пахнет… Как в плохо продезинфицированной больнице.
– Пахнет бедностью, бюрократией и отчаянием, – сказал я.
Левин снял очки и потер усталые глаза.
– Отчаянием? – спросил он не без иронии. – У него тоже бывает запах?
– Счастливый вы человек, коли этого не знаете, – проронил я.
– Не больно-то возвышенные у вас представления о счастье, – хмыкнул он.
На это я ничего не стал отвечать; бесполезно было втолковывать Левину, что нет таких бездн, где не нашлось бы места счастью, и что в этом, наверное, и состоит вся тайна выживания рода человеческого. Левин протянул мне свою большую костлявую ладонь. Я хотел было спросить его, во что все это мне обойдется, но промолчал. Иной раз так легко одним лишним вопросом все разрушить. Левина прислал Хирш, и этого достаточно.
Я встал, провожая адвоката взглядом. Его уверения, что у нас все получится, не успели меня убедить. Слишком большой у меня опыт по этой части, слишком часто я обманывался. И все-таки я чувствовал, как в глубине души нарастает волнение, которое теперь уже не унять. Не только мысль, что Роберт Хирш в Нью-Йорке, что он вообще жив, не давала мне покоя, но и нечто большее, нечто, чему я еще несколько минут назад сопротивлялся изо всех сил, что гнал от себя со всею гордыней отчаяния, – это была надежда, надежда вопреки всему. Ловкая, бесшумная, она только что впрыгнула в мою жизнь и снова была здесь, вздорная, неоправданная, неистовая надежда – без имени, почти без цели, разве что с привкусом некой туманной свободы. Но свободы для чего? Куда? Зачем? Я не знал. Это была надежда без всякого содержания, и тем не менее все, что я про себя именовал своим «я», она без малейшего моего участия уже подняла ввысь в порыве столь примитивной жажды жизни, что мне казалось, порыв этот не имеет со мной почти ничего общего. Куда подевалось мое смирение? Моя недоверчивость? Мое напускное, натужное, с таким трудом удерживаемое на лице чувство собственного превосходства? Я понятия не имел, где это все теперь.
Я обернулся и увидел перед собой женщину, ту самую, что недавно плакала. Теперь она держала за руку рыжего сынишку, который уплетал банан.
– Кто вас обидел? – спросил я.
– Они не хотят впускать моего ребенка, – прошептала она.
– Почему?
– Они говорят, он… – Она замялась. – Он отстал. Но он поправится! – затараторила она с горячностью. – После всего, что он перенес. Он не идиот! Просто отстал в развитии! Он обязательно поправится! Просто надо подождать! Он не душевнобольной! Но они там мне не верят!
– Врач среди них есть?
– Не знаю.
– Потребуйте врача. Специалиста. Он поможет.
– Как я могу требовать врача, да еще специалиста, когда у меня нет денег? – пробормотала женщина.
– Просто подайте заявление. Здесь это можно.
Мальчуган тем временем деловито, лепестками внутрь, сложил кожуру от съеденного банана и сунул ее в карман.
– Он такой аккуратный! – прошептала мать. – Вы только посмотрите, какой он аккуратный. Разве он похож на сумасшедшего?
Я посмотрел на мальчика. Казалось, он не слышал слов матери. Отвесив нижнюю губу, он чесал макушку. Солнце тепло искрилось у него в волосах и отражалось от зрачков, словно от стекла.
– Почему они его не впускают? – бормотала мать. – Он и так несчастней других.
Что на это ответишь?
– Они многих впускают, – сказал я наконец. – Почти всех. Каждое утро кого-то отправляют на берег. Наберитесь терпения.
Я презирал себя за то, что это говорю. Я чувствовал, как меня подмывает спрятаться от этих глаз, которые смотрели из глубин своей беды в ожидании спасительного совета. Не было у меня такого совета. Я смущенно пошарил в кармане, достал немного мелочи и сунул безучастному ребенку прямо в ладошку.
– На вот, купи себе что-нибудь.
Это сработало старое эмигрантское суеверие – привычка подкупать судьбу такой вот наивной уловкой. Я тут же устыдился своего жеста. Грошовая человечность в уплату за свободу, подумал я. Что дальше? Может, вместе с надеждой уже заявился ее продажный брат-близнец – страх? И ее еще более паскудная дочка – трусость?
Мне плохо спалось этой ночью. Я подолгу слонялся возле окон, за которыми, подрагивая, полыхало северное сияние Нью-Йорка, и думал о своей порушенной жизни. Под утро с каким-то стариком случился приступ. Я видел тени, тревожно метавшиеся вокруг его постели. Кто-то шепотом спрашивал нитроглицерин. Видно, свои таблетки старик потерял.
– Ему нельзя заболевать! – шушукались родственники. – Иначе все пропало! К утру он должен быть на ногах!
Таблеток они так и не нашли, но меланхоличный турок с длинными усами одолжил им свои. Утром старик с грехом пополам поплелся в дневной зал.
II
Через три дня адвокат явился снова.
– У вас жуткий вид, – закаркал он. – Что с вами?
– Надежда, – с усмешкой ответил я. – Надежда доканывает человека вернее всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин.
– Опять эти ваши эмигрантские шуточки! У вас нет поводов скисать до такой степени. У меня для вас новости.
– И какие же? – спросил я осторожно. Я все еще боялся, как бы не выплыла история с моим паспортом.
Левин опять осклабил свои несусветные зубы. Часто же, однако, он смеется. Слишком часто для адвоката.
– Мы нашли для вас поручителя! – объявил он. – Человека, который даст гарантию, что государству не придется нести из-за вас расходы. Спонсора! Ну, что теперь скажете?
– Хирш, что ли? – спросил я, сам не веря своему вопросу.
Левин покачал лысиной.
– Откуда у Хирша такие деньги. Вы знаете банкира Танненбаума?
Я молчал. Я не знал, как отвечать.
– Возможно, – пробормотал я наконец.
– Возможно? Что значит «возможно»?! Вечно вы увиливаете! Конечно, вы его знаете! Он же за вас поручился!
Внезапно возле самых окон над беспокойно мерцающим морем с криками пронеслась стая чаек. Никакого банкира Танненбаума я не знал. Я вообще никого не знал в Нью-Йорке, кроме Роберта Хирша. Наверное, это он все устроил. Как устраивал во Франции, прикидываясь испанским вице-консулом.
– Очень может быть, что и знаю, – сказал я уклончиво. – Когда ты в бегах, встречаешь уйму людей, а фамилии легко забываются.
Левин смотрел на меня скептически.
– Даже такая рождественская, как Танненбаум[3]?
Я рассмеялся.
– Даже такая, как Танненбаум. А почему нет? Как раз Танненбаум и забывается! Кому в наши дни охота вспоминать о немецком Рождестве?
Левин фыркнул своим бугристым носом.
– Не имеет значения, знаете вы его или нет. Главное, чтобы он за вас поручился. И он готов это сделать.
Левин раскрыл чемоданчик. Оттуда вывалилось несколько газет. Он протянул их мне.
– Утренние. Уже читали?
– Нет.
– Как? Еще не читали? Здесь что, нет газет?
– Есть. Но я их еще не читал.
– Странно. Мне-то казалось, что как раз вы должны каждый день прямо кидаться на газеты. Разве остальные не кидаются?
– Может, и кидаются.
– А вы нет?
– А я нет. Да и не настолько я знаю английский.
Левин покачал головой.
– Своеобразная вы личность.
– Очень может быть, – буркнул я. Я даже пытаться не стал растолковать этому любителю прямых ответов, почему стараюсь не следить за сообщениями с фронтов, покуда сижу здесь взаперти. Для меня куда важнее сберечь скудные остатки внутренних резервов, а не транжирить их на пустые эмоции. А расскажи я Левину, что вместо газет по ночам читаю антологию немецкой поэзии, с которой не расставался на протяжении всех скитаний, он, чего доброго, вообще откажется представлять мои интересы, сочтя меня душевнобольным.
– Большое спасибо, – сказал я, забирая газеты.
Левин продолжал рыться в папке с бумагами.
– Вот двести долларов, которые мне передал для вас Хирш, – объявил он. – Первая выплата моего гонорара.
Левин извлек на свет четыре зеленых купюры, разложил их карточным веером, помахал и мгновенно припрятал снова.
Я проводил купюры взглядом.
– Господин Хирш передал мне эти деньги только для того, чтобы я выплатил вам аванс? – поинтересовался я.
– Не то чтобы так прямо, но ведь вы мне их отдадите, не так ли? – Левин опять улыбался, но теперь уже не только всеми зубами и каждой морщинкой лица, а, казалось, даже ушами. – Вы же не хотите, чтобы я работал на вас бесплатно? – кротко спросил он.
– Конечно, нет. Однако не вы ли сами утверждали, что для допуска в Америку моих ста пятидесяти долларов слишком мало?
– Без спонсора – да! Но Танненбаум все меняет.
Левин буквально сиял. Он сиял до того нестерпимо, что я всерьез начал опасаться и за мои оставшиеся полторы сотни. И решил стоять за них до последнего, пока не получу в руки паспорт с въездной визой. Похоже, однако, Левин и сам это почувствовал.
– Теперь со всеми документами я иду к инспекторам, – деловито заявил он. – И если все пойдет как надо, то через несколько дней к вам пожалует мой партнер Уотсон. Он уладит все остальное.
– Уотсон? – удивился я.
– Уотсон, – подтвердил он.
– А почему не вы? – спросил я настороженно.
К немалому моему изумлению, Левин смутился.
– Уотсон из семьи потомственных американцев. Самых первых, – пояснил он. – Его предки прибыли в страну на «Мейфлауэре». В Америке это все равно что принадлежать к высшей знати. Безобидный предрассудок, но просто грех им не воспользоваться. Особенно в вашем случае. Вы меня понимаете?
– Понимаю, – оторопело ответил я. Видимо, Уотсон не еврей. Значит, и здесь это тоже имеет значение.
– Он придаст нашему делу надлежащий вес, – сказал Левин солидно. – И другим нашим запросам, на будущее. – Протягивая мне костлявую руку, он встал. – Всего хорошего! Скоро вы будете в Нью-Йорке!
Я не ответил. Все в адвокате мне не нравилось. Суеверный, как всякий, кто живет волей случая, я видел дурное предзнаменование в беспечной уверенности, с какой этот человек смотрит в будущее. Он выказал эту уверенность в первый же день, когда спросил меня, где я собираюсь жить в Нью-Йорке. У нас, эмигрантов, это не принято – боимся сглазить. Слишком часто на моем веку такие вот надежды оборачивались самым худым концом. А тут еще и Танненбаум – что значит эта странная, непонятная история? Я все еще толком не верил в нее. И деньги от Роберта Хирша этот адвокатишка мигом прикарманил! Наверняка они предназначались не для этого! Двести долларов! Целое состояние! Я свои полторы сотни целых два года копил. А этот Левин, чего доброго, в следующий приход захочет и их заграбастать! Немного успокаивало меня только одно: эту зубастую гиену все-таки послал ко мне Роберт Хирш.
Из всех, кого я знал, Хирш был единственным истинным маккавеем[4]. Однажды, вскоре после перемирия, он вдруг объявился во Франции в роли испанского вице-консула. Раздобыв откуда-то дипломатический паспорт на имя Рауля Тенье, он выдавал себя за такового с поразительной наглостью. Никто не знал, фальшивый у него паспорт или подлинный, а если подлинный, то насколько. Поговаривали даже, что Хирш получил его чуть ли не от французского Сопротивления. Сам Роберт хранил на сей счет полную непроницаемость, но всем и так было известно, что в кометном шлейфе его карьеры были эпизоды, когда он работал и на французское подполье. Как бы там ни было, он имел в распоряжении автомобиль с испанскими номерами и эмблемой дипкорпуса, носил элегантные костюмы и во времена, когда горючее было дороже золота, на трудности с бензином не жаловался. Добыть все это он мог только через подпольщиков. Хирш и работал на них: перевозил оружие, литературу – листовки и маленькие двухстраничные памфлеты. Это были времена, когда немцы, нарушив пакт о частичной оккупации, вторгались на незанятую часть Франции, устраивая там облавы на эмигрантов. Всех, кого мог, Хирш пытался спасти. Его выручали автомобиль, паспорт – и отвага. Когда его все же останавливали на дорогах для проверки, он в роли полномочного представителя другого, дружественного Германии диктатора не знал к проверяющим ни пощады, ни снисхождения. Он отчитывал постовых, кричал о своем дипломатическом иммунитете и, чуть что, грозил жаловаться лично Франко, а через того – самому Гитлеру. Опасаясь нарваться на неприятности, немецкие патрули предпочитали пропускать его сразу. Врожденный верноподданнический страх заставлял их трепетать перед громким титулом и паспортом, а выработанная за годы муштры привычка к послушанию сочеталась, особенно у низших чинов, с боязнью ответственности. Однако даже офицеры СС теряли лицо, когда Хирш принимался на них орать. Весь его расчет при этом был на страх, который порождает в собственных рядах всякая диктатура, превращая право в капризное орудие субъективного произвола, опасного не только для врагов, но и для сторонников, когда те просто не в силах уследить за постоянно меняющимися предписаниями. Таким образом, Хирш извлекал выгоду из трусости, которая, наряду с жестокостью, есть прямое следствие всякого деспотизма.
* * *
На несколько месяцев Хирш стал для эмигрантов чем-то вроде ходячей легенды. Некоторым он спасал жизнь неведомо где раздобытыми бланками удостоверений, которые заполнял на их имя. Благодаря этим бумажкам людям, за которыми уже охотилось гестапо, удавалось улизнуть за Пиренеи. Других Хирш прятал в провинции по монастырям, пока не предоставлялась возможность переправить их через границу. Двоих он сумел освободить даже из-под ареста и потом помог бежать. Подпольную литературу Хирш возил в своей машине почти открыто и чуть ли не кипами. Это в ту пору он, на сей раз в форме офицера СС, вытащил из лагеря и меня – к двум политикам в придачу. Все с замиранием сердца следили за этой отчаянной вылазкой одиночки против несметных сил противника, с ужасом ожидая неминуемой гибели смельчака. И вдруг Хирш сразу исчез, как в воду канул. Прошел слух, что его расстреляли гестаповцы. И, как всегда, нашлись люди, которые вроде бы даже видели, как его арестовали.
После моего освобождения из лагеря мы еще не раз встречались и провели друг с другом не один вечер, досиживая за разговором до утра. Хирш был вне себя от того, что немцы убивают евреев как кроликов, а те тысячами, без малейшего сопротивления, дают заталкивать себя в битком набитые товарные вагоны и везти прямиком в лагеря смерти. Он не мог уразуметь, почему они даже не пытаются восстать, дать отпор, почему хотя бы часть из них, зная, что погибели все равно не миновать, не взбунтуется, дабы прихватить с собой пару-тройку жизней своих палачей, – так нет же, все как один покорно идут на заклание. Мы оба знали, что поверхностными рассуждениями о страхе, последней отчаянной надежде или тем паче трусости ничего тут не объяснишь – скорее объяснение коренилось в чем-то прямо противоположном, ибо, судя по всему, человеку, вот так, молча принимающему смерть, требуется куда больше мужества, чем тому, кто будет рвать и метать, изображая перед смертью неистовство тевтонской мести. И все равно Хирш выходил из себя при виде этого – длящегося вот уже два тысячелетия со времен маккавеев – смирения. Он ненавидел за это свой народ – и понимал его всеми фибрами выстраданной любви и боли. Личная война, которую он в одиночку вел против изуверства, имела свои, не только общечеловеческие причины; в чем-то это было еще и восстание против самого себя.
Я взял газеты, которые дал мне Левин. По-английски я понимал плохо, так что читал с трудом. Еще на корабле я одолжил у одного сирийца французский учебник английской грамматики; какое-то время этот сириец даже давал мне уроки. Уже здесь, когда его выпустили, он оставил книгу мне в подарок, и я продолжал занятия. Произношение я с грехом пополам осваивал при помощи портативного граммофона, который привезла с собой на остров Эллис семья польских эмигрантов. Там было около дюжины пластинок, которые все вместе составляли курс английского. Граммофон по утрам выносился из спального в дневной зал, вся семья усаживалась перед ним где-нибудь в уголке и учила английский. Они рьяно и почти подобострастно вслушивались в неторопливый, сытый голос диктора, пока тот нудно рассказывал про жизнь воображаемой четы англичан, мистера и миссис Браун, – у тех был дом, сад, сыновья и дочери, которые исправно ходили в школу и делали домашние задания, в то время как сам мистер Браун, у которого имелся еще и велосипед, ездил на этом велосипеде в контору, где он служил, а миссис Браун при всем при том поливала цветы, готовила обед, носила передник и густые черные волосы. Несчастные эмигранты каждый день истово жили вместе с семьей Браунов этой сонной жизнью, их уста раскрывались и закрывались в такт речениям диктора, как при замедленной киносъемке, а вокруг, кто стоя, кто сидя, трудились все, кому тоже хотелось поживиться знаниями. Со стороны, особенно в сумерки, казалось, будто сидишь возле пруда со старыми карпами, которые лениво всплывают на поверхность, раскрывая и закрывая рты в ожидании подкормки.
Были среди эмигрантов и такие, кто мог бегло объясниться по-английски. Во время о́но у их родителей хватило ума определить своих чад в реальные училища, где вместо латыни и греческого им преподавали английский.
Теперь эти чада сами превратились в авторитетных учителей и время от времени консультировали тех, кто, склонившись над газетой, по складам разбирал фронтовые сводки с полей всемирной бойни, попутно упражняясь в числительных: десять тысяч убитых, двадцать тысяч раненых, пятьдесят тысяч пропавших без вести, сто тысяч пленных, – благодаря чему бедствия планеты на какое-то время сводились для них к трудностям школьного урока, на котором, допустим, надо непременно освоить произношение звука th в слове thousand[5]. Знатоки снова и снова терпеливо демонстрировали им этот каверзный звук, которого в немецком нет и по скверному произношению которого в тебе мигом распознают иностранца, – th как thousand, fifty thousand[6] убитых в Берлине и Гамбурге, – до тех пор, пока кто-то из учеников, внезапно побледнев и поперхнувшись на полуслове, не выпадал вдруг из роли школяра, с ужасом бормоча:
– Гамбург? Да у меня же мама еще в Гамбурге!
Я не очень представлял себе, какой именно акцент вырабатывается у меня на острове Эллис; зато я люто возненавидел войну в качестве материала для букваря. Уж лучше вверить себя нудному идиотизму моей английской грамматики и зазубривать, что Карл носит зеленую шляпу, что его сестренке двенадцать лет и она любит пирожные, а его бабушка все еще катается на коньках. Эти высокоумные измышления нафталинной педагогической премудрости по крайней мере образовывали что-то вроде островков идиллической банальности в кровавых морях газетного чтива. А на душе и без того было тошно от одного вида всех этих беженцев, которые стыдились… которых жизнь заставила стыдиться своего родного языка, языка палачей и изуверов, и которые теперь – не столько даже обучения ради, а словно лихорадочно торопясь позабыть последние привезенные с собой остатки родной речи – беспомощно коверкали чужеземные слова, норовя даже между собой изъясняться по-английски. Дня за два до моего освобождения томик немецких стихов, с которым я не разлучался, внезапно исчез. Утром я на секунду оставил его в дневном зале – а нашел только после обеда, в уборной, разорванным в клочки и перепачканным в дерьме. И поделом мне, подумал я: все чарующие красоты немецкой лирики выглядели здесь чудовищной издевкой над страданиями, принятыми всеми этими несчастными от той же самой Германии.
Уотсон, партнер Левина, и вправду явился через несколько дней. Это был помпезного вида мужчина с крупным мясистым лицом и пышными седыми усами. Как я и предполагал, он не был евреем и не обладал ни любопытством Левина, ни его интеллигентной сообразительностью. Он не говорил ни по-немецки, ни по-французски, зато широко жестикулировал и расплывался в глуповатой, хотя и успокоительной улыбке. Худо-бедно, но как-то мы с ним объяснились. Уотсон, впрочем, ни о чем особенно и не спрашивал, только императорским жестом повелел мне ждать, а сам отправился в администрацию беседовать с инспекторами.
В это время в женском отделении возникла какая-то тихая сумятица. Туда сразу же устремились надзиратели. Все обитательницы отделения сгрудились вокруг одной женщины – та лежала на полу и постанывала.
– Что там стряслось? – спросил я у старика, который одним из первых метнулся на шум и уже успел вернуться. – Опять с кем-то истерика?
Старик мотнул головой:
– Похоже, какая-то чудачка надумала рожать.
– Что? Рожать? Здесь?
– Похоже на то. Любопытно, что скажут инспектора. – Старик невесело хмыкнул.
– Преждевременные роды! – объявила дама в красной панбархатной блузке. – На месяц раньше срока. Не мудрено, при такой-то нервотрепке.
– Ребенок уже родился? – спросил я.
Женщина глянула на меня свысока.
– Разумеется, нет. У нее только первые боли. Это может длиться часами.
– Если ребенок родится здесь – он будет американцем? – поинтересовался вдруг старик.
– А кем же еще? – опешила женщина в красной блузке.
– Я имею в виду – здесь, на Эллисе. Все-таки это лишь карантинная зона, вроде как еще не настоящая Америка. Америка – вон она где.
– Здесь тоже Америка! – выпалила дама. – Охранники вон американцы. И инспектора тоже.
– Если так, то матери крупно повезет, – заметил старик. – У нее нежданно-негаданно объявится родственник в Америке – собственный ребенок! Ее легче будет пропустить! Эмигрантов, у кого в Америке родственники, впускают почти сразу. – Старик обвел нас несмелым взглядом и смущенно улыбнулся.
– Если его не признают американцем, значит, это будет первый истинный гражданин мира, – сказал я.
– Второй, – возразил старик. – Первого мне довелось повстречать еще в тридцать седьмом на мосту между Австрией и Чехословакией. На этот мост полиция обеих стран согнала тогда немецких эмигрантов. Податься было некуда, кордон стоял с двух концов. Целых три дня между границами прокуковали. Вот одна и родила.
– И что же стало с ребенком? – взволнованно спросила женщина в красной блузке.
– Умер задолго до того, как между двумя странами успела начаться война, – проронил старик. – Это было еще в гуманные времена, до их присоединения к Германии, – добавил он почти извиняющимся тоном. – Потом-то эту мамашу вместе с ее младенцем попросту прибили бы, как котят.
* * *
Я увидел, что Уотсон уже возвращается из инспекторского бюро. В своем светлом клетчатом костюме он возвышался над согбенными спинами жмущихся у дверей беженцев, будто великан. Я поспешил навстречу. Сердце у меня вдруг бешено забилось. Уотсон помахал моим паспортом.
– Считайте, что вам повезло, – объявил он. – Тут какая-то женщина рожает, инспектора совсем одурели. Вот ваша виза.
Я взял паспорт. Руки у меня дрожали.
– И на какой срок?
Уотсон от удовольствия даже рассмеялся.
– Собирались дать вам транзитную и только на четыре недели, а дали туристическую на два месяца. Можете этой роженице спасибо сказать – так они торопились от нее, а заодно и от меня избавиться. Для нее, кстати, уже заказана моторка – сразу в больницу повезут. Заодно и нас могут прихватить. Ну, как вам это?
Уотсон крепко хлопнул меня по спине.
– Это что же, выходит, я свободен?
– Конечно! На ближайшие два месяца. А потом мы придумаем что-нибудь еще.
– Два месяца! – пробормотал я. – Целая вечность.
Уотсон мотнул своей львиной шевелюрой.
– Вовсе не вечность! Всего два месяца! Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги.
– Только на берегу! – сказал я. – Не сейчас!
– Хорошо. Но особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались – проезд, виза, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите, когда обживетесь.
– Остаток – это сколько?
– Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь.
Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного – как можно скорее выбраться из этого зала. Прочь с острова Эллис! Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется и меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще девяносто девять. Это не считая сотни долга. «Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам проценты», – пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно – я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения.
– Мы можем идти? – спросил я.
Женщина в красной блузке вдруг рассмеялась.
– Сколько еще часов пройдет, пока этот ребенок родится. Часов! Но они там этого не знают. Эти инспекторишки! Все знают, а этого не знают! И я лично меньше всего намереваюсь их просвещать. Ведь любая живая тварь, выходящая отсюда, дарит надежду остающимся. Верно?
– Верно, – согласился я. И увидел женщину, которой предстояло рожать, – двое надзирателей вели ее под руки.
– Мы можем идти за ними? – спросил я Уотсона.
Тот кивнул. Женщина в панбархатной блузке пожала мне руку. Тут же подошел и старик, чтобы поздравить меня. Мы пошли к выходу. В дверях я предъявил полицейскому свой паспорт. Он тут же вернул его мне.
– Счастья вам! – пожелал он и тоже протянул руку.
Впервые в жизни мне жал руку полицейский, да еще и желал счастья. На меня это весьма своеобразно подействовало: только тут я понял, что действительно свободен.
Нас погрузили в моторку, больше похожую на солидный баркас. Роженицу в сопровождении двух охранников уложили на корме. Уотсон, я и еще несколько выпущенных на волю счастливцев теснились на носу. Рев мотора и гудки окружающих кораблей заглушили стоны женщины. Солнце и ветер со всех сторон охватили лодку искристой зыбью подрагивающих солнечных бликов, так что казалось – наша моторка не плывет, а парит между небом и водой. Я стоял, не оглядываясь. Паспорт был спрятан во внутреннем кармане, я прижимал его к телу. Небоскребы Манхэттена исполинскими стражами вырастали в ослепительно голубом небе. Вся переправа заняла лишь несколько минут.
Когда мы уже причаливали, один из пассажиров не смог удержаться от слез. Это был тщедушный старичок на тонких ножках и в старомодной велюровой шляпе. Бородка его затряслась, и он упал на колени, простирая руки к небу в истовом и бесцельном жесте. При ярком свете утреннего солнца это выглядело и трогательно, и комично. Супруга старичка, вся в морщинах, маленькая, смуглая, как орех, досадливо стала его поднимать.
– Костюм перепачкаешь! А он у тебя только один!
– Мы в Америке! – лепетал старичок.
– Ну да, да, мы в Америке, – крикливым голосом ответила ему жена. – А где наш Иосиф? Где Самуия? Где они? Где наша Мириам, где они все?.. Мы в Америке, – повторила она. – А все остальные где? Поднимайся и помни о костюме!
Своими мертвыми, неподвижными, словно у жука, глазами она теперь смотрела на всех нас:
– Мы-то в Америке! А где остальные? Дети где?
– Что она говорит? – поинтересовался Уотсон.
– Радуется, что наконец-то в Америке.
– Ах вот оно что! Еще бы! Тут у нас земля обетованная. Вы ведь тоже рады, не так ли?
– Очень! Большое вам спасибо за помощь.
Я осмотрелся. Вокруг меня, казалось, бушует автомобильная битва. Никогда прежде мне не доводилось видеть столько машин одновременно. В Европе до войны машин было немного, да и бензина почти всегда не хватало.
– А где же солдаты? – удивился я.
– Солдаты? Какие солдаты?
– Но ведь Америка ведет войну!
Уотсон широко улыбнулся.
– Война в Европе и в Атлантике, – доброжелательно растолковал он мне. – А здесь нет. В Америке войны нет. Здесь у нас мир.
На секунду я даже забыл об этом. Враг далеко, где-то на краю света. Здесь не надо оборонять от него границы. Не надо стрелять. Здесь нет руин. Нет бомб. Вообще никаких разрушений.
– Мир, – повторил я.
– Не похоже на Европу, верно? – с гордостью спросил Уотсон.
Я кивнул.
– Совсем не похоже.
Уотсон показал на другую сторону улицы.
– Вон там стоянка такси. А напротив остановка омнибуса. Не пешком же вы пойдете!
– Отчего же. Именно пешком. Я вдоволь насиделся взаперти.
– Ах вот что. Ну как хотите. Кстати, в Нью-Йорке вы не заблудитесь. Почти все улицы здесь по номерам. Очень удобно.
Я брел по улицам, словно пятилетний мальчуган – как раз на столько, должно быть, хватало моих знаний английского. Я брел сквозь ошеломляющий поток звуков, слов, смеха, криков, клаксонов, сквозь все это взбудораженное кипение жизни, которому пока что не было до меня никакого дела, хоть оно слепой силой прибоя и рвалось во все мои чувства. Я слышал вокруг себя только шум, не понимая отдельных звуков, я видел вокруг себя только свет, не понимая, из чего он возникает и во что складывается. Я брел по городу, каждый обитатель которого казался мне таинственным Прометеем – до того загадочными были даже самые привычные их повадки и жесты, не говоря уже о словах, в звучании которых я тщетно пытался улавливать смысл. Все вокруг полнилось изобилием возможностей, мне неведомых, ибо я не знал этого языка. Все было иначе, чем в европейских странах, где знакомая жизнь поддавалась толкованию легко и сразу. Здесь же мне все время чудилось, будто я шагаю по гигантской арене, на которой все эти прохожие, официанты, шоферы играют между собой в какую-то непонятную мне игру, а я, хоть и нахожусь в самом центре событий, из игры напрочь выключен, ибо не знаю правил. Я понимал, что эти мгновения – единственные и никогда больше не повторятся. Уже завтра, да нет, уже сегодня, как только дойду до гостиницы, я вольюсь в эту жизнь, и вечная борьба, полная уловок и утаек, выгадываний и грошовых сделок, а еще скопища мелких полуправд, из которых складываются мои будни, начнется снова-здорово, – но сейчас, в этот единственный миг, город, еще не успевший меня заметить, распахивал мне навстречу свое лицо, неистовое и громогласное, безучастное и чуждое, открываясь во всей своей безличной прозрачности и мощи, как ослепительный гигантский кристалл сияющей и смертоносной кометы. Мне показалось, что даже время на несколько минут остановилось в некоей судьбоносной цезуре, когда все вдруг возможно, любое решение подвластно, когда вся твоя жизнь замерла в бездвижной невесомости и только от одного тебя зависит, рухнет она или нет.
Я очень медленно брел по бурлящему городу; я и видел его, и не видел. Я до того столь долго был целиком и полностью поглощен лишь примитивными нуждами самосохранения, что привычку не замечать жизнь других ценил как выгоду. Это было безоглядное желание выжить, как на тонущем корабле за секунду до всеобщей паники, когда перед тобой только одна цель: не умереть. Но теперь, в мгновенья этого удивительного междучасья, я вдруг почувствовал, что, возможно, передо мной опять пышным веером развертывается жизнь, что в этой жизни снова есть пусть даже очень скудно отмеренное, но будущее, а вместе с будущим из небытия начинало подниматься и прошлое, дыша запахом крови и тленом могил. Я смутно ощущал – это такое прошлое, что ему ничего не стоит меня убить, но сейчас я не хотел об этом думать – не в сей час мерцающих отражениями витрин и пьянящего дурмана свободы, колышущегося океана незнакомых лиц, полуденной суеты, громких и чуждых звуков, разлитого повсюду света и жажды жизни, не в этот час, когда я, будто лазутчик, крадусь меж двух миров, не принадлежа ни одному из них, словно бы, как в детстве, мне показывают фильм с перепутанным звуковым сопровождением, и в его музыке мне открывается много больше, чем просто внезапное чудо света и тени и моего детского восторга и детской же уверенности, что восторг обернется разочарованием. Мне казалось, будто в темницу долгого внутреннего заточения, куда меня упрятала беспросветная нужда, вдруг постучалась жизнь, и уже задает вопросы, и требует ответов, и просит оглянуться, и над мшистой трясиной памяти манит дымкой робкой, еще почти бесплотной надежды. «Надежда, да разве бывает она вообще?» – думал я, уставившись в распахнутые двери магазина, в необъятных недрах которого, посверкивая хромом облицовки, позвякивая звоночками и перемигиваясь разноцветными лампочками, шеренгами выстроились игральные автоматы. Неужто это еще возможно? Неужели не все во мне пересохло и вымерло, неужели от ужасов выживания можно вернуться просто к проживанию и даже к жизни? Разве бывает такое – чтобы все начать сначала, снова предстать перед жизнью во всей неведомости и полноте своих нераскрытых предназначений, как тот язык, что лежал сейчас передо мной во всей своей непроницаемости? Разве можно проделать все это, не совершив предательства и вторично, теперь уже забвением, не убивая тех, кого однажды уже убили?
Я брел все дальше, брел по улицам, которые вместо названий носили просто номера и становились все обшарпанней и у́же, покуда с фасада чуть в глубине стоящего дома на меня не глянула вывеска гостиницы «Мираж». Подъезд был облицован искусственным мрамором, одна из плиток успела треснуть. Я вошел и тут же остановился. После яркого света улицы в тесном холле с трудом угадывались подобие стойки, несколько плюшевых кресел и такой же диван, а еще кресло-качалка, с которой в темноте лениво поднялось что-то, силуэтом сильно напоминая медведя.
– Вы Людвиг Зоммер? – поинтересовался медведь по-французски.
– Да, – удивленно подтвердил я. – Откуда вы знаете?
– Роберт Хирш предупреждал, что вы можете приехать днями. Меня зовут Владимир Мойков. Я тут и за управляющего, и за горничную, и официант, и мальчик на побегушках.
– Мне повезло, что вы говорите по-французски. Молчал бы тут как рыба.
Мойков пожал мне руку.
– Говорят, под водой рыбы весьма общительные создания, – заявил он. – Кто угодно, только не молчуны. Согласно новейшим научным разысканиям. Можете, кстати, говорить со мной и по-немецки.
– Вы немец?
Лицо Мойкова сморщилось множеством борозд и складочек – это была улыбка.
– Нет. Я остаточный продукт многих революций. Сейчас я американец. Прежде побывал чехом, русским, поляком, австрийцем, смотря по тому, кто стоял в городишке, откуда родом моя мать. Даже немцем побывал – в оккупации. Что-то вид у вас какой-то жаждущий. Хотите рюмку водки?
Я замялся, подумав о моих стремительно тающих финансах.
– А сколько у вас стоит комната? – спросил я.
– Самая дешевая два доллара за ночь. – Мойков направился к доске с ключами. – Правда, это скорее каморка. Без роскоши и без удобств. Но ванная в том же коридоре.
– Я ее беру. А на месяц не дешевле?
– Пятьдесят долларов. И сорок пять, если платите вперед.
– Хорошо.
Мойков осклабился в ухмылке старого павиана.
– Рюмка водки при заключении договора обязательна. За счет отеля. Водка, кстати, очень хорошая. Я сам ее делаю.
– Мы когда-то тоже делали, в Швейцарии, разводили пятьдесят на пятьдесят с добавлением кусочка сахара и наперстка смородинных почек. Спиртом нас снабжал аптекарь. Водка получалась отменная и дешевле самого отвратного магазинного шнапса. Да, блаженное было времечко, зимой сорок второго.
– В тюрьме?
– В тюрьме в Беллинцоне. К сожалению, только одну неделю. Нелегальное пересечение границы.
– Смородинные почки, – повторил Мойков задумчиво. – А что, хорошая идея! Только где найти в Нью-Йорке смородинные почки?
– Они все равно почти не дают вкуса, – утешил я его. – А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая.
– Вот и замечательно. В шахматы играете?
– Да, но в тюремные. Не в гроссмейстерские. Беженские шахматы, только чтобы отвлечься от прочих мыслей.
Мойков кивнул.
– Бывают еще языковые шахматы, – заметил он. – Широко здесь практикуются. Шахматы мобилизуют абстрактное мышление, за ними хорошо повторять английскую грамматику. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.
Комната действительно оказалась каморкой, выходила на задний двор, и света в ней было немного. Я заплатил сорок пять долларов и с облегчением поставил чемодан. Освещалась комната из-под потолка парой чугунных светильников, но имелась здесь и маленькая настольная лампа с зеленым абажуром. Я удостоверился, что лампа работает, значит, можно будет оставлять ее на ночь. После кладовки брюссельского музея я ненавижу спать впотьмах. Потом я пересчитал свои деньги. Я понятия не имел, как долго можно прожить в Нью-Йорке на пятьдесят четыре доллара, но меня это нисколько не угнетало. У меня слишком часто не было за душой и сотой доли этой суммы. Как сказал мне незадолго до смерти покойный Зоммер, чьим паспортом я теперь благодарно пользовался: пока ты жив, ничто не потеряно до конца. Даже странно, до какой степени одни и те же слова могут казаться то истиной, а то ложью.
– Вот вам письмо от Роберта Хирша, – сказал мне Мойков, когда я снова спустился вниз. – Он не знал точно, когда вы приедете. Вам лучше всего просто сходить к нему ближе к вечеру. Днем он работает, как и почти всякий здесь.
Работа, подумал я. Легальная! Счастье-то какое! Вот бы и мне так… Мне если и случалось работать, то только по-черному, украдкой, в вечном страхе перед полицией.
III
К Хиршу я отправился уже в полдень. Не хотелось столько ждать. Я легко нашел небольшой магазинчик, в окнах которого были выставлены два репродуктора, электрические утюги, фены для сушки волос и кипятильники; все это горделиво посверкивало сталью и хромом, – но дверь была заперта. Я подождал немного, а потом сообразил, что Роберт Хирш, наверное, ушел на обед. Я разочарованно отвернулся от двери и внезапно сам испытал острый приступ голода. Не зная, как быть, я осмотрелся по сторонам. Очень хотелось поесть, не убухав на это кучу денег. На ближайшем углу я углядел магазинчик, с виду похожий на аптеку. В витрине красовались клизмы, флаконы с туалетной водой и реклама аспирина, но за раскрытой дверью виднелось нечто вроде бара, за стойкой сидели люди и явно что-то ели. Я вошел. Парень в белой куртке нетерпеливо спросил меня из-за стойки:
– Что вам?
Я растерялся, не зная, что ответить. Впервые в Америке мне приходилось самому заказывать себе еду. Я показал на тарелку соседа.
– Гамбургер? – рявкнул парень.
– Гамбургер, – ответил я изумленно. Вот уж не ожидал, что мое первое слово по-английски будет немецким.
Гамбургер оказался сочным и вкусным. Я съел к нему две булочки. Парень опять что-то рявкнул. Я напрочь не понимал, чего он от меня добивается, но увидел, что на тарелке у соседа уже мороженое. Я снова ткнул в его сторону. Сто лет мороженого не ел. Однако парню этого оказалось недостаточно. Он показал на длиннющее табло у себя за спиной и рявкнул еще громче.
Сосед взглянул на меня. У него были лысина и жесткие, будто из конского волоса, усы.
– Какой сорт? – сказал он мне почти по складам, точно ребенку.
– Самый обычный, – ответил я, лишь бы выпутаться.
Усач рассмеялся.
– Тут мороженое сорока двух сортов.
– Что?
Усач показал на табло.
– Выбирайте.
Я разглядел слово «фисташки». В Париже бродячие торговцы продавали фисташки, обходя в кафе столик за столиком. Но такого мороженого я не знал.
– Фисташки, – сказал я. – И кокос.
Я расплатился и не торопясь вышел. Впервые в жизни я ел в аптеке. По дороге к выходу я успел заметить прилавки с лекарствами и рецептурный отдел. Здесь также можно было купить резиновые перчатки, книги и даже золотых рыбок. «Что за страна! – думал я, выходя на улицу. – Сорок два сорта мороженого, война и ни одного солдата на улице!»
Я отправился обратно в гостиницу. Уже издали я различил обшарпанный мраморный фасад, и среди окружающей чужбины он показался мне почти что родиной, пусть и мимолетной. Владимира Мойкова не было видно. Вообще никого. Будто вымерли все. Я прошелся по вестибюлю мимо плюшевой мебели и горестных пальм в кадках. И тут никого. Взял свой ключ, поднялся в комнату и прямо в одежде улегся на кровать вздремнуть. А проснулся, не понимая, где я и что со мной. Что-то мне снилось, какая-то жуть, мерзкая и тягостная. В комнате уже царил розоватый и смутный полумрак. Я встал и выглянул в окно. Внизу двое негров тащили по двору бачки с отбросами. Одна из крышек свалилась и загремела по цементному полу. Я сразу же вспомнил, что мне снилось. Вот уж не думал, что этот кошмар переплывет со мной океан. Я спустился вниз. На сей раз Мойков оказался на месте; сидя за столом в обществе изящной старой дамы, он махнул мне рукой. Было самое время идти к Роберту Хиршу. Я спал дольше, чем предполагал.
Перед магазином Роберта Хирша стояла небольшая толпа. «Несчастье! – подумал я. – Или полиция!» Это первое, о чем наш брат думает. Я уже начал было продираться сквозь толпу, как вдруг услышал чей-то неестественно громкий голос. В окнах теперь торчали три репродуктора, дверь в магазин была распахнута настежь. Голос шел из динамиков. В самом магазине было пусто и темно.
И тут я увидел Хирша. Он стоял на улице среди других слушателей. Я сразу узнал его рыжую продолговатую макушку. Он не изменился.
– Роберт! – тихо сказал я, вплотную подойдя к нему сзади и забыв о раскатах репродукторного трио.
Он меня не услышал.
– Роберт! – крикнул я. – Роберт!
Он вздрогнул, оглянулся, изменился в лице.
– Людвиг! Ты? Ты когда приехал?
– Сегодня утром. Я уже приходил сюда, но никого не было.
Мы пожали друг другу руки.
– Хорошо, что ты здесь, – сказал он. – Это чертовски здорово, Людвиг! Я уж думал, тебя нет в живых.
– А я то же самое думал о тебе, Роберт. В Марселе все тебя похоронили. Нашлись даже очевидцы твоего расстрела.
Хирш рассмеялся.
– Эмигрантские сплетни! Ну ничего, говорят, это к долгой жизни. Хорошо, что ты здесь, Людвиг. – Он кивнул в сторону батареи репродукторов и пояснил: – Рузвельт! Твой спаситель говорит. Давай-ка послушаем.
Я кивнул. Мощный, раскатистый голос и так перекрывал любое изъявление чувств. Да мы и отвыкли от них; на этапах «страстного пути» людям столько раз случалось терять друг друга из вида и находить – или не находить – снова, что деловитая, будничная немногословность встреч и расставаний вошла в привычку. Надо быть готовым умереть завтра – или свидеться через годы. Главное, что сейчас ты жив, этого достаточно. Этого было достаточно в Европе, подумал я. Здесь все иначе. Я был взволнован. Кроме того, я почти ни слова не мог разобрать из того, что говорит президент.
Я заметил, что и Хирш слушает не слишком внимательно. Он пристально наблюдал за собравшимися. Большинство слушали безучастно, но некоторые отпускали замечания. Толстуха с башней белокурых волос презрительно рассмеялась, недвусмысленно постучала себя по лбу и удалилась, покачивая пышными бедрами.
– They should kill that bastard![7] – буркнул стоявший рядом со мной мужчина в клетчатом спортивном пиджаке.
– Что значит «kill»? – спросил я у Хирша.
– Убить, – пояснил он с улыбкой. – Прикончить. Это слово надо знать.
Динамики вдруг умолкли.
– Ты ради этого все репродукторы включил? – спросил я. – Принудительное воспитание терпимости?
Он кивнул.
– Моя вечная слабость, Людвиг. Никак от нее не избавлюсь. Только зряшная это затея. Причем где угодно.
Люди быстро разошлись. Остался лишь мужчина в спортивном пиджаке.
– По-каковски это вы говорите? – буркнул он вопросительно. – Немецкий, что ли?
– По-французски, – невозмутимо ответил Хирш. (Мы говорили по-немецки.) – Язык ваших союзников.
– Тоже мне союзнички. Мы за них воюем! Все из-за Рузвельта этого!
Мужчина вразвалку удалился.
– Вечно одно и то же, – вздохнул Хирш. – Ненависть к иностранцам – вернейший признак невежества. – Потом он взглянул на меня. – А ты похудел, Людвиг. И постарел. Но я-то думал, тебя вообще уже нет в живых. Странно, это первое, что думаешь про человека, когда о нем долго не слышишь. А ведь мы не такие старые.
Я усмехнулся.
– Такая уж у нас проклятая жизнь, Роберт.
Хирш был примерно моих лет – ему тридцать два. Но выглядел гораздо моложе. И фигурой пощуплей, и ростом поменьше.
– Я был твердо уверен, что тебя убили, – проронил я.
– Да я сам распустил этот слух, чтобы легче смыться, – объяснил он. – Было уже пора, самое время.
Мы вошли в магазин, где радио теперь взахлеб что-то расхваливало. Оказалось, это реклама кладбища. «Сухая, песчаная почва! – разобрал я. – Изумительный вид!» Хирш выключил звук и извлек из маленького холодильника бутылку, стаканы и лед.
– Последний мой абсент, – объявил он. – И самый подходящий повод его откупорить.
– Абсент? – не поверил я. – Настоящий?
– Да нет, не настоящий. Эрзац, как и все. Перно. Но еще из Парижа. Будь здоров, Людвиг! За то, что мы еще живы!
– Будь здоров, Роберт! – Ненавижу перно, оно отдает лакричными леденцами и анисом. – Где же ты потом во Франции был? – спросил я.
– Три месяца скрывался в монастыре в Провансе. Святые отцы были само очарование. Им явно хотелось сделать из меня католика, но они не слишком настаивали. Кроме меня, там прятались еще два сбитых английских летчика. На всякий случай мы все трое щеголяли в рясах. Я не без пользы провел это время, освежая свой английский. Отсюда мой легкий оксфордский акцент – летчики именно там получили образование. Левин вытянул из тебя все деньги?
– Нет. Но те, что ты мне послал, вытянул.
– Отлично! Для этого я тебе их и посылал. – Хирш рассмеялся. – А вот тебе то, что я от него зажал. Иначе он и их захапал бы.
Он достал две пятидесятидолларовые купюры и сунул мне в карман.
– Мне пока не надо! – сопротивлялся я. – У меня своих пока достаточно. Больше, чем когда-либо бывало в Европе! Для начала дай мне попробовать выкручиваться самому.
– Не дури, Людвиг! Мне ли не знать твои финансы. К тому же один доллар в Америке – это половина того, что он стоит в Европе, а значит, и бедняком быть здесь вдвое тяжелей. Кстати, ты что-нибудь слышал о Йозефе Рихтере? Он был еще в Марселе, когда я перебрался в Испанию.
Я кивнул.
– В Марселе его и взяли. Прямо перед американским консульством. Не успел в двери забежать. Сам знаешь, как это бывало.
– Да, знаю, – отозвался он.
Окрестности зарубежных консульств были во Франции излюбленными охотничьими угодьями что для гестапо, что для жандармерии. Ведь именно туда большинство эмигрантов приходили получать выездные визы. Пока они находились в экстерриториальных зданиях самих консульств, они были в безопасности, но на выходе их частенько брали.
– А Вернер? – спросил Хирш. – С ним что?
– Сперва в гестапо изуродовали, потом в Германию увезли.
Я не спросил Роберта Хирша, как ему самому удалось выбраться из Франции. И он меня не спросил. По привычке сработало давнее конспиративное правило: чего не знаешь, того не выдашь. А сможешь ли ты выдержать последние достижения современной пытки – это еще большой вопрос.
– Ну что за народ! – вдруг воскликнул Хирш. – Это же кем надо быть, чтобы так преследовать собственных беженцев! И ты к этому народу принадлежишь…
Он уставился в одну точку. Мы помолчали.
– Роберт, – наконец спросил я. – Кто такой Танненбаум?
Роберт очнулся от своих невеселых мыслей.
– Танненбаум – это еврейский банкир. Уже много лет как здесь обосновался. Богач. И очень великодушен, если его подтолкнуть.
– Понятно. Но кто подтолкнул его помогать мне? Ты, Роберт? Опять принудительное воспитание гуманизма?
– Нет, Людвиг. Это был не я, а добрейшая эмигрантская душа на свете – Джесси Штайн.
– Джесси? Она тоже здесь? Ее-то кто сюда переправил?
Хирш рассмеялся:
– Она сама себя переправила. Причем без чьей-либо помощи. И к тому же с удобствами. Даже с шиком. Она прибыла во Америку, как когда-то Фольберг – в Испанию. Ты еще встретишь здесь много других знакомых. Даже в «Мираже». Не все сгинули, и поймали не всех.
Два года назад Фольберг несколько недель держал в осаде франко-испанскую границу. Ни выездную визу из Франции, ни въездную в Испанию он получить не смог. И пока другие эмигранты пересекали границу, карабкаясь глухими контрабандистскими тропами через горы, отчаявшийся Фольберг, которому альпинизм был уже не по летам, взял напрокат на последние деньги допотопный, но шикарный «роллс-ройс», в бензобаке которого еще оставалось километров на тридцать бензина, и покатил по автостраде прямиком к границе. Владелец «роллс-ройса» изображал шофера. По такому случаю он дал Фольбергу напрокат не только авто, но и свой парадный костюм со всеми военными орденами, которые тот, восседая на заднем сиденье, гордо выпячивал. Расчет оправдался. Ни один из пограничников не додумался побеспокоить липового владельца «роллс-ройса» вопросами о какой-то там визе. Зато все, как мальчишки, толклись вокруг мотора, достоинства которого Фольберг им охотно разъяснял.
– Что, Джесси Штайн прибыла в Нью-Йорк тоже на «роллс-ройсе»? – поинтересовался я.
– Да нет. С последним рейсом «Королевы Мэри» перед самой войной. Когда она сошла на берег, срок ее визы истекал через два дня. Но ей продлили на шесть месяцев. И уже который раз продлевают еще на полгода.
У меня даже дыхание перехватило.
– Брось, Роберт. Неужели такое бывает? – не поверил я. – Неужто здесь можно продлить визу? Даже туристическую?
– Только туристическую и можно. Другие продлевать просто не нужно. Это настоящие въездные визы по так называемым квотам, которые через пять лет дают право на получение гражданства. Их выписывают сроком на десять и даже на двадцать лет! С такой квотной визой ты даже имеешь право работать, а с туристической нет. На сколько она у тебя, кстати?
– Восемь недель. Ты что, правда думаешь, что ее можно продлить?
– Почему нет? Левин и Уотсон довольно надежные ребята.
Я откинулся на спинку стула. Как-то я вдруг весь размяк. Впервые за много лет. Хирш взглянул на меня. Потом рассмеялся.
– Давай-ка отметим твое вступление в мещанскую стадию эмигрантской жизни, – заявил он. – Мы пойдем ужинать. Все, Людвиг, кончились этапы страстного пути.
– До завтрашнего утра, – возразил я. – А завтра я отправлюсь на поиски работы и тут же опять вступлю в конфликт с законом. Каково, кстати, в здешних тюрьмах?
– Очень демократично. В некоторых даже радио в камерах. Если в твоей не будет, я тебе пришлю.
– А лагеря для интернированных в Америке есть?
– Да. Но в порядке исключения только для подозреваемых в нацизме.
– Вот это фортель! – Я встал. – И куда же мы пойдем ужинать? В американскую аптеку? Я сегодня в одной такой обедал. Очень здорово. Там тебе и презервативы, и мороженое сорока двух сортов.
Хирш засмеялся:
– Это был драгстор. Нет, сегодня мы пойдем в другое место.
Он запер двери магазина.
– Это твоя, что ли, лавочка? – спросил я.
Он покачал головой.
– Я здесь только обычный рядовой продавец, – сказал он с внезапной горечью в голосе. – Невзрачный лавочник с утра до вечера. Кто бы мог подумать!
Я ничего не ответил. Я-то бы счастлив был, позволь мне кто-нибудь поработать продавцом. Мы вышли на улицу. Стылый закатный багрянец робко заглядывал между домами, будто заблудившийся и вконец продрогший бродяга. Два самолета с мерным жужжанием плыли по ясному небу. Никто не обращал на них внимания, никто не разбегался по подворотням, не падал ничком на асфальт. Двойная цепочка фонарей разом зажглась по всей длине улицы. По стенам домов обезумевшими обезьянами метались вверх-вниз разноцветные вспышки неоновых реклам. В Европе в это время уже стояла бы кромешная тьма, как в угольной шахте.
– Подумать только, тут и в самом деле нет войны, – сказал я.
– Да, – отозвался Хирш. – Войны нет. Никаких руин, никакой опасности, никаких бомбежек – ты ведь об этом, верно? – Он усмехнулся. – Опасности никакой, зато от бездеятельного ожидания выть хочется.
Я взглянул на него. Лицо его снова было замкнуто и ничего не выражало.
– Ну, что-что, а уж это я смог бы выносить довольно долго, – сказал я.
Мы вышли на большую улицу, по всей длине которой красными, желтыми, зелеными бликами весело перемигивались светофоры.
– Мы пойдем в рыбный ресторан, – решил Хирш. – Ты не забыл, как мы последний раз ели рыбу во Франции?
Я рассмеялся:
– Нет, это я хорошо помню. В Марселе. В ресторанчике Бассо в старом порту. Я ел рыбную похлебку с чесноком и шафраном, а ты салат из крабов. Угощал ты. Это была наша последняя совместная трапеза. К сожалению, нам помешали ее завершить: оказалось, в ресторане полиция, и нам пришлось смываться.
Хирш кивнул.
– На сей раз, Людвиг, обойдется без помех. Здесь ты не каждый миг балансируешь между жизнью и смертью.
– И слава Богу!
Мы остановились перед двумя большими, ярко освещенными окнами. Оказалось, это витрина. Рыба и прочая морская живность были выложены здесь на мерцающем насте дробленого льда. Аккуратные шеренги рыб живо поблескивали серебром чешуи, но смотрели тусклыми, мертвыми глазами; разлапистые крабы отливали розовым – уже сварены; зато огромные омары, походившие в своих черных панцирях на средневековых рыцарей, были еще живы. Поначалу это было незаметно, и лишь потом ты замечал слабые подрагивания усов и черных выпученных глаз пуговицами. Эти глаза смотрели, они смотрели и двигались. Огромные клешни лежали почти неподвижно: в их сочленения были воткнуты деревянные шпеньки, дабы хищники не покалечили друг друга.
– Ну разве это жизнь, – сказал я. – На льду, распятые, и даже пикнуть не смей. Прямо как эмигранты беспаспортные.
– Я тебе закажу одного. Самого крупного.
Я отказался.
– Не сегодня, Роберт. Не хочу свой первый же день ознаменовывать убийством. Сохраним жизнь этим несчастным. Даже столь жалкое существование им, наверное, кажется жизнью, и они готовы ее защищать. Закажу-ка я лучше крабов. Они уже сварены. А ты что будешь?
– Омара! Хочу избавить его от мук.
– Два мировоззрения, – заметил я. – У тебя более жизненное. Мое недостаточно критично.
– Ничего, скоро это изменится.