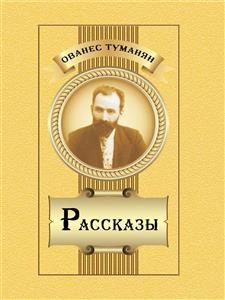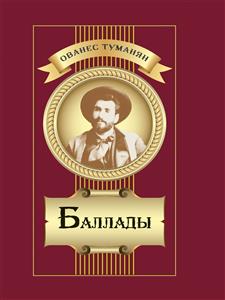Если армянский крестьянин из лорийских ущелий, взяв собранный женой кизил, отправится в Алексанрополь за солью, а в бесхлебные времена захочет обменять в Шорагьяле изготовленные собственными руками деревянные лопаты на хлеб или займёт денег, чтобы прикупить пшеницы или ячменя, он вместе со своей навьюченной лошадью непременно должен пройти долину Заманлу.
Довольно протяжённую эту долину образуют расположенные по обе её стороны хребты: их лесистые склоны, постепенно опускаясь все ниже, встречаются с быстрыми волнами реки Памбак, которая сбегает с гор, носящих то же имя, и мчится к ущельям Лори.
По обоим её берегам в лесу кое-где открываются ровные зелёные поляны, самую большую из которых называют “Водочной”.
Год был голодный. Из гущи окружающего леса на Водочную поляну, преодолев подъём, вышла оседланная лошадь. И прежде чем слу-
чайно оказавшийся здесь человек мог бы предположить, что она заблудилась или сбежала, появился её владелец, крестьянин Андри. Он шёл шагах в двадцати за лошадью, которая несла наброшенную на вьючное седло старую изношенную чуху хозяина и пустой хурджин. Сам Андри, как и его лошадь, вид имел потрёпанный и истощённый, но был жилист и вынослив. Крепкий и работящий, истинный хлебо-
пашец, он, хотя и не вылезал из нищеты, слыл весельчаком и остроумцем.
В этом году хлеб у бедняги кончился ещё в середине зимы. Андри занял у соседей денег, дав им расписку, и кое-как дотянул до весны, вернее до того дня, когда занимать было уже не у кого: одни сами сидели без гроша, у других запасы с каждым днём иссякали, нашлись и такие, что на его робкие просьбы отвечали: “Сперва верни прежний долг!” Словом, ужасающие рога голода уже высунулись изо всех опустевших кладовых и амбаров.
Уезд Шара’ слыл краем плодородным, а его жители – большими чревоугодниками, так что в неурожайные времена он был единственной опорой армян-горцев. Лори – страна высокогорная, здесь частые и затяжные дожди лишают людей пропитания, и тогда они, подобно Андри, седлают своих лошадей и отправляются в Шорагьял.
Андри задумчиво следовал за лошадью, не переставая размышлять:
“Доберусь до Шорагьяла – и прямиком к Мко Хадаконцу… Вот уж обрадуется как меня увидит… Здоро’во, Андри, здоро’во, кум!.. Давненько тебя не видел!.. Как ты, как твои пацанята?.. А достану из хурджина те несколько пачек “чёрного” табака – ещё больше обрадуется… После ужина устроимся в гостиной на тахте, раскурим чубуки и заведём беседу… Я скажу, что в наших краях – бесхлебье, туго нам приходится… Тут он уже и сам догадается, зачем я пришёл, не впервой ведь… Кто знает, может, даже не даст мне больше и рта раскрыть, скажет: бери и нагружай своего коня, братец Андри, вези домой, ешь на здоровье!..”
– Ах, Мко, ах, дорогой мой! – вскричал растроганный Андри и, ускорив шаг, догнал и подстегнул коня.
– Чем же я отвечу на твоё добро, брат Мко? – продолжал размышлять вслух Андри. – И нужно ли тут что-то говорить, слова уже ни к чему. Вот придёт осень, тогда-то, знаю, смогу тебя отблагодарить… Я ведь плугарь Андри, я в долгу оставаться не привык… Мне бы только перебиться, семью от голода спасти, а там… я знаю что сделаю…
– Добрый день, браток! – неожиданно донеслось откуда-то снизу.
Андри очнулся от грёз и застыл, обернувшись на голос. Внизу, у родника, увидел человека в белой чухе и сразу понял, что это шорагьялец: только они носят чуху белого цвета, на родине Андри такое считалось стыдным.
Чуть в стороне жена шорагьялца пасла их лошадь, держа в руке конец толстой верёвки. А их малолетняя дочка мыла на берегу личико своего крохотного братца, и его ликующие крики заглушались грохотом горной реки.
Шорагьялец, удивлённый тем, что Андри уставился на них и не спешит ответить на приветствие, снова подал голос:
– Привет, браток! Откуда будешь?
– Тпру! – Андри опять не откликнулся, а вместо этого подозвал коня, успевшего отойти довольно далеко. Усталое животное тут же остановилось и стало щипать придорожную траву.
Увидев, что лошадь спокойно пасётся, Андри сошёл с дороги и начал кричать так громко, точно хотел напугать незнакомца:
– Здравствуй, приятель! Из каких ты краёв?
– Из Вортнава я. Ты-то откуда, куда путь держишь? Бог тебе в помощь! – Вортнавец тоже повысил голос до крика.
– Я из Дсеха. Куда направляешься со всем семейством?
– А на дорогах спокойно?
– Не бойтесь, идите смело! Куда идёте-то?
– Как там Гикор Матнанц из Каринджа? – поинтересовался ширакец вместо ответа.
– Хорошо, слава богу.
– Вот к нему мы и идём.
– Ты их зять, что ли?
– Совершенно верно.
– Так ты Гокор?
– Совершенно верно.
– Эй, приятель, а это наша Назлу?
– Совершенно верно.
Тут Андри прервал разговор, молча удалился, привёл и разнуздал своего коня и, оставив его пастись в густой прибрежной траве, подошёл к путникам.
Два крестьянина поздоровались друг с другом без рукопожатия и – лицом к реке – присели рядом на берегу.
– Ты кем будешь-то, позволь спросить?
– Вряд ли ты меня знаешь.
– А вдруг знаю?
– Меня плугарём Андри называют, слыхал о таком?
– Нет, братец, врать не буду, не слыхал.
– Вот видишь, не слыхал, – заметил Андри с видом победителя и тут же спросил: – У меня в Вортнаве приятель живёт, может, знаешь?
– Знаю, наверное. Кто это?
– Мко Хадаконца знаешь?
– Ещё бы!
– Как он?
Лицо ширакца помрачнело, казалось, он даже рассердился.
– Как может быть земледелец, которому нечего есть? – тяжело выговорил он и, насупившись, устремил немигающий взгляд куда-то далеко.
– Что ты сказал?.. В Шорагьяле нет хлеба? – Ошеломлённый лориец уставился на Гокора, вытаращив глаза. И в эту минуту в них отразилась его душа – тоскующая, возмущённая, обиженная.
– Откуда ж ему взяться? – сокрушённо произнёс ширакец и, помолчав, добавил не глядя на Андри: – Вот, к тестю еду… на пару месяцев, пока… пока, глядишь, господь хоть какую-нибудь дверь для нас приоткроет.
Андри ничего не слышал: потрясённый, он не отрывал взгляд от Гокора. “Встану сейчас и убью его, просто разорву на части, – мелькнуло у него в голове. – Иначе не успокоюсь… Да что он такое говорит!”
– Постой, постой… Не пойму, о чём толкуешь, пропади ты пропадом! – прокричал он, будто очнувшись. – Как это случилось?
– Так и случилось. Хлеба мы мало собрали из-за засухи, а что собрали – продали: покупщикам счёту не было… А зима как нарочно затянулась… вот и остались ни с чем… Собачьи дети, они как будто чуяли, что голод наступает: понаехали и весь хлеб скупили… до последнего – самим не осталось… На деньги мы позарились… Так нам и надо!.. Будем теперь с голоду подыхать…
Оба замолчали. Это было горькое и тягостное молчание: отчаяние всё ближе подступало к их сердцам.
Крестьянина не так-то легко привести в отчаяние. Он бессловесный заложник превратностей жизни и вечная жертва слепых сил природы: непонятная болезнь вдруг подкашивает его скотину, град побивает его ниву, непредвиденный случай сводит на нет его долгие труды… Он снова и снова, подбадривая себя, чинит свой плуг – и снова думает о жизни. И живёт, круглый год грызёт чёрствый хлеб, но даже этот чёрствый хлеб вдруг кончается.
– Куда ж ты теперь подашься? – спросил Андри упавшим голосом.
– Сказал же – к тестю, – так же подавленно ответил Гокор.
– К какому ещё тестю! Твой тесть с мешком под мышкой то в одну дверь стучится, то в другую, а всё равно муко’й разжиться не может… Пойми, у нас там голод, голод!..
– Тише говори… А то услышит, – кивнул Гокор в сторону жены и умолк.
“Куда теперь деться, – думал он, – в какую сторону двинуться с женой да малышами?..”
“Вернуться? – размышлял Андри. – Но что я скажу жене… или голодным детям?.. Они тут же подбегут ко мне…”
– Ой, уже темнеет! – Назлу до этого уже несколько раз вполголоса окликала мужа, хотела напомнить, что пора в дорогу.
Но Гокор боялся обернуться и встретиться с нею глазами. “Что мне ей сказать… Как быть?..”
И два крестьянина сидели и размышляли в долине Заманлу.
– А знаешь что, Гокор? – вдруг встрепенулся лориец.
– Что?
– В нашем селе есть один богач, Егор-ага. Тот ещё сукин сын, и от хлеба у него все амбары ломятся вот в эту самую минуту. Кто наличными платит, с того он за мешок хлеба тридцать рублей берёт, а кто в долг, с того сорок рублей, да ещё в рост даёт: с рубля гривенник в месяц, а то и двугривенный.
– Вот бесстыжий! – возмутился Гокор. – Да кто ж у него купит…
– Я хотя бы. Я и хотел купить, но не дал он, – продолжал Андри. – А знаешь что?..
– Что?
– Ты вообще-то человек лихой?
– Да как тебе сказать, браток… – Обескураженный ширакец не знал что ответить.
– Тут дело такое, – решил подойти с другого боку Андри, видя, что ставит собеседника в тупик.
– Какое?
– Скажи, разве богу нравится, когда у кого-то полно хлеба, а его соседи вот-вот помрут с голоду?
– Да это и людям не нравится, – ответил Гокор. – Потому что беззаконие!
– Нет, погоди, я тебе короче скажу…
– Договаривай, брат Андри, выкладывай, что у тебя на уме, – заметил ширакец, – ничего не бойся, ты меня ещё не знаешь...
– Если дам тебе несколько мешков зерна, отвезёшь в Шорагьял? – решился наконец Андри.
Потускневшие от недоедания глаза Гокора вспыхнули.
– Сколько мешков? – вскричал он обрадовано. – Десять?.. Двадцать?.. Когда дашь?.. Егор-ага…
– Тихо, не шуми! – остановил его Андри. – Не надо чтобы другие знали… Ночью пронесём… вот по этим горам… – и он указал рукой на противоположный склон.
В эту минуту над их головами раздался крик:
– Эй, ребята! Кто вы, эгей!
Собеседники вздрогнули и, обернувшись, увидели какого-то человека: горланя, подпрыгивая, шутливо бранясь, он бегом спускался к ним.
Это неожиданное и странное ликование озадачило крестьян. “Кому может быть так весело, когда вокруг беда, когда грешно даже улыбаться, если ты не полоумный?” – думали они, и как бы подтверждая их подозрения, незнакомец сорвал с головы шапку и, размахивая ею, стал орать как перебравший на пиру гуляка: “Эй-эй!”
Гокор и Андри, глядя то друг на друга, то на незваного гостя, по-прежнему ошарашенно молчали, не понимая как это следует воспринимать.
– Что вы мне дадите за то, что я вам скажу? – вопрошал человек, приближаясь. – Что дадите, сукины дети?..
– Эй, да ты видно сдурел с голодухи, Амбо, чего разорался? – заговорил Андри, узнав наконец пришельца.
– Сам сдурел, тупица, – крикнул Амбо и, подняв с земли довольно увесистый булыжник, швырнул его в их сторону. Гокор и Андри отпрянули, и камень грохоча скатился в реку. Испуганный малец Гокора залился громким плачем. Амбо ненамного отстал от своего камня, он резко остановился перед двумя крестьянами и обратился к ширакцу:
– Что ты потерял в этом ущелье, голодный мужлан, мошенник?.. Душу отдам, братцы, и за вас, и за жён и детишек ваших!.. Как тебя зовут? Сколько тебе лет?..
Побледневший шорагьялец мерил взглядом Амбо, ничего не понимая.
– С этими сумасбродами никакой голод не справится, – покачал головой Андри и начал набивать чубук.
– Да какой там голод, что ты болтаешь!.. Скоро столько зерна придёт в Джалалоглы, что им можно будет все эти ущелья засыпать… Иди, нагружай свою лошадь, увози, ешь до отвала, пока не лопнешь… Нечего каркать!.. Ещё и денег дадут – на кишмиш и на всякое другое…
– О чём речь, можешь толком объяснить, чтобы мы поняли? – наседали Гокор и Андри, сгорая от нетерпения. – Что за зерно, что за деньги, откуда?
– А вы догадайтесь, если вы нормальные люди, догадайтесь откуда.
– Ага, знаю, – вдруг что-то вспомнил Андри, – это, наверное… ну, в том году нас уговорили всё зерно, что было в селе, продать, а деньги увезли и сказали, что вернут, когда голод будет… Да я ведь знал, что вернут…
– Да нет же, нет – нетерпеливо отмахнулся Амбо. – В Тифлисе, Баку, Батуме, Ереване, Петрополе, Стамбуле… короче говоря, там, где есть армяне, узнали, что в наших краях голод, и собрали хлеб, деньги, не помню сколько тысяч туманов, сколько зерна, из головы выскочило, – и присылают, чтобы раздать крестьянам в тех местах, где голод.
– Слава тебе, господи, что думаешь о простых людях, заботишься о хлебопашцах… – бормотал под нос ширакец, в то время как Андри продолжал жадно расспрашивать Амбо.
– Если ты про ту газету говоришь, которую наш дьячок Петрос в Джалалоглы читал, так то пустое дело, в газетах одно враньё…
– Нет, парень, нет, наш Вардан только что из Тифлиса приехал, всё своими глазами видел… Фургоны уже в дороге, не сегодня-завтра будут в Джалалоглы.
– Дай бог им здоровья! – растроганно воскликнули Гокор и Андри.
– Это ещё только из Тифлиса, – продолжал Амбо с воодушевлением, – за ними из Баку придут, потом из Батума, Еревана, Эчмиадзина, Шуши, Шемахи, Нухи, Москвы…
Забывшие о голоде и прочих бедах крестьяне слушали, затаив дыхание, и с названием каждого очередного города словно становились выше.
– Значит, точно будет хлеб, точно! – закричали они как пьяные, едва Амбо кончил говорить. И стали самозабвенно молиться за успех своих богатых братьев и благословлять их всеми благословениями, какие знали.
А когда снова собрались в дорогу, Андри подошёл к Гокору и шепнул: “То дело, о котором я говорил, пусть останется между нами… в землю зарой и камнем придави, чтобы никто не узнал… Не надо нам больше поганого зерна Егора-аги… Проклятье сатане…”
В большом селении К. жил добрый человек по имени Симон. Он никогда не вмешивался в мирские дела, так как знал, что его голос все равно не будет иметь никакого значения: его не захотят даже выслушать.
Вое богатство Симона составляли бурая корова и молодая, красивая жена. Она редко подходила к своим богатым соседкам: видела, что это им не нравится. Да, собственно, она и не нуждалась ни в ком.
Во время полевых работ Симон входил в соглашение с кем-нибудь из крестьян, имеющих рабочую скотину, и вместе с его землею обрабатывал также свою. Иногда он занимался плотничеством или ловил рыбу в ближайшей речке и вообще ни от какой работы не отказывался. Поэтому он не был ни хорошим плотником, ни каменщиком, ни рыбаком... На одно только он был мастер – на остроты и шутки всякого рода. У него был нескончаемый запас веселых и остроумных анекдотов, которыми он охотно угощал своих слушателей. Но и это приписывали его глупости, и слово «чудак» было его постоянным эпитетом.
– Раз как-то в одной деревне я строил стену, – рассказывал он из своей жизни. – Кончил работу и прошу, чтобы расплатились со мной. Пришли, посмотрели стену и говорят: «Вот что, братец, поспи-ка ты сегодня у этой стены, а завтра получишь за свою работу, хочешь – даже вдвойне, и отправишься себе с богом...».
Я, конечно, не согласился: ха, ха, ха... полагал, что рано еще отправляться на тот свет. Оставил все и удрал...
Но ведь не все же ставили Симону такие условия. Многие за его веселый нрав платили ему даже больше, чем следовало...
Это было маленькое семейное счастье, которым они были обязаны только своей нежной взаимной любви. Но люди и этому стали завидовать.
– Удивительная вещь! – рассуждали между собой крестьяне. – У нас есть свое хозяйство, лавка, торговля, вдобавок с утра до вечера работаем не покладая рук – и все-таки насилу удается сводить концы с концами. Как же это он живет вечно беспечный, веселый?!
Так удивлялись и завидовали Симону его соседи и все ж таки называли его чудаком.
– Неужели и с чудаком Симоном не можешь сравниться? – упрекали жены своих мужей, – каждый год он делает два-три новых платья своей бездельнице... никогда ее не увидишь без обуви.
– Ну, зато она у него красавица, не то, что ты, – полушутя, полусерьезно замечали на это мужья.
И в самом деле, красота этой женщины была небесным даром, ниспосланным в удел бедняку. То была душистая, пышная лилия, растущая нередко где-нибудь в заброшенном месте, в колючках или под кустиком. Приветливо улыбаясь из своего уголка, она и не подозревает, конечно, что одуванчик красуется на живописном берегу горного ручья, или что колокольчик, растущий в барском цветнике, окружен нежными попечениями хозяев. Ему нужно лишь немного света, маленький солнечный луч...
Я забыл имя этой красавицы, но сельская молодежь прозвала ее «лакомым кусочком».