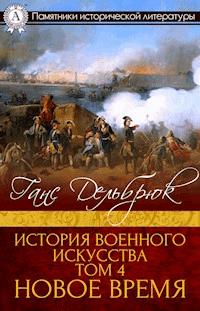
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
«Памятники исторической литературы» - новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого. В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей. Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории. Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок. «История военного искусства Том 4. Новое время» - книга, принадлежащая перу выдающегося немецкого историка Ганса Дельбрюка (1848-1929). Последний том работы Дельбрюка посвящен таким важнейшим изобретениям человечества, как мушкет и порох, а также ручному огнестрельному оружию, тактическому гению Макиавелли и революционным бунтам с его первопричинами и следствиями вплоть до эпохи Наполеона.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 827
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ганс Дельбрюк
Истории военного искусства
Том 4
Новое время
«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.
В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей. Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.
Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.
«История военного искусства Том 4. Новое время» — книга, принадлежащая перу выдающегося немецкого историка Ганса Дельбрюка (1848–1929).
Последний том работы Дельбрюка посвящен таким важнейшим изобретениям человечества, как мушкет и порох, а также ручному огнестрельному оружию, тактическому гению Макиавелли и революционным бунтам с его первопричинами и следствиями вплоть до эпохи Наполеона.
От Издателя
«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.
В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.
Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.
Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок. Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей — вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».
Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.
Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.
От Автора
Настоящий том «Истории военного искусства» появляется в свет в том самом году, в котором закончилась величайшая из всех войн. Уже в 1914 г. в отношении предварительных исследований он был почти завершен и в большей своей части обработан.
Но внешняя гроза, вместо того чтобы, как можно было предполагать, побудить меня к выполнению именно этой задачи — разработки этой темы, напротив — отвлекла меня, и я прервал работу с тем, чтобы в заключение довести ее до конца, не перекидывая моста между нею и современностью. Если я говорю в этой книге об условиях нашего времени, то разумею я под этим условия, предшествовавшие мировой войне, т. е. то время, когда я писал эти строки, иногда же условия того времени, когда мне лично пришлось познакомиться с военным делом (я был рядовым в 1867 г. и вышел в отставку в 1885 г. премьер-лейтенантом запаса).
Первоначально, правда, я подумывал о том, чтобы довести мой труд до войн за объединение Германии и изобразить дальнейшее развитие наполеоновской стратегии в стратегию Мольтке. Однако я отказался от этой мысли, ибо она неизбежно привела бы меня к проблемам мировой войны, которые еще не совсем созрели для научной обработки их в духе настоящего сочинения. Я не хочу этим сказать, что я вовсе не решался касаться современности, но явления нашего времени нельзя рассматривать в той систематической и законченной форме, какой требует сочинение, подобное ныне выпускаемому.
Поэтому мой труд обрывается на Наполеоне и его современниках. Продолжение же его до наших дней уже имеется, хотя и в иной форме. То, что я хотел и мог сказать о явлениях военной истории второй половины XIX столетия, в частности о стратегии Мольтке, и, наконец, о явлениях мировой войны, изложено мною в отдельных монографиях и в сборнике «Война и политика», 1914–1918 гг. (три тома), выпускаемом мною одновременно с этой книгой. Статьи о Мольтке помещены в сборнике «Воспоминания, монографии и речи», дополненном статьею о сочинении Кеммера «Развитие стратегической науки в XIX столетии», помещенной в «Прусском ежегоднике», (1904, т. 115, стр. 347). Здесь в согласии с Шлихтингом я подробнее изложил и обосновал как технически, так и психологически новую мысль Мольтке о стратегическом наступлении по двум фронтам, мысль, которую фон Шлифен впоследствии развил в идею двустороннего охвата на основах моего анализа битвы при Каннах, а это служит переходом к тем моим стратегическим соображениям, которые я излагал в связи с событиями мировой войны.
По самой природе вещей, при рассмотрении явлений современности я имел возможность совершенно отодвинуть на второй план техническую сторону военного дела, тактики и вооружения не потому чтобы она в наше время имела меньше значения, чем в прежние времена, — наоборот, развитие техники шло ускоренным и усиленным темпом, — но потому, что по своему существу и значению роль ее настолько ясна, что дальнейшего исследования она не требует, к тому же имеется налицо богатая литература по этому предмету, так что я мог довольствоваться лишь установлением практических результатов. Я тем более мог ограничиться самым необходимым, что многоценный труд Макса Иенса «История военных наук» дает прекрасно систематизированный материал всякому желающему более подробно ознакомиться с этим предметом.
Благодаря такому ограничению технической стороны, я, как надеюсь, имел тем большую возможность пластически разработать и выявить основную мысль моего сочинения — связь между государственным устройством, тактикой и стратегией — «Историю военного искусства в рамках политической истории», как гласит само заглавие. Взаимодействие тактики и стратегии, с одной стороны, и государственного устройства и политики — с другой, проливает яркий свет на последовательное развитие всемирной истории и освещает много таких сторон, которые до того оставались в тени или неправильно понимались. Настоящее сочинение написано не только ради военного искусства, но и ради всемирной истории. Если его будут читать военные, если оно натолкнет их на новые мысли, то это меня порадует и будет для меня великой честью, но написано оно историком для любителей истории. Я не стану возражать даже против того, если этот труд, трактующий о войне исключительно в рамках политической истории, все же зачислят в категорию сочинений по истории культуры. Ибо военное искусство — такое же искусство, как и живопись, зодчество или педагогика, а вся культурная жизнь народов в высокой мере определяется их военной организацией, связанной, в свою очередь, с техникой войны, тактикой и стратегией.
Все находится во взаимодействии: дух эпохи проявляется в ее многообразных единичных явлениях, и познание каждого отдельного явления — в данном случае военного искусства — содействует познанию развития человечества в целом. Нет ни одной эпохи всемирной истории, которая в основе своей не была бы затронута выводами настоящего сочинения. Однако не без труда и даже не без борьбы удалось добиться признания мысли о возможности на этом пути чего-либо достигнуть. Даже Леопольд Ранке решительно это отверг, когда я однажды изложил ему мой план; факультет, в состав которого я теперь имею честь входить, затруднялся предоставить мне ученую степень, ибо военное дело не составляет предмета университетского преподавания; Теодор Моммзен, столь глубоко проникший в древнюю и особенно римскую историю, когда я поднес ему первый том моего сочинения, благодаря меня за это, заявил, что едва ли ему дозволит время прочитать эту книгу. А так как, с другой стороны, и Генеральный штаб был против меня, то всякий согласится, что борьба мне предстояла нелегкая. Ни один из моих учеников, известный как таковой, не мог рассчитывать на место преподавателя в военной академии, а историки, убедившись в ценности результатов моих исследований, все же из осторожности избегали об этом громко заявлять. От других же вплоть до последнего времени мне даже не удалось добиться, как будет показано ниже, чтобы они хотя бы правильно передавали мою концепцию. Новым идеям приходится преодолевать не только упорное сопротивление традиционных взглядов, но и почти не поддающееся разъяснению неправильное понимание их.
Подобно тому как при выпуске первого тома моего сочинения я должен был в своем первом предисловии назвать творение Юлиуса Белоха «Население греко-римского мира» как труд, долженствовавший непременно предшествовать моей книге, так и теперь я не могу не назвать другое сочинение, которое представляет как необходимую предварительную работу, так и ценнейшее добавление к настоящему тому. Я говорю о книге Мартина Гобома «Возрождение военного искусства Макиавелли». Я имел возможность включить в свою работу выводы этого столь же ученого, сколь блестяще написанного труда; доктор Гобом оказал мне и в дальнейшем неоценимую поддержку, подбирая необходимые материалы для продолжения моих исследований.
Далее я выражаю глубокую признательность доктору Зигфриду Метте, помогавшему мне при ведении корректуры и составлении алфавитного указателя к настоящему тому.
Ганс Дельбрюк
Берлин, Грюнвальд, 7 августа 1919 г.
Часть первая
ВОЕННОЕ ИСКУССТВО В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава I. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕХОТЫ В ЕВРОПЕ
Поразительная сила швейцарского воинства опиралась на массовое действие крупных сомкнутых колонн, в которых каждый отдельный солдат был полон уверенности в своих силах, питаемой двухсотлетней традицией непрерывных побед. Охватывавший весь народ воинственный дух давал возможность вести в бой толпу, а массовое построение, в свою очередь, одерживало перевес над любой индивидуальной доблестью прежних профессиональных воинов. В сражении под Нанси это массовое швейцарское воинство впервые вышло за пределы своих гор, которые до тех пор являлись столь сильными союзниками в их прежних боях. Уже в войне, решенной сражениями под Грансоном и Муртеном, швейцарцы сражались скорее в интересах французского короля, чем в интересах собственной страны; в дальнейшем их военная сила начала работать далеко от родины на службе чужим интересам. Хотя бы поэтому этот небольшой осколок одного из германских племен стал оказывать существенное влияние на историю; но еще гораздо более значительным оказалось это влияние, когда и другие народы, убедившись в превосходстве швейцарской военной организации, начали ей подражать.
Уже давно наряду с тяжелой, одетой в латы кавалерией вступали в бой не только стрелки, но и вооруженные холодным оружием пехотинцы, оказывавшие рыцарям поддержку в бою. Шаг вперед, который надо было сделать, и реформа, которую надо было провести, заключались в том, чтобы значительно увеличить численность этих пехотинцев, служивших до сих пор лишь вспомогательным родом войск, и сплотить их в одну сомкнутую колонну. Полным успехом увенчалась эта реформа только у двух народов: у немцев и испанцев. Хотя мы и встречаем попытки к тому у французов и итальянцев, но полного развития у них эта реформа или вовсе не достигла, или достигла лишь позднее. Несомненно, это различие весьма знаменательно, и его придется подробнее рассмотреть в дальнейшем. Но, прежде всего, приступим к выяснению первого положительного явления нового времени, которое имело в Германии.
НИДЕРЛАНДЦЫ И СРАЖЕНИЕ ПРИ ГИНЕГАТЕ[1] 7 августа 1479 г.
Первое сражение, в котором был применен швейцарский метод ведения боя нешвейцарцами, было сражение при Гинегате, в котором через 2,5 года после битвы под Нанси эрцгерцог Максимилиан, зять Карла Смелого, одержал победу над французскими войсками; следовательно, как раз те самые бургундцы, которые на себе так сильно испытали превосходство швейцарских методов, первые с успехом попытались сами применить это тактическое искусство.
Максимилиан осаждал небольшую пограничную крепость Теруан, на выручку которой подходила с юга под начальством де Корда французская армия. С целью отбросить последнюю Максимилиан выступил ей навстречу. Французское войско состояло, по тогдашнему обыкновению, из рыцарей и стрелков; наряду со стрелками ордонансовых рот, распределенными по отдельным рыцарям, имелись также многочисленные стрелки-ополченцы (francs archers). В обоих этих родах войск Максимилиан значительно уступал своему противнику; зато у него было не менее 11 000 пехотинцев, вооруженных холодным оружием — пиками и алебардами, которых ему привел Жан Дадизеел, гентский бальи и генерал-капитан Фландрии. Максимилиану было всего лишь 20 лет, и к тому же ему недоставало опытности и авторитета в стране, принадлежавшей его жене, а они были необходимы, чтобы создать здесь новую военную организацию. Но у него в войске был граф де Ромон, владения которого были расположены на берегу Невшательского озера, в ближайшем соседстве с Берном и Фрайбургом. Состоя на службе у бургундского герцога, граф де Ромон принимал участие в битвах против швейцарцев. Весьма неохотно выступал он против них в качестве врага. Никто лучше его не знал швейцарцев и в мирное время, и на войне. Вот этот-то швейцарский граф, согласно источникам, и построил фламандских солдат по швейцарской системе. Надо полагать, что он же и посоветовал своему новому государю собрать возможно большее количество таких пехотинцев. Надо сказать, что нигде в мире нельзя было найти лучшего материала для такого нового творчества, как именно в бургундских Нидерландах. Ведь именно здесь уже раньше обнаружилась военная организация, совершенно однородная с швейцарской, — когда возмутившиеся фландрийские города разбили французское рыцарство в битве при Куртре (1302 г.). Под Розебеком (1382 г.) это воинство было снова разгромлено, ибо на фландрийской равнине в бою в рыцарством у него недоставало тех местных опорных пунктов, какие швейцарцам предоставляли их горы. Все же в этой стране сохранились в значительной мере и человеческий материал для военного строительства, и военный дух; ведь и войска Карла Смелого в значительной мере состояли из нидерландцев, а швейцарский пример дал ту форму, в которой с новым успехом мог проявиться этот воинственный дух.
В общем, бургундское войско превосходило французское на несколько тысяч человек, даже если причислить к последнему гарнизон Теруана в 4 000 человек, который во время сражения угрожал тылу бургундцев.
Оба войска построили свою кавалерию на флангах, а в центре — пехоту, которая состояла на одной стороне из стрелков и преимущественно из пикинеров на другой. Бургундские пикинеры были разделены на две крупные, глубокие колонны, одной из которых командовал граф Энгельберт Нассауский, сражавшийся под начальством Карла Смелого под Нанси, а другой — граф де Ромон, а в ряды последней колонны стал вместе с группой дворян[2] сам Максимилиан с пикой в руках, вместо того чтобы по рыцарской традиции сражаться в строю рыцарей.
Максимилиан в своих мемуарах рассказывает, что прибыв молодым человеком в Нидерланды, он велел изготовить длинные пики и обучал владению этим оружием. Пехота, следовательно, вырабатывалась, так сказать, систематически: длинные пики, вступление в ее ряды дворян и учения. Стремление придать устойчивость и прочность колонне пехоты посредством включения в нее дворян, сражавшихся, конечно, в первых рядах, представляет прием, с которым мы не раз встречаемся в конце средних веков. Однако различие, и притом весьма существенное, заключается в том, что теперь дворяне сами берутся за длинную пику — оружие пехотного солдата, и не только сражаются в первых рядах пехоты, но сливаются с нею в одну целостную, тактическую единицу. «Самые благородные люди, — сообщает нам «Преславная хроника», — граф де Ромон и сам герцог (Максимилиан) стояли среди простых солдат и сражались пиками».
Де Корду удалось опрокинуть на своем правом фланге бургундских рыцарей, прикрывавших отряд пехоты, и захватить поставленные там бургундские пушки. О бургундских довольно многочисленных стрелках вовсе не упоминается в описании битвы; по всей вероятности, уступая превосходству французских стрелков, они либо бежали, либо втиснулись в ряды колонн пикинеров.
Победа французских рыцарей дала возможность де Корду атаковать с фланга левую колонну бургундских пикинеров, предводимую герцогом Нассауским. Этим он заставил ее остановиться; эта колонна, будучи подвергнута обстрелу со стороны французских стрелков как с фронта, так и с фланга, при поддержке огня отнятой у бургундцев артиллерии, оказалась в крайне тяжелом положении, хотя большинство победоносных французских рыцарей бросилось преследовать бегущую бургундскую кавалерию, не приняв тем самым участия в завязавшемся бою пехоты.
Если бы ход сражения принял такой же оборот и на другом фланге, то бургундцы были бы разбиты. Однако здесь было сосредоточено большинство бургундского рыцарства; оно выдержало натиск французов и не допустило их до фланга своих пикинеров. Таким образом, колонна де Ромона продолжала движение вперед и обратила в бегство французских стрелков, что разгрузило и освободило другую колонну от наседавших на нее французов; Это и решило исход сражения.
Мы не располагаем таким описанием этой битвы современниками, в котором дословно было бы сказано, что гинегатские пехотные колонны представляли воспроизведение швейцарской тактики. В частности, об этом не упоминается ни в одной из четырех реляций этого сражения, или составленных самим Максимилианом, или могущих быть ему приписанными. Как «то ни странно на первый взгляд, однако ведь нередко бывает, что современники не отдают себе отчета в моменте принципиального переворота, и лишь потомство познает все значение этого момента. Ведь в военной истории древности, например, мы видим, что о такой существенной реформе, как о введении линейного боевого порядка во время второй Пунической войны, в современных источниках мы вовсе не встречаем прямого упоминания. Тем не менее как там, так и здесь факт не подлежит ни малейшему сомнению. И Дадизеел, и Молине, и де Бют, и Базен сходятся на том, что фламандская пехота решила исход сражения. «Dux Maximilianus, — пишет де Бют, — cum picariis fortiter instabat, ut equitatus Francorum qui ab utraque parte cum aliis suis obpugnare quaerebat eundem non posset in eum praevalere».[3] Еще более наглядную картину рисует Базен, говоря, что фламандская пехота своими длинными пиками отражала натиск неприятельской конницы. «Nam ipsi Flamingi pedites cum suis longis contis praeacutis ferramentis communitis, quos vulgo piken appellant, hostium equites, ne intra se se immitterent viriliter arcebant».[4]
Однако в этом случае не надо забывать, что победе способствовало то обстоятельство, что фланг по крайней мере одной из колонн копейщиков прикрывало рыцарство. Без этого фламандская пехота легко могла проиграть сражение, как то некогда и произошло в битве под Розебеком.
Доныне остается невыясненным, почему эта победа не повлекла за собою падения Теруана и почему Максимилиан отказался продолжать поход и распустил свое войско. Не будь победа подтверждена столькими надежными свидетельствами, пришлось бы в ней усомниться, судя по таким результатам сражения. Говорят, что фламандцы не хотели больше служить; по всей вероятности, здесь сыграл свою роль старый антагонизм между государем и сословиями; нидерландцы боялись собственного властителя Максимилиана не менее чем французов и не хотели, чтобы он, пожав плоды своей победы, сделался слишком могущественным. Может быть, и казна Максимилиана была настолько пуста, что он не мог собрать необходимой суммы для выплаты жалования даже такому небольшому войску, какое было еще нужно для продолжения осады.
Поэтому с политической точки зрения битва при Гинегате не имела никакого значения; с военной же точки зрения она представляет собою поворотный пункт. Банды нидерландской пехоты, которые в следующем поколении играли такую значительную роль, по-видимому, имели своими родоначальниками победителей при Гинегате, а для французов их поражение послужило толчком для реформы их военной организации, реформы, отразившейся, пожалуй, и на Испании. Но прежде всего эта нидерландская пехота явилась предтечей ландскнехтов.
ЛАНДСКНЕХТЫ[5]
Победитель не пожал никаких плодов от победы при Гинегате, ибо он не сохранил своего войска после победы; и вскоре Максимилиан, правивший страной сначала как супруг законной государыни, а после ее смерти — как опекун ее сына Филиппа оказался в открытой борьбе с сословиями. Чтобы устоять в ней, ему пришлось вместо городской милиции обзавестись другим войском.
Он стал набирать пехотинцев из всевозможных стран, даже из тех же Нидерландов, — с Рейна, из Верхней Германии, из Швейцарии. Вот этих-то солдат между 1482 и 1486 гг. и назвали ландскнехтами.
Почему именно их назвали ландскнехтами (provinciae servi, patriae ministri, compagnons du pays)?[6] Почему их не назвали пехотинцами (Fussknechte), наемниками (Soldknechte), солдатами (Kriegsknechte) или другим каким-либо комбинированным наименованием? Это название сохранялось приблизительно целое столетие, вплоть до Тридцатилетней войны; затем оно исчезло, ибо свободный, меняющий поле своей деятельности наемный солдат начинает вступать в более длительные, прочные отношения с каким-либо государством или полководцем, и по нему и стал получать свое наименование.
Много толкований было предложено для объяснения этого названия, которые все, однако, не выдерживают критики. Оно не означает «воинов собственной страны», в противоположность швейцарцам, ибо они служили вместе с последними под одними знаменами и в одних и тех же отрядах. Оно не означает и «воинов равнины», в противоположность швейцарцам — воинам горной страны. Не означает оно и «солдат для защиты страны», «солдат, служащих стране». Оно не означает «солдат, выставленных не сословиями, а вербуемых по всей стране». Не означает оно и «солдат из одной и той же земли», т. е. «земляков». Слово это не является производным от немецкого слова Lanze, ибо оружие, которое носили ландскнехты, называлось Spiess или Pike (пикой).[7]
Слово Landknecht встречается в XV столетии как в верхнегерманском, так и в нижнегерманском наречии и означает полицейского, судебного пристава, судебного рассыльного, конного или пешего жандарма, выполняющего также военные функции.
Так, Иоганн фон Посилге рассказывает в своей хронике, написанной в 1417 г., что прусский замок Бассингайен был изменнически сдан польскому королю «несколькими ландскнехтами». Года, в которые это название получило в Нидерландах свое специфическое значение, это — 1482 г. по 1486 г., когда Максимилиан был в мире с Францией, а воевал со своими сословиями, стремившимися отнять у него опеку над его малолетним сыном Филиппом. Сословия именно и хотели добиться роспуска наемных солдат, которых Максимилиан набирал все в возрастающем количестве и которые, желая получить свою плату, притесняли страну. К чему эти наемные солдаты? Ведь был мир! Вот поэтому-то Максимилиан и дал им, вероятно, это безобидное название «ландскнехтов», обозначавшее до тех пор не столько солдата, сколько полицейского.
Процесс развития привел Максимилиана к тому, что он дал своей пестрой ватаге наемников военное воспитание в тактических формах, созданных швейцарцами, следуя примеру коих, городские милиции Нидерландов уже одержали победу при Гинегате. Лучшим воспитательным средством было не то, или, по крайней мере, не главным образом то, что в наемные отряды было включено известное число швейцарцев, а то, что сам герцог взял в руки пику и побудил своих дворян войти в ряды пехотных солдат, дабы таким братанием поднять самосознание солдат и вдохнуть в них сохраненную рыцарской традицией воинственность.
Впоследствии летописцы рассказывали, будто император Максимилиан учредил орден ландскнехтов; это означает, что на ландскнехтов в новых боевых строях, имевших определенную внешность, уже стали смотреть не как на вспомогательный род войска и что в них развился особый цеховой или корпоративный дух, который придал им характер чего-то нового, существенным образом отличного от прежних наемников.
Из первых, наиболее знаменитых предводителей ландскнехтов укажем на Мартина Шварца, который, будучи по происхождению нюрнбергским сапожником, был посвящен в рыцари за свою храбрость и объединил под своим начальством швабов и швейцарцев; его «веннером», или прапорщиком, был известный Ганс Кутлер, швейцарец из Берна.
Первое достоверное упоминание об этом новом явлении под этим новым наименованием, примененным в этом смысле, мы встречаем в протоколе заседания представителей швейцарской федерации в Цюрихе 1 октября 1486 г., на котором раздавались сетования на приемы вербовки одного швабского рыцаря, состоявшего на службе у Максимилиана, некоего Конрада Гэшуффа, который произносил обидные речи, похваляясь, что он так обучит и снарядит швабских и других ландскнехтов, что любой из них будет стоить двух швейцарцев.
Из этого документа мы можем заключить, что осенью 1486 г. термин «ландскнехт» представлял уже определенно установившееся понятие, что ландскнехт подготовлялся обучением к своей профессии и что ландскнехт и швейцарец представлялись как нечто отличное друг от друга и даже друг другу противопоставлялись.
Еще 10 лет тому назад немецкого наемного солдата ни во что не ставили. Когда Рене Лотарингский захотел в 1476 г. снова завоевать свое герцогство при помощи верхнерейнских наемников, они не оправдали его расчетов и бежали при Понт-а-Мусоне от бургундцев. Пришлось обратиться к швейцарцам, и колонны под Нанси были составлены из швейцарцев и швабов вперемежку. Но швейцарцы настолько сознавали свое превосходство, что презрительно обходились с немцами и требовали во время этих походов почти всю добычу для себя одних.
Когда ландскнехты систематическим обучением были доведены до ступени боеспособности, внушавшей им уже известную уверенность в себе, швейцарцы отделились от их корпорации; с этой минуты учителя и ученики начинают ревниво глядеть друг на друга, и между ними возникает антагонизм. Швейцарцы, гордясь традициями славных побед своего прошлого, хотят сохранить за собою первенство ни с кем не сравнимых воинов; а ландскнехтам их вожди говорят, что они могут сравняться с швейцарцами, и они сами начинают проникаться этим убеждением. Из Нидерландов сомкнутые банды отправляются в Англию, в Савойю. Под знаменами герцога Сигизмунда Тирольского, с Фридрихом Капеллером во главе, они одерживают победу над венецианскими кондотьерами в битве под Каллиано (10 августа 1487 г.). Сначала у Сигизмунда были и швейцарские наемники, но вместо того чтобы, как это прежде бывало, с пренебрежением глядеть на своих соратников, швейцарские командиры теперь сообщают на родину, что ландскнехты им грозят и что они даже боятся за свою жизнь.
Когда в 1488 г. имперское войско выступило против Нидерландов, чтобы помочь Максимилиану в его борьбе с сословиями, одно время захватившими его в плен, на сбор к Кёльну явился и отряд швейцарцев, однако их не захотели принять из-за ландскнехтов во избежание раздоров, и швейцарцы возвратились восвояси.
Два года спустя, в 1490 г., мы снова встречаем швейцарцев и ландскнехтов под одними знаменами во время похода Максимилиана против венгерцев. Сент-галленский летописец Ватт сообщает: «В этом отряде среди ландскнехтов было много швейцарцев, между прочим, некоторые из наших сент-галленцев». Таким образом, им не раз пришлось служить вместе. Лишь после этого похода, во время которого был взят штурмом Штулвейссенбург, это новое явление, по-видимому, привлекло всеобщее внимание, так что летописец нашел нужным присоединить к термину «ландскнехт» несколько слов пояснения или истолкования.
В народной песне с определенной датой слово «ландскнехт» встречается в первый раз в 1495 г.: «В стране — не один ландскнехт…»
Ландскнехты — это наемные солдаты, с какими мы познакомились еще в XI столетии. В XV веке мы встречаемся с различными для них наименованиями, как, например, «козлы» и «драбанты». Вся разница в том, что они уже не представляют индивидуальных воинов, но образуют сомкнутые тактические единицы и уже приучены к тому, чтобы обретать и осознавать свою силу именно в этой сомкнутости, в этой сплоченности. Внешней сплоченности соответствует и внутренняя — новый корпоративный профессиональный дух. Тем, чем были для швейцарцев, служивших образцом, землячества и их военные традиции, тем для этих вольных наемных банд являлось военное воспитание, передававшееся от одного солдата к другому в самих бандах, раз они уже были сформированы.
В первый раз в мировой военной истории мы встречаем тактическую единицу в лице спартанской фаланги, по поводу которой, противопоставляя ее индивидуальному бойцу, Демарат говорит с похвалою царю Ксерксу, что спартанцы не храбрее других людей, но что сила их, собственно, заключается в том, что закон им повелевает, сохраняя свое место в ряду и шеренге, или победить, или умереть.
Хотя банды в Нижней Германии и организовывались постоянно, однако название ландскнехтов прочно установилось за верхнегерманцами, швабами и баварцами, видимо, по той причине, что, с одной стороны, близкая Швейцария представляла соблазнительный пример и влекла к военной профессии, а с другой — что именно здесь находились наследственные владения Максимилиана, а потому отсюда особенно охотно стекались под его знамена рекруты. Земляческие подразделения и группировки были естественны, особенно вначале, и наиболее мощная группа — швабская — наложила на все свою характерную печать. Lanczknechti et Hollandrini — говорит в одном месте своей автобиографии Максимилиан и приравнивает в другом месте Lanczknechti к alti alimany (верхнегерманцам). И «голандрини» продолжали существовать; в 1494 г. они появляются в итальянских походах Карла VIII под названием «гельденерцев» наряду с швейцарцами и, по всей вероятности, погибли в битве при Павии в 1525 г. под названием «черной банды».
Из сетований швейцарцев на Конрада Гэшуффа мы могли заключить, что происходило форменное обучение ландскнехтов. Мы находим этому подтверждение в описании военного учения, организованного на рынке города Брюгге 30 января 1488 г. графом Фридрихом Цоллерном. Мы располагаем несколькими описаниями этого события, которые не вполне совпадают друг с другом, а именно относительно того, кого именно обучали. По одной версии, это были немецкие дворяне из свиты Максимилиана, по другой — немецкие пехотные солдаты, по третьей — нидерландцы, которых обучали немцы. Как бы то ни было, оружием этого отряда была длинная пика: «Вот раздается команда построить «улитку» (faisons le limacon а la mode (d'Allemagne))[8], затем следует команда «Пики на перевес» («Chacun avalle sa pique!»), причем раздается боевой клич «ста, ста!» Собравшимся на площади гражданам показалось, что кричат «сла, сла», и они в перепуге разбежались, ожидая нечаянного нападения».
Под «улиткой», несомненно, надо понимать какой-то правильный маневр, при помощи которого из походной колонны перестраивались в боевую колонну, и наоборот. Это, конечно, само собою не делается, и этому надо обучиться, что можно сделать различным образом. Этот маневр ничего общего не имеет с более поздним маневром стрелков, тоже называемым «улиткой» (limacon, caracole).
Применение длинной пики не так просто, как это может казаться.[9] Швейцарец Мюллер-Гиклер, который упражнялся с пикой, пишет по этому поводу следующее: «…Самое неудобное было то, что древко при этом вибрирует. Сам я при фехтовании длинной пикой испытал, что попасть ею в намеченную цель невозможно вследствие того, что острие при сильном ударе очень дрожит и колеблется; особенно наблюдается это при сильном выпаде, когда используют всю длину пики и наносят удар вытянутой вперед правой рукой. Для того чтобы нанести излюбленный удар — в шею или в живот — одетому в латы наемнику так, чтобы удар пришелся в промежуток между латами, требуется верный, наносимый после выжидания удобного случая, относительно медленный удар».[10]
Вместо длинной пики многие ландскнехты были вооружены огромными мечами, которые в бою приходилось держать обеими руками. Однако это оружие существенной роли не играло. По этому поводу Бегейм справедливо замечает, что этими мечами были вооружены единичные солдаты, обладавшие исключительной силой, предназначенные специально для охраны знамени, а впоследствии — командира полка.
Бой с применением этого оружия был систематически разработан; в действительности же парадеры-голиафы, носившие это оружие, имели не больше значения, чем исполины-тамбурмажоры наполеоновской армии.
Мы постоянно встречаем в источниках похвальные отзывы о порядке, в каком маршировали солдаты. Упоминают роты, построенные в 4, 5 и 8 рядов в ширину. Ни о чем подобном мы не находим упоминания в средневековых источниках.
Осенью 1495 г. 10 000 немцев выступили на помощь миланскому герцогу Лодовико Моро, осаждавшему в Новаре герцога Орлеанского. Врач Алессандро Бенедетти оставил подробное описание одного парада, принятого герцогом близ Новары в присутствии его супруги. «Все взоры, — пишет он, — были устремлены при этом на фалангу немцев, представлявших квадратную колонну из 6 000 человек, под предводительством Георга Эберштейна (Волкенштейна), ехавшего на великолепном коне. По немецкому обычаю, из рядов этого отряда раздавался оглушительный бой множества барабанов, от которого готова была лопнуть барабанная перепонка в ушах. С одним лишь нагрудным панцирем шли они с небольшими промежутками между шеренгами. Передние ряды имели длинные пики, опущенные острием вперед, следующие несли пики острием вверх, за ними следовали воины, вооруженные алебардами и двуручными мечами; с ними шли знаменосцы, по знаку которых весь отряд двигался вправо, влево, назад, словно его везли на плоту. Далее шли аркебузиры, а справа и слева — вооруженные арбалетами. Поравнявшись с герцогиней Беатрисой, колонна по знаку перестроилась в клин (т. е. широкое построение превратилось в узкое или пространственный квадрат в квадрат людской), затем она разбилась на крылья; наконец, вся масса сделала захождение, причем часть двигалась медленно, а часть — чрезвычайно быстро, так что один фланг обернулся вокруг другого, который оставался на месте, словно все они составляли одно тело».[11]
Наряду с обучением военному строю особое значение имело для подготовки ландскнехтов участие дворян. То и дело мы читаем в хрониках, что они с пикою в руке становятся в ряды пехоты. В одной стычке, под Бетюном, немцы потерпели поражение от французов (1486 г.). Герцог Адольф Гельдернский и граф Энгельберт Нассауский стали в ряды пехоты, говоря, что они хотят с нею жить и умереть; по словам летописца, «они пролили свою кровь, защищая пехотинцев» (pour la protection des prntons).
Случай поясняет нам значение этого.
Когда император Максимилиан осаждал в 1509 г. Падую и ландскнехты должны были идти на штурм, они потребовали, чтобы в нем приняли участие и дворяне. Но на это Баярд сказал: «Неужели мы станем в ряды и пойдем навстречу опасности с сапожниками и портными?» А немецкие рыцари заявили, что они выступили в поход, чтобы сражаться в конном строю, а не для штурма. Это заставило императора снять осаду.
Первое крупное столкновение в бою между швейцарцами и ландскнехтами произошло во время швабской войны в 1499 г. На этот раз победа еще осталась за старейшим швейцарским воинством, крепким воспоминаниями о старых успехах и долголетним опытом. Швабы терпят поражение под Гардом, под Брудергольцем, под Швадерловом, под Фрастенцом, на Кальвене, под Дорнохом. Несмотря на это, во время мирных переговоров Максимилиан выставляет самые притязательные условия, и по мирному договору швейцарцы почти никаких положительных выгод не получили и даже кое-что уступили. Правда, заключение мира ускорило то, что тем временем Людовик XII занял Милан.
ФРАНЦУЗЫ, ИСПАНЦЫ И ИТАЛЬЯНЦЫ
Военная организация Франции в XV веке опиралась на ордонансовые роты и на вольных стрелков. После того как последние так плохо показали себя при Гинегате, Людовик XI хотел переформировать их в пехоту по швейцарскому образцу. Он заменил у них луки длинными пиками и алебардами и собрал их, числом свыше 10 000 человек, для обучения в лагерь под Геденом в Пикардии, а на следующий год — под Пон-де-л'Арше, близ Руана.
«Король, — доносит на родину швейцарский посланник[12] Мельхиор Русс, — приказал изготовить много длинных пик и алебард по немецкому образцу; если бы он мог изготовить и людей, которые умели бы обращаться с ними, то он уже больше никого не стал бы брать на службу». Позднее историки полагали, что на лагерь под Пон-де-л'Арше можно смотреть как на колыбель французской пехоты; там систематически обучали солдат, пригласив в качестве образцового отряда 6 000 швейцарцев. Учебный лагерь этот просуществовал целых три года, и швейцарцы целый год оставались в нем в качестве инструкторов. Однако более внимательное исследование рассеяло эту фантастическую картину.
На самом деле ни о какой муштре, ни о каком образцовом отряде швейцарцев документальных данных мы не имеем. Несомненно, король намеревался сделать то же самое, что сделал в это же время Максимилиан в Нидерландах. Действительно, нам доподлинно известно, что 1 500 рыцарей из ордонансовых рот были направлены в лагерь, дабы в случае надобности они могли сражаться и в пешем строю, что должно было бы называться вступлением в ряды пехоты. Однако такие реформы простым приказом нельзя провести.
Пехота, вышедшая из этого лагеря, никогда не могла сравняться с швейцарцами и ландскнехтами. Такой же отряд, как и на бельгийской границе, был сформирован на итальянской границе. Наряду с этими войсками, которые позднее были известны под названием «старых банд» Пикардии и Пьемонта, были и другие более или менее организованные наемные банды, называвшиеся «авантюрьерами», вооруженные частью холодным оружием, но главным образом служившие стрелками. Они однажды отличились под Генуей в 1507 г., когда Баярд и другие рыцари стали во главе и повели их на штурм. Отсюда Сюзан, историк французской армии, считает возможным повести начало французской пехоты. С тех пор появился обычай, чтобы молодые дворяне, не располагавшие средствами на снаряжение для конной службы, поступали в пехоту на повышенный оклад жалования. Таких молодых людей обозначали итальянским термином «lanze spezzate» (сломанные копья). Термин «lanspessades» сохранился во французской армии вплоть до середины XVIII столетия; им обозначали солдат первого класса, занимавших среднее положение между капралами и рядовыми. В так называемых мемуарах Виельвиля передается, что в каждой роте было 12 таких ланспессадов; они были вооружены не аркебузами и не алебардами, а пиками.
Однако, несмотря на это социальное усиление, французские отряды пехоты, по сравнению со служившими по найму у их короля швейцарцами и ландскнехтами, всегда играли лишь второстепенную роль. Они выступают в больших сражениях, начиная с Равенны и кончая Павией; упоминают также о гасконцах и бургундцах; однако никто их не аттестует как безусловно надежное войско, и французские короли, начиная с Карла VII, пользовались во всех крупных сражениях преимущественно немецкой пехотой. В 1523 г. французский полководец Бониве отослал из Италии французских солдат домой, как только ему удалось получить на их место швейцарцев. Впервые в 1544 г. в сражении при Черезоле отряд гасконцев с успехом сражается по швейцарским методам.
Франциск I в 1533 г. сделал другую попытку создать национальную французскую пехоту милиционного типа, которой он дал горделивое название «легионов». При этом была даже сделана попытка создать тактические формы, представлявшие смешение фаланги, римских легионов и приемов современной войны. Из того, что нам о них передают, можно заключить, что их построение представляло большую квадратную колонну, распадавшуюся чрезвычайно искусственным образом на мелкие отделения с небольшими интервалами. Притом решительно нельзя уяснить себе каких-либо задач, каких-либо функций этих маленьких отрядов; очевидно, мы имеем в данном случае дело с чисто теоретическим мудрствованием. Когда в 1543 г. 10 000 французских легионеров защищали Люксембург, они дезертировали толпами и сдали крепость имперцам. То же случилось и в Булоне в 1545 г.
Под 1557 г. мы читаем в мемуарах маршала Виельвиля, что эти легионеры — не воины; они бросили плуг лишь для того, чтобы за 4-5-месячную службу освободиться от налогов на основании удостоверения, зарегистрированного в местном окружном управлении.
В руководящих кругах Франции вполне сознавали, как невыносимо было вести французские войны при помощи иноземных войск, но приходили к заключению, что французский характер не приспособлен для службы в пехоте и что нанимая немцев, швейцарцев и итальянцев, не только получаешь хороших солдат, но отнимаешь их у неприятеля.
Около 1500 г. кавалерию во Франции называли «1'ordinaire de la guerre» (ординарное войско), а пехоту — «L'extraordinaire» (экстраординарное) потому, что в мирное время только первое имелось налицо.
Наименование «инфантерия» впервые появилось, по-видимому, в царствование Генриха III; около 1550 г. еще употребляли термин «фантерия» от итальянского слова «fante» — «малый», «слуга».
Иначе, чем во Франции, протекал этот процесс в Испании. Уже в 1483 г. — следовательно, тотчас после того как Людовик XI создал лагерь в Пикардии и в то время когда еще шли бои вокруг Гренады, — король Фердинанд Арагонский как будто пригласил отряд швейцарцев, который должен был служить образцом для формирования подобной пехоты. Однако швейцарские источники ничего не говорят о таком отряде по ту сторону Пиреней, и исторические исследования до сих пор не дали нам никаких сведений о каком-либо новом формировании в последующие 20 лет.
Так как наряду с немцами одни лишь испанцы сумели в первое время создать годную для войны пехоту по образцу швейцарской, то военное дело в Испании в эту эпоху представляет особый интерес; поэтому доктор Карл Гаданк по моему почину и при поддержке министерства народного просвещения предпринял поездку в эту страну для исследования по этому вопросу в архивах и литературе. Однако результаты его поездки оказались ничтожными и мало что прибавили к тому, что можно найти у Гобома. Правда, мы обладаем довольно богатыми литературными источниками по испано-французским походам в Нижней Италии — первое место занимает жизнеописание «великого полководца» («Gran Capitan») Гонсало ди Кордовы, составленное Иовием, однако оно дает мало материалов по основному вопросу об организации тактической единицы в пехоте. Формирование милиции, утвержденное на одном заседании юнты в 1495 г. и неоднократно подтвержденное впоследствии, не дает никаких новых данных относительно характера нового военного искусства; и когда испанцы вступили в борьбу с французами за обладание Неаполитанским королевством и перевезли в Италию свои войска под начальством Гонсало ди Кордова (1495 г.), последние не могли противостоять швейцарцам, которых французы двинули против них. Ни по качеству вооружения, ни по прочности организации испанцы не могли равняться с швейцарцами и, несмотря на свое численное превосходство, обращались в бегство.
Однако Гонсало не считал по этой причине свое дело проигранным. Во время войны и посредством самой войны он обучил свои войска и при поддержке ландскнехтов одержал свой первый успех под Чериньолой в 1503 г. По-видимому, материал, из которого составлена была его армия, первоначально был очень плох. Она состояла не только из авантюристов и бродяг, которые вообще охотно следуют за барабаном вербовщика, но и из насильно забранных в войска людей. Однако ему помогло то, что они оказались на чужой стороне, далеко от родины; им не оставалось, ради собственных интересов, иного выхода, как держаться стойко своего знамени, и уже несколько лет спустя не подлежало сомнению, что испанская пехота не уступала в боеспособности ни швейцарцам, ни ландскнехтам. Это доказала битва под Равенной (1512 г.), хотя испанцы и потерпели в ней поражение от ландскнехтов, находившихся в союзе с французскими рыцарями. С этого момента в течение полутора столетий испанская пехота оправдывала свою превосходную боевую репутацию.
Мы кое-что знаем и о той принципиальной оппозиции, на которую наткнулась эта реформа. Некий Гонсало ди Айора, который одновременно с Гонсало ди Кордова хотел организовать пехоту и обучить ее действиям в квадратных колоннах, подвергся насмешкам. Он в течение многих дней обучал своих солдат и просил короля отпустить ему лишнее количество вина и провианта, потребное для этих учений, в то же время для поднятия своего авторитета он ходатайствовал о назначении его полковником и об отдаче указаний капитанам, чтобы последние в точности исполняли его распоряжения. Этот вопрос обсуждался на многолюдном военном совете. Говорят, придворные долго по этому поводу потешались и острили. Но вот в 1506 г. супруг наследницы престола Филипп Красивый, сын Максимилиана, привел с собой в Испанию 3 000 ландскнехтов, и их пример сломил, вероятно, оппозицию окончательно.
Еще иначе, чем в Испании, сложились обстоятельства в Италии. В XIV и XV столетиях Италия была чрезвычайно воинственной страной. Эта эпоха породила великих кондотьеров, выработавших известную школу в военном искусстве. Различали по известным, хотя и не очень существенным отличительным расхождениям в стратегических принципах школу Сфорца и школу Браччио. Великие итальянские историки Макиавелли, Гюичиардини и Иовий единодушны в утверждении, что кондотьеры вели войну, как игру, а не как серьезное, кровавое дело, с своекорыстным расчетом возможно дольше протянуть войну и выжать возможно большую плату из своих нанимателей; они не искали решительного боя, а избегали его; когда же дело доходило до сражения, то и солдаты, смотревшие друг на друга как на товарищей, щадили друг друга и не проливали крови.
Передают, что в битве при Аншари (1440 г.) погиб только один человек, да и тот не был убит, а утонул в болоте. Позднее писатели, характеризуя этот род ведения войны, высказывали мнение о том, что кондотьеры подняли войну до степени произведения искусства, а именно — искусства маневрирования. Однако проверка сообщений современников доказала, что в этой характеристике, хотя она и исходит от трех великих авторитетов, нет истины. Правда — только то, что кондотьеры вели войну не с той жестокостью, которую Макиавелли и его современники наблюдали у швейцарцев, которым было запрещено брать пленных и которые избивали всех мужчин в городах, взятых штурмом. Бой кондотьеров походил на бой рыцарей, которые также, если это не противоречило цели войны, допускали пощаду и не только считали дозволенным выкуп пленных, но даже к этому стремились. Дальше этого не шли и кондотьеры, и их сражения нередко были чрезвычайно кровопролитны.[13]
Особенно высокой репутацией пользовались в течение всего XIV и XV столетий итальянские стрелки — генуэзцы и ломбардцы, игравшие значительную роль в армии Карла Смелого.
Войска кондотьеров, как вообще все средневековые войска, состояли по преимуществу из конницы. Это также являлось причиной, почему Макиавелли их ненавидел и презирал, ибо по примеру римлян он признавал в качестве решающего рода войск пехоту.
Когда же молва о славных делах швейцарцев и ландскнехтов распространилась и в Италии, нашлись вскоре проницательные военные, которые захотели перенести и в свою страну новую практику. Население Италии могло предоставить тогда гораздо лучший материал и в большем количестве, чем хотя бы Франция. Испанец, о котором мы упоминали выше, Гонсало ди Айора, изучил новое искусство в Милане, и знаменитая семья кондотьеров, три брата Вителли, владевшие в Романье небольшим княжеством Читта-ди-Кастелло, задались целью создать дотоле несуществовавшую итальянскую пехоту (1496 г.). Они стали вербовать солдат среди собственных подданных, смешали рекрутов с опытными ветеранами, вооружили их пиками на один фут длиннее немецких и обучили их, как картинно повествует Иовий, «следовать за знаменем, маршировать в такт барабанного боя, направлять и поворачивать колонны, строиться «улиткой» и в конце концов поражать врага с большим искусством, сохраняя в точности порядок в своих рядах» («Signa sequi, tympanorum certis pulsibus scienter obtemperare, convertee dirigereque acien, in cocleam decurrere et denique multa arte hostem ferire exacteque ordines servare»). Действительно, Вителоццо удалось разбить под Сориано 800 ландскнехтов, состоявших на службе у папы Александра VI, отрядом в 1 000 человек (28 января 1497 г.). Но создатели ненамного пережили свое творение. Камилло Вителли умер уже в 1497 г. в Неаполе, находясь на службе у французов; Паоло отрубили голову флорентийцы в 1499 г., а Вителоццо был задушен в 1503 г. по приказанию Цезаря Борджиа.
Сам Цезарь Борджиа взял в свои руки и продолжил дело, которое начали Вителли, и после его падения многие солдаты из Романьи нанялись на службу к венецианцам и оказались весьма пригодными. Однако попытки эти делались в слишком небольшом масштабе, и за ними не стояла какая-либо могущественная политическая власть, которая могла бы их поддержать в период кризиса. Попытка Макиавелли организовать для Флорентийской республики отечественную боеспособную милицию была неудачна по своему замыслу и не увенчалась успехом. Казалось бы, что в наиболее благоприятных условиях находилась Венецианская республика, располагавшая многочисленным и преданным крестьянством. Но правительство опасалось военизировать собственных подданных и предпочитало производить вербовку за границей, а именно — в Романье. Эти отряды романьолов, которые могли бы сделаться родоначальниками национальной итальянской пехоты, были сперва разбиты швейцарцами под Ваилой (1509 г.), а затем и уничтожены испанцами и ландскнехтами под Ла-Моттой (1513 г.). С тех пор итальянская пехота, где бы она ни выступала, расценивалась столько же низко, если не ниже, сколько французская, хотя в одиночку итальянцы пользовались такой блестящей военной репутацией, что значительное число капитанов французских авантюрьеров были итальянцы.
После всего сказанного мы считаем возможным категорически утверждать, что если французы и итальянцы и остались далеко позади немцев и испанцев в новом военном искусстве, то причину этого явления надо искать не в особенностях национального характера, ибо французы проявили впоследствии выдающиеся боевые способности, а итальянцы до исхода эпохи Ренессанса пользовались репутацией превосходных воинов. В данном случае это скорее результат обстоятельств и хода исторических событий. Немцам пошло на пользу то, что они с самого начала служили вместе с швейцарцами под знаменами Максимилиана. Сами швейцарцы таким путем стали родоначальниками ландскнехтов, на которых они впоследствии, отделившись от них, глядели не только как на своих соперников, но и как на злейших врагов. Несколько выдающихся людей под руководством самого Максимилиана, теоретически осознав всю важность задачи, разрешили ее при помощи обучения и упражнений; когда же было создано известное ядро ландскнехтов, преисполненных новым духом и верой в свои силы, когда выдвинулось собственными силами известное число капитанов и полковников, пользовавшихся общим уважением и доверием, институт ландскнехтов стал непрерывно развиваться и множиться собственной внутренней силой.
Почему мы ничего подобного не видим у французов, не раз спрашивали себя уже и современники; одни приписывали это нежеланию сделать народ боеспособным, дабы этим легче держать его в повиновении. Такова была точка зрения дворянства, повлиявшая на самого короля. Однако этому противоречат постоянно повторявшиеся попытки создать национальную французскую пехоту. Но они успехом не увенчались, так как никогда не могли довести солдат до той боеспособности и до той уверенности в своих силах, которыми отличались швейцарцы и ландскнехты; понятно, что французские короли предпочитали иметь вместо малоценных войск полноценные. Причина неудачи французов заключается в отсутствии исходной точки — контакта с швейцарцами. Правда, сами французские короли имели у себя на службе швейцарцев, но невозможно было перемешать в одной колонне с швейцарцами французские роты, как это делали швабы и тирольцы. Швейцарцы служили образцом для французов только теоретически. Французскую пехоту надо было вырастить из новых семян. Но в применении потребной для этого работы и энергии не ощущалось необходимости, ибо под рукой всегда имелся удобный исход — добыть при помощи вербовки первоклассных воинов из Швейцарии. Французским королям оказало громадную помощь именно то, что швейцарцы и ландскнехты враждовали между собой. Когда Людовик XII в 1509 г. поссорился с швейцарцами и они не дали ему солдат, он приказал вербовать ландскнехтов.
Совершенно иное положение было в Испании. Как только там усвоили себе значение нового военного искусства, крайняя необходимость заставила обучить ему собственных солдат. Где могли короли Арагонии и Кастилии (не говоря уже о географических затруднениях) достать столько денег, чтобы оплатить притязательных немецких наемников? Ведь к разработке источников благородных металлов в Америке только начали приступать. В отношении Италии надлежит отметить еще, как весьма существенное соображение, что образование более или менее постоянных войск, состоящих из пехоты, поставило бы республики и другие не слишком большие государства в крайне опасную зависимость от их вождей. Для королей крупных государств, которые сами являлись верховными вождями армии, эта опасность была не столь велика.
Глава II. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОРОХА И СТРЕЛЬБЫ
Лишь здесь я вставляю главу об огнестрельном оружии: хотя им к этому времени уже пользовались в течение полутораста лет и я неоднократно об этом упоминал, однако существенное значение оно приобрело лишь в ту эпоху, рассмотрением которой мы сейчас занимаемся.[14]
Во взглядах на вопрос об изобретении пороха еще недавно наблюдались значительные колебания, и исследования относительно места и времени его изобретения еще не завершены окончательно.
Несколько лет тому назад считалось бесспорно установленным, что греческий огонь, первые сведения о котором относятся к VII веку (при осаде Кизика в 678 г. н. э.), ничего общего не имеет с порохом — взрывчатым веществом, составленным из селитры, угля и серы, а представляет горючее вещество, заключающее в себе главным образом негашеную известь или какие-либо поджигающие вещества. А теперь найден, опять-таки в византийских рукописях, рисунок, который надо отнести к X веку и который трудно иначе истолковать, как изображение взрыва пороха; произведенные в связи с этим многочисленные исследования описаний греческого огня снова приводят нас к заключению, что наиболее удачное и естественное истолкование — действие пороха[15]. Если толкование это правильно, то вот и старейшее, исторически доказанное применение пороха. Тем не менее имеются некоторые указания на то, что изобретение его имело место не здесь, а в Китае. Взрывчатое вещество — порох — получается, если в измельченном виде смешать приблизительно шесть частей селитры, одну часть угля и одну часть серы. Эта смесь представляет массу наподобие муки, очень быстро сгорающую, продукты горения которой в большей своей части газообразны и требуют для своего вмещения приблизительно в тысячу раз большее пространство, чем то, какое занимал порох. Следовательно, главная составная часть пороха — селитра. Однако последнюю редко можно найти в естественном виде в наших старых, культурных странах. Между тем в Монголии и в Китае она встречается весьма часто. Там, вероятно, давно уже заметили, насколько она повышает энергию всякого горения, и легко могли прийти к изобретению пороха, подмешивая селитру к ранее известным поджигающим веществам. Далее, арабы называли селитру китайским снегом, а это также наводит на мысль, что правильное смешение трех составных элементов пороха впервые было открыто в Китае и оттуда уже перешло к арабам и восточным римлянам.
В Китае также дошли до применения пороха для военных целей, но не ранее как в XIII веке, следовательно, значительно позднее, чем греки начали его употреблять, и незадолго перед тем, как впервые упоминается на Западе об изготовлении пороха и огнестрельного оружия.
При обороне осажденного города Пиен-Кинга в 1232 г. пускали ракеты, метали железные ручные гранаты и закладывали мины. В 1259 г. пользовались порохом для того, чтобы метать из бамбуковых стволов зажигательные хлопья. Китайцы называли этот инструмент «пиками неистового огня»; в современной пиротехнике это приспособление известно под названием «римской свечи». Эта процедура приближается уже к стрельбе, ибо в данном случае мы имеем трубку, из которой силой взрыва выбрасываются снаряды на расстояние около 100 футов. Но так как задача ограничивается лишь зажиганием воспламеняющихся предметов, то «пику неистового огня» нельзя назвать огнестрельным оружием; дальше этого китайцы не пошли в своем изобретении.
Первый правильно составленный рецепт пороха с тремя составными элементами в пропорции 6:1:1 находится в одной латинской рукописи, приписываемой некоему Марку Греку, которую надлежит отнести к середине XIII века. Несомненно, это — латинский перевод с греческого сочинения, трактующего о всевозможных пиротехнических устройствах. Прямо или косвенно из этого сочинения были почерпнуты и рецепты пороха, которые можно найти у Альберта Великого (1280 г.) и у Роджера Бэкона (1204 г.).
Однако все, что содержат эти сочинения о применении пороха, указывает на то, что тогда им еще не пользовались для стрельбы; это подтверждает и само заглавие книги Марка Грека — «Liber ignium ad comburendos hostes»[16].
То же мы находим и в несколько более поздних арабских сочинениях из Испании — Гасана Альрама (около 1290 г.), Юсуфа и Шемаэддин-Магомета, содержащих рецепты пороха и указания способов пользования им; согласно им, силой пороха надо пользоваться для сжигания неприятеля, а не для стрельбы по нему.
Особенно это относится к одному инструменту, называемому мадфаа, который, как то уже делали китайцы, силой пороха метал в неприятеля зажигательные вещества (а не снаряд или пулю)[17].
Таким образом, секрет изготовления пороха проник в западные страны из восточной Римской империи при посредстве переведенного на латинский язык греческого сочинения. Само название «римская свеча», обозначавшее инструмент, который китайцы называли «копьем неистового огня», дает основание предполагать, что вместе с рецептом пороха из восточной Римской империи к нам проникли и указания о способе применения этого нового вещества.
Мощное действие пороха алхимики объясняли жаром серы и холодом селитры, которые не могут друг с другом уживаться.
Заслуживает внимания то, что мы находим у Альрама описание инструмента, который можно назвать хотя и первобытной, но, по существу, совершенно разработанной самодвижущейся торпедой.
Следовательно, фактически торпеда была изобретена ранее, чем орудие или ружье, и это нам может служить иллюстрацией того, насколько трудно было дойти до изобретения огнестрельного оружия даже после того, как уже имели порох.[18]
Первый с исторической достоверностью установленный случай применения огнестрельного оружия в европейской войне имел место в 1331 г. в царствование императора Людовика Баварского на итальяно-немецкой границе в Фриули, во время нападения на город Чивидале двух рыцарей Крусперго и Шпилимберго. Мы читаем в хронике: «ponentes vasa», что по-немецки означает Bьchsen,[19] «versus civitatem» и «extrinseci balistabant cum sclopo versus Terram et nihil nocuit»[20]. Sclopus, или sclopetum, по-итальянски schioppo (хлопающее, гремящее орудие, самопал), впоследствии означало ручное огнестрельное оружие в противоположность артиллерийскому орудию.
Через три года после этого боя под Чивидале хроника д'Эсте за 1334 г. сообщает, что маркграф (Феррарский) велел изготовить огромное количество различного рода орудий (praeparari fecit maximam quantitatem balistarum, sdopetorum, spingardarum). Означали ли спрингарды огнестрельное оружие того времени — установить нельзя, vasa и sclopeta, несомненно, означали таковые.
Третье по времени свидетельство об огнестрельном оружии мы встречаем в счетах папского двора, которые стали известны лишь недавно[21].
Из них мы узнаем, что в 1340 г. при осаде Терни папские войска применяли в виде опыта гремящие трубы (Edificium de ferro quod vocatur «tromba marina», «tubarum marinarum seu bombardarum de ferro»)[22], метавшие болты, а в 1350 г. во время осады замка Салуэроло — бомбарды, стрелявшие железными ядрами весом около 300 г.
Таким образом, при первых же упоминаниях о новом оружии мы находим в хрониках различные обозначения, из чего, по-видимому, можно заключить, что уже тогда употреблялись разные виды его, а следовательно, само изобретение его надлежит отнести к несколько более раннему времени.
Так как ни Альберт Великий, ни Роджер Бэкон, ни Альрама о нем еще ничего не знали, то изобретение это было, вероятно, сделано около 1300 г. или немногим позже.
Мы не имеем ни описания, ни изображения этого старейшего огнестрельного оружия. Правда, в одной роскошной английской рукописи,[23] составленной приблизительно между 1325 и 1327 гг., имеется иллюстрация, несомненно долженствующая изображать заряжаемое порохом орудие, следовательно несколько более раннее, чем то, которое применено было при осаде Чивидале. Сосуд, формой напоминающий большую пузатую бутыль, лежит на деревянной скамье, в горло бутыли воткнут чурбан, к которому прикреплена тяжелая стрела; человек, стоящий на почтительном расстоянии, подносит фитиль к затравке, которая виднеется на бутыли; инструмент направлен на запертые ворота замка. Как ни интересна эта картинка, все же нельзя допустить, чтобы она изображала когда-либо существовавшее огнестрельное орудие. Если бы бутыль была заряжена количеством пороха, соответствующим тяжести вложенного в качестве снаряда чурбана и дрота или даже крепости подлежащих разрушению ворот, а сама бутыль сделана была бы из достаточно прочного металла, то не только отдача разнесла бы вдребезги легкую деревянную скамью, на которой покоится бутыль, но и сам стрелок, как бы предусмотрительно он ни держался на известном расстоянии, едва ли уцелел бы. Поэтому нельзя не предполагать, что сам художник никогда не видал такого орудия, а лишь слыхал об удивительном новом изобретении и сконструировал свой рисунок по неясным описаниям. Как бы то ни было, рисунок представляет интересное свидетельство о том, что и в ученых кругах говорили о применении силы пороха, с которой тогда ознакомились в западных странах. Однако мы не должны себе представлять действительную форму старейших орудий по этому изображению, но постараться произвести реконструкцию их по позднейшим, реалистическим изображениям[24] и по сохранившимся подлинным экземплярам.
Из них можно заключить с несомненностью, что древнейшее огнестрельное оружие было довольно мало и чрезвычайно коротко. Весьма рано появляются две основные формы: одна — в которой к стволу прикреплен довольно длинный стержень, который стрелок держит под мышкой или упирает в землю; другая — несколько более крупного калибра, где ствол прикреплен к балке, положенной на землю или вкопанной задним концом в землю.
Которая из этих двух известных нам древнейших форм является первичной, решительно высказаться нельзя. Однако, по-видимому, мы имеем возможность провести отсюда связующую линию к первоначальному применению пороха как огня для военных целей. Стержень, прикрепленный к стволу, напоминает стержень, который мы видим у мадфаа; а как на прототип более хрупкого калибра можно предположительно указать на византийское военное орудие, изображение которого можно проследить до середины X века. Этот инструмент размером и формой напоминает большую пивную кружку с ручкой и затравкой наверху; из этого инструмента должны были пускать в лицо противнику струю огня в ту минуту, как его атаковали. И здесь, правда, можно сомневаться, имеем ли мы дело с оружием, когда-либо действительно применявшимся на практике, или с фантастически измышленным сооружением; в самом деле, так как огненная струя бьет на расстояние не более одного метра, то вооруженный этим инструментом подвергается сильной опасности, что его противник раньше до него доберется холодным оружием — мечом или копьем, чем он успеет дохнуть на него своим огнем, который к тому же в лучшем случае может внушить страх, особенного же вреда причинить не может.[25]
Особенно затрудняло применение пороха то, что в селитре нередко бывает примесь других солей или же пыль. Такое ее засорение притягивает влагу, так что порох вскоре после его изготовления становится негодным. Для производства пригодного пороха необходимо было знание действительного способа очистки или кристаллизации селитры, чего добивались еще в XIII веке, но окончательно достигли лишь впоследствии.
Как было показано выше, изобретение пороха еще не было равнозначно изобретению огнестрельного оружия, т. е., выражаясь общими понятиями, перевода взрывчатой силы пороха в силу ударную. Много столетий прошло с тех пор, как порох был известен; его даже в военном деле применяли раньше, чем появилось огнестрельное оружие. Каким же образом оно наконец было изобретено? В Византии существовала огнеметная кружка с затравкой, а у арабов в Испании — мадфаа; для того чтобы перейти от этих инструментов к огнестрельному оружию, недостаточно было наложить на заряд пороха металлический или каменный шар. Старейший вид пороха, подобный муке, загорается не сразу всей своей массой, для воспламенения его требуется несколько мгновений. Следовательно, снаряд, просто положенный на заряд пороха, не был бы выброшен полной силой взрыва, а медленно выкатился бы из орудия, а главная сила взрыва развилась бы в стволе лишь вслед за тем. Поэтому сущность изобретения, ведущего от пороха к стрельбе, заключается в изобретении способа заряжания. Снаряд должен быть так плотно вдвинут в ствол, или, еще лучше, между снарядом и порохом должен быть помещен пыж, который так плотно закупоривал бы ствол, чтобы и пыж и снаряд могли быть выброшены из ствола лишь тогда, когда весь заряд пороха воспламенится и разовьет полную силу взрыва. Наибольший эффект получался тогда, когда между зарядом пороха и пыжом еще оставалось пустое пространство. Накопление силы, достигаемое посредством пыжа, создает и сильный грохот. А так как еще у византийцев упоминается о громе, производимом их греческим огнем, то надо полагать, что они уже давно открыли метод накладывания пыжа на заряд пороха.[26]
Но и отсюда до огнестрельного оружия, обладающего пробивным действием, еще большое расстояние. Ведь сила взрыва действует не только вперед — на снаряд, но и во все стороны. Поэтому ствол должен был быть очень крепким и тяжелым, и, следовательно, его нельзя было держать непосредственно одной рукой, но, как было сказано выше, приходилось его прикреплять либо к стержню, дававшему возможность противодействовать отдаче силою всего своего тела, либо если калибр, а следовательно и заряд, были слишком велики — прикреплять его каким-нибудь способом к земле. Поэтому ни византийская огневая кружка, ни арабская мадфаа не могли быть непосредственными предшественницами огнестрельного оружия — если вообще между ними существует какая-то преемственность. Из-за скудости источников здесь еще открыт широкий простор воображению. Возможно, например, что византийскую огневую кружку превратили в огнестрельное оружие тем, что вместо того чтобы держать ее в руках, ее прочно устанавливали на землю, забивая в нее пыж, и что из нее опять-таки сделали огнестрельное оружие, взяв за образец внешнюю форму мадфаа со стержнем. За эту гипотезу до некоторой степени говорит и то, что впервые с огнестрельным оружием мы встречаемся в Италии, которая поддерживала отношения как с Византией, так и с Испанией.
Где и кем было сконструировано первое огнестрельное оружие — покрыто мраком неизвестности; можно лишь примерно определить, что это произошло около 1300 г.; местом этого изобретения надлежит считать Верхнюю Италию; далее можно утвердительно сказать, что для изобретения огнестрельного оружия не только требовалось наличие пороха, но и умение очищать селитру, прочный ствол с затравкой, заряжание пыжом и устройство ложа.
Несколькими годами позже, чем в Италии, появились первые известия о гремящих самопалах во Франции в 1339 г., в Англии — в 1338 г.[27], а в Испании — в 1342 г.; спустя еще несколько лет мы встречаем в Германии сведения о них: ранее всего в счетах города Аахена — в 1346 г., в Девентере в 1348 г., в Арнгейме — в 1354 г, в Голландии — в 1355 г., в Нюрнберге — в 1356 г., в Везеле — в 1361 г., в Эрфурте — в 1362 г., в Кёльне — в 1370 г., в Мейссене[28] — приблизительно в 1370 г., в Трире — в 1373 г. Древнейшее упоминание о самопале в Швейцарии мы имеем из Базеля в 1371 г.; пушкарское дело пришло «из-за Рейна». Первые военачальники, о которых источники гласят, что они применяли на войне огнестрельное оружие, были, как выше сказано, рыцари фон Крейцберг и фон Шпангенберг (1331 г.); хотя оба они были немцами, однако сравнительно позднее появление нового оружия в Германии опровергает легенду, что изобретение его принадлежит нашему отечеству. Не удалось также установить факта какого-либо существенного усовершенствования, которое подало бы повод образованию этой легенды.
Как мала была дистанция обстрела старейшего огнестрельного оружия усматривается из инструкции относительно пользования им. Замок Биуль рыцаря Гуго де Кондильяка был вооружен в 1347 г. 22 самопалами; прислуги к ним полагалось по одному человеку на две штуки; видимо, они не были рассчитаны на то, чтобы во время боя их снова заряжали. Стрелок должен был лишь последовательно выстрелить из них. Но сперва полагалось стрелять из больших арбалетов, затем пускались в ход пращи и под конец стреляли из самопалов, которые, следовательно, били на наименьшее расстояние.
Предание, будто впервые орудия были применены в битве под Креси (1346 г.), представляет вымысел. Фруассар передает, что гентцы в сражении с брюггенцами пользовались 200 «рибодекенами», неясно описанными как какие-то тележки с небольшими пушками, из которых спереди торчала пика[29]. Вопрос — какова была сила их действия — остается открытым.
Чтобы иметь годный к употреблению порох, надо было, как мы с самого начала отметили, научиться очищать селитру. В этом деле постепенно совершенствовались и научились отличать хорошую селитру от плохой. Решающее же значение имело то, что научились изготовлять зернистый порох. Порох подмачивали и делали из него небольшие катышки, которые затем сушили. Это давало то преимущество, что благодаря небольшим промежуткам между отдельными катышками воспламенение происходило гораздо быстрее. Кроме того, при перевозке пороха в виде мякоти нередко бывало, что от тряски отдельные его составные элементы частично снова разъединялись, в то время как в катышках они были связаны крепко. От катышков перешли к изготовлению зернистого пороха, продавливая сквозь сито порох, превращенный во влажную кашицу. Улучшением качества пороха путем изготовления зернистого пороха надлежит, вероятно, объяснить то, что промежуток между пыжом и снарядом исчезает и что начиная с XV столетия снаряд с пыжом или без него непосредственно накладывается на порох[30].
К этому времени как раз относятся поиски наилучшей пропорции смеси. В Германии в XIX столетии наилучшей почиталась смесь из 74 частей селитры, 10 частей серы и 16 частей угля (или также 74: 12: 13).
В XV столетии мы встречаем подобные же рецепты. Но наряду с ними и другие, с гораздо меньшим содержанием селитры, что опять-таки объясняется тем, что за слишком сильным порохом не гнались из-за слабости орудий, которые в случае взрыва представляли серьезную опасность для прислуги.
При несовершенной очистке селитры суждения о действенности того или иного состава пороха были далеко не достоверны и действие пороха было неодинаково.
Первое литературное упоминание о новом оружии мы находим в произведении Петрарки, озаглавленном «De remediis utriusque fortunae» («О средствах против превратностей судьбы»), которое он посвятил своему другу Аццо да Корреджио, но закончил лишь после смерти последнего. После того как Аццо продал д'Эсте свой город Парму, его постигли разные несчастья: болезнь, изгнание, смерть близких, измена и предательство друзей — сочинение это ищет источников утешения в несчастиях этого мира. В диалоге, в котором один из собеседников хвалится своими машинами и баллистами, его спрашивают с насмешкой, не обладает ли он и теми инструментами, которые с громом и пламенем метают медные желуди; еще недавно эта чума представляла такую редкость, что на нее глядели с величайшим изумлением; теперь же она так же распространена, как всякое другое оружие.





























