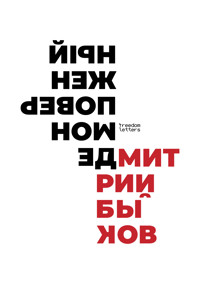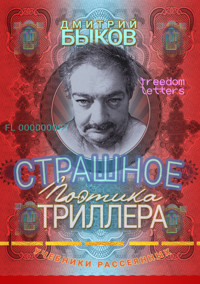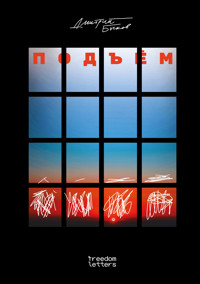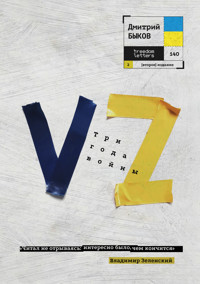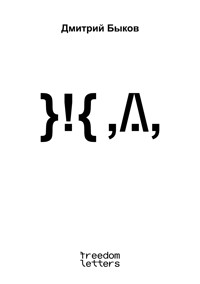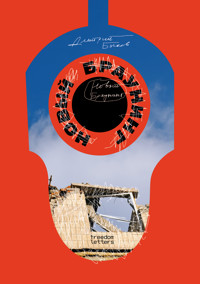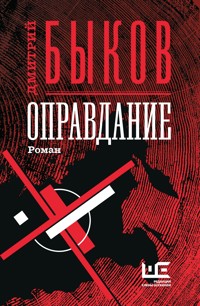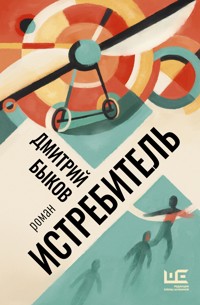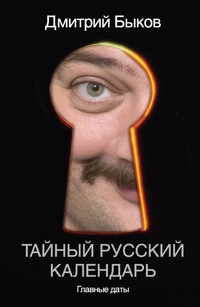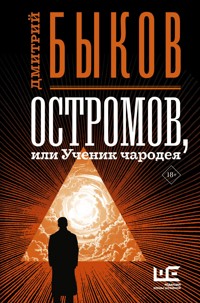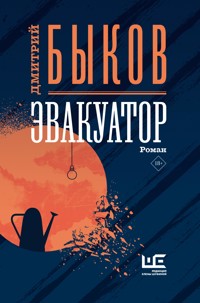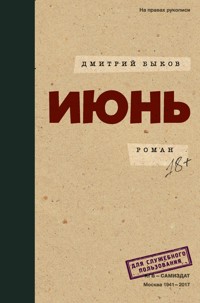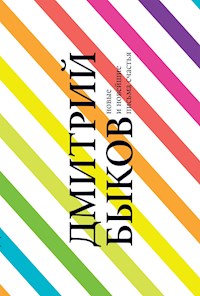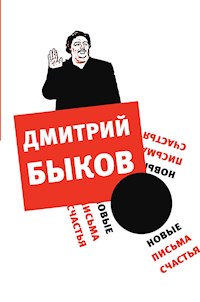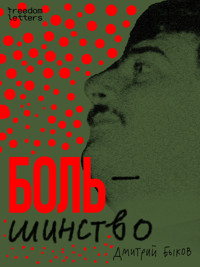
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Рассказы, вошедшие в новый сборник Дмитрия Быкова «Большинство», создают фантастический и искаженный мир. Одна реальность прорывается сквозь другую: «есть немотивированные поездки в ночных экспрессах и междугородних автобусах, неизвестно кем назначенные встречи, служения тайным культам, сбор сведений в пользу несуществующих или тайных государств. Звезды, все время звезды, складывающиеся в незнакомые конфигурации». Здесь смешались герои: Победоносцев цитирует Достоевскому Булгакова, Гарри Поттера приглашают в НИИЧАВО, а Дама с собачкой поражает Гурова практичностью и цинизмом. Здесь спутаны времена: прошлое переиграно и в новой постановке неузнаваемо, настоящее прорастает фиктивными историями, а будущее пытаются изменить, путешествуя обратно. Здесь бунтует даже география: живая река Неглинка упрятана под землю, а мертвецы встают из-под земли. И в искусство больше невозможно спрятаться от жизни: оно отравлено ею и вывернуто наизнанку. Таков мир после 24 февраля. Но «рай – это возможность предположить, будто бывает другая жизнь». Ее только предстоит обрести, и каждый рассказ «Большинства» – не только выражение отчаяния, но и шаг к обретению этой реальности.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
№ 12
Дмитрий Быков
БОЛЬ-ШИНСТВО
Freedom Letters2023
ДЕНЬГИ МАТЕРИ
Вместо предисловия
Мать оставила мне довольно много денег, но я не могу ими воспользоваться. Тут есть над чем подумать, хотя обо всём, что с ней связано, мне думать невыносимо. Когда умерла мать, со мной случилось худшее, что я мог себе представить, то, чего я всю жизнь боялся, то, из-за чего моя жизнь постоянно обрастала новыми ритуалами, хотя причину их происхождения я прекрасно понимал. Теперь мне вообще не для кого стараться, в том числе в литературе. Дети обойдутся без моих литературных успехов, жена тем более меня любит не за это. Мать мной гордилась, хотя бы перед друзьями, а больше мной никто не гордится. Это верно, впрочем, применительно ко всем. Вы можете быть нужны многим, но гордятся вами только родители. Дети могут гордиться в лучшем случае вашими возможностями.
Мать никогда не брала у меня денег, всучить ей хоть что-то всегда было проблемой. Я придумал для этого довольно надёжный способ — привлёк её к составлению композиций, которые начитывал в качестве аудиокниг, и она бралась за это и делала, как всегда, безупречно: отбирала рассказы Паустовского, главы «Войны и мира», лучшие повести Тургенева, — я ей потом вручал долю в специально реквизированных для этой цели конвертах с маркировкой издательства. Все эти конверты я нашёл у неё нераспечатанными. Она отнюдь не брезговала моими деньгами, но у неё был принцип — ничего на себя не тратить, в этой аскезе, как у лучших людей её поколения, был источник душевных сил. Она опиралась только на себя и этим гордилась. Работы ей хватало до последнего дня, к ней стояла репетироваться очередь из старшеклассников, и не всегда это было связано с необходимостью поступать в институты (сейчас пошли такие родители и такие абитуриенты, что поступление в любой вуз покупается на раз): это следующее поколение её выпускников обеспечивало своим детям нормальное развитие, а себе — сносную старость. Ужасно же стареть рядом с идиотом. Поэтому репетиторская работа была и помогала ей вставать по утрам и самоорганизовываться, не впадая в обычную стариковскую депрессию. Я, в общем, такой же. Мне важны не деньги, которые платят за работу, а востребованность. В старости я, кажется, готов буду клеить коробочки, как в «Королевском парке». Это про меня еврейский анекдот — «во-первых, навар, а во-вторых, я всё-таки при деле». Ничего не поделаешь, нас так учили: человек нужен, пока нужен, востребованность — главный показатель, самодостаточности не существует. Я думаю, это по крайней мере трезвый взгляд.
Мать копила деньги не на меня, она хотела обеспечить себя на то время, когда не сможет работать, чтобы ни от кого не зависеть и никого не отягощать, правда, представить себе время, когда она не смогла бы работать, я не могу, она и в Склифе объясняла молоденьким медсестрам, почему «Отцы и дети» так называются. И когда рядом с ней в реанимации буянил доставленный туда алкаш, она одна по-учительски сумела его утихомирить. Состояние зависимости вообще было не по ней. Но вышло так, что ей эти деньги не понадобились. Я мог отправить её в платную больницу и сам эту больницу оплатить, но скорая сказала: лучше всего Склиф, там лучшие профессионалы. Эти профессионалы мне сразу сказали, что в её возрасте шанс невелик, но будем стараться. Наверное, они старались. Претензий к ним у меня нет, хотя, наверное, в платной ей уделяли бы больше внимания, больше разговаривали, — зато не факт, что пускали бы меня, а здесь пускали, и это нам обоим было нужно. Так что потратить деньги на больницу она не успела, и теперь они достались мне — как положено, через полгода. Полгода выжидают нотариусы на случай, что появятся другие наследники. В нашем случае таких наследников нет.
В силу того, что у матери был хороший вкус, воспитанный семьей, старой профессурой и русской классикой, я был избавлен от неизбежных, казалось бы, разговоров о том, что я единственная надежда и опора и должен вести себя соответственно. Хороших сыновей не бывает, или, верней, это понятие временное, окказиональное, как счастье. Примерно так и с любовниками: в разгар романа тебе всегда говорят, что ты лучший и что до этого она ни с кем ничего не чувствовала, а ретроспективно, следующему, обязательно говорят, что ты был эгоистом и думал только о своём удовольствии. Так и хорошим сыном бываешь в немногие минуты душевной гармонии, а в любом разговоре с подругой обязательно выходишь неблагодарной сволочью, которая неправильно выбрала жену, плохо воспитывает собственных детей и редко звонит. Про меня всего этого набора пошлостей никогда не говорили. И тем не менее хороших сыновей не бывает, так же как, согласно формуле Маши Трауб, нет правильных родителей: мы виноваты уже хотя бы тем, что переживаем матерей, а если не переживаем, это ещё хуже, мы их бросаем сиротами. Получается неразрешимая ситуация: я всегда хотел быть для матери хорошим, для других никогда, потому что цену этим другим я примерно знаю, а для неё хотел, и именно это как раз невозможно. Потому что сын, называющий себя хорошим, это примерно, как человек, заявляющий, что он прожил прекрасную жизнь, что он этой жизнью вполне доволен. Такому человеку можно было, я думаю, вовсе не родиться, ничего бы принципиально не изменилось. Если человек после пятидесяти считает, что его жизнь прошла не зря, — вы можете быть стопроцентно уверены, что имеете дело либо с эго-маньяком, либо с серьёзным грешником. Это, как в главном правиле здоровья, если после шестидесяти у вас с утра ничего не болит, значит, вы не проснулись. Я не был хорошим сыном уже потому, что мать жила одна, хоть я и бывал у неё почти ежедневно, потому что жил всегда по соседству. Могу себе представить, во что превратилась бы её жизнь, если бы к ней в квартиру вперлись мы с Катькой (а такой опыт был), а потом ещё и с бэбзом, тетешкать которого она отнюдь не стремилась. Но, даже с регулярными визитами коллег и с помощницей по хозяйству она всё-таки была одна и это был её выбор, в котором я ничего не мог изменить. Я был бы виноват при любом раскладе, потому что сын виноват всегда. Из-за этой внутренней вины я не могу воспользоваться её деньгами. По сравнению с моими собственными заработками, учительскими и книжными, это не такие большие деньги, но дело не в их количестве. Я не совсем могу объяснить отношение к ним — это примерно, как если бы от неё осталось старое домашнее животное, которое бы меня не любило (старые домашние животные вообще мало кого любят), или вот, например, у неё в квартире есть цветы. У нас никаких цветов нет, потому что мы в беспрерывных разъездах, мы везде ездим вместе, так повелось с самого начала (это и спасло мне жизнь в слишком известной ситуации, про которую лучше бы пореже вспоминать, но теперь уж ничего не поделаешь). А у матери живут два очень старых лимона, которые я помню с детства, несколько кактусов и бегоний, и мне кажется очень важным поддерживать в них жизнь, потому что это, в общем, единственное живое, что мне от неё осталось. По этой же причине я никогда не смогу раздать бедным её гардероб, содержавшийся в идеальном состоянии. Я сейчас уехал преподавать туда, где это, кажется, нужнее, и поливать цветы дважды в неделю заходит мой старший сын, вообще очень добрый мальчик, вот он — хороший сын, на случай если его когда-нибудь будет терзать совесть по этому вопросу, но, надеюсь, что в этике нового века такие терзания отойдут в прошлое.
…Откладывала она, конечно, не только на лечение. У неё был в жизни один праздник, по крайней мере в последние годы, — санаторий летом. По месяцу в каждом. Это были старые советские санатории, построенные в расчёте на престарелых партийных бонз, а теперь переходящие от ведомства к ведомству — то мэрии, то министерству обороны. Мать не имела возможности прилично отдыхать в советские годы и на старости лет полюбила эти санатории, там её тоже все обожали, она немедленно обрастала толпой подруг. Вообще, надо сказать, она удивительным образом везде, даже в реанимации, притягивала людей, и большим счастьем было ездить к ней летом, навещать её в этих санаториях и видеть вокруг неё толпу людей, которым она что-то весело рассказывала. Рассказывала она лучше меня, то есть очень хорошо. Мне из этих санаториев теперь всё время звонят, обещают ей скидки. Наверное, самое лучшее было бы поехать туда летом, как бы за неё, но это будет уж совсем невыносимо, да и кому мне там рассказывать о том, о чём я умею? Я боюсь, уже и бэбзу-то это будет ни зачем не нужно.
Кстати, я никогда публично не называл её «мамой», скажите ещё «мамочкой», некоторые тоже практикуют. Или «матушка», как бы иронически. Мне и на радио писали: почему вы всегда говорите «мать», ведь это грубо? Они знают слово «мать» только в одном контексте. Им это грубо. Нет, товарищи, это у вас мать бывает только ядрёна. Для меня она мать, так это всегда принято в доме, не считая всяких взаимных насмешливых прозвищ. Думаю, отчасти это потому, что она мне вполне заменила Родину — и в качестве идеала, и в качестве нравственного образца.
Моя мать была гораздо лучше моей Родины, я теперь могу это сказать вслух, хотя для этого требуется известная храбрость. «Настоящих людей очень мало, на планету совсем ерунда, на Россию — одна моя мама, только что она может одна?» — спето в лучшей, по-моему, и уж точно самой отважной песне Окуджавы, которую ему так и не простили. Но почему бы не назвать вещи своими именами: Родина по отношению к нам ведёт себя совершенно не по-матерински. Получается так, что не она себе во всём отказывает ради нас, а как-то мы, наоборот, должны себе во всём отказывать и оставаться виноватыми, потому что ведь насытить её невозможно. Как написал недавно один отставной писатель, это не хорошо и не плохо, это физика. У нас нет и не будет проблем, как распорядиться наследством нашей Родины, потому что, во-первых, Родина бессмертна, а во-вторых, она нам ничего не оставит. Она как-нибудь устроит так, чтобы подпалить дом вместе со всеми нами, иначе такие истории не кончаются. А вот мы ей всегда всё оставляем — чтобы она распорядилась этим очень неадекватно: либо запретила, либо изуродовала. Вообще всё, что нельзя использовать для военных нужд, проходит у неё по разряду хлама. Иногда от одиноких стариков остается такой хлам, вроде растрёпанной, со вставками, рукописи, над которой он корпел всю жизнь, и его спокойно выбрасывают новые хозяева. Повезло в этом смысле только Генри Дарджеру, который всю жизнь писал два романа — один 15.000 страниц, другой 10.000, он стал самым известным американским писателем-аутсайдером, по нему книги издают и симпозиумы проводятся, но это он жил не в России. Какая-нибудь тварь, каких сейчас расплодилось очень много, обязательно прошипит: вот, Быков даже о матери не может написать, чтобы не плюнуть в Россию, но что поделать, если на фоне моей матери про Россию особенно всё понятно?
Почему я придаю такое значение этим деньгам, не особенно большим? Потому что это ещё одно живое, что осталось, и ещё одно безусловное доказательство того, что мать всю жизнь занималась настоящим делом. Сама она, честно говоря, не была так уж в этом уверена и часто повторяла — вслед за дедом, все сбережения которого Родина, по своему обыкновению, обнулила в начале девяностых,– что жизнь ушла непонятно на что и шестьдесят лет ранних подъёмов, бесконечных уроков, проверяния тетрадей и составления отчётов ушли, в общем, псу под хвост, особенно если учесть, что уроки русской классики никем не усвоены и никого не спасли. Из всей этой классики осталось «Гром победы раздавайся», а когда закончится эта эпоха, всё будет уже настолько скомпрометировано, что переоценивать три скромных века русской светской культуры будет особенно некому. Но вот от всей этой невыносимо богатой, напряжённой и трудной жизни осталось некоторое количество денег, которыми я должен распорядиться. Отдавать их на благотворительность я не буду — именно потому, что мне проще отдать свои: это как-то психологически мне непонятно. Я отдам их, наверное, старшему сыну — другому человеку, перед которым я виноват, потому что перед детьми мы тоже всегда виноваты. Ничего не поделаешь, единственное назначение денег — это форма откупа. Больше они ни для чего не нужны. Прокормить жену и младшего я и так как-нибудь смогу.
Вообще отношения единственного сына с матерью легкими не бывают, и сколь бы, скажем, Волошин ни идеализировал их, — у него с Пра всё тоже было непросто, она хотела видеть его не таким и не особенно это скрывала. Иногда мне казалось, что и мать желала бы видеть на моём месте что-то совсем другое — поглупей, попроще и помягче. Но по крайней мере в одном она могла не сомневаться: хороша она или нехороша, но всё-таки лучше всех, кого я видел и знал. А вот что нам делать теперь со всем тем лучшим, что мы видели и знали, со всем тем лучшим, чего больше никогда не будет в этой стране и, может быть, за её пределами, — вот это совершенно непонятно. И что делать с её книгами — я тоже не понимаю, хотя вырос на всех этих книгах и никогда, и никому не смогу их отдать. Да по большому счету я не знаю даже, что делать с квартирой, где сам я жил до восемнадцати лет и нередко ночевал потом. Никому отдать её я не могу, жить в ней тоже не могу. И вот это уж точно про Родину. Извините за откровенность, больше не буду.
ШАГ
Мне случилось тут недавно попасть в трагикомическую передрягу со здоровьем, гротескную настолько, что истинную её причину я раскрывать не намерен даже родственникам. Как писал когда-то Лев Аннинский, главная беда русского интеллигента состоит в том, что он беспрерывно повторяет чеховское «их штербе». А «штербе» никак не может.
Правда Горький, не любивший Книппершу из-за соперничества с Андреевой, утверждал, что Чехов сказал: «Ишь, стерва». Но думаю, он действительно попрощался. И, в отличие от русского интеллигента, действительно ушёл. Наша же проблема в том, что мы всё никак не «штербе». Своего рода еврейский вариант английского прощания. Умер и благополучно ожил Бабченко, слухи о моём смертельном заболевании, разнообразных комах и отёке мозга тоже оказались ничем не подтверждены. Но передряга эта действительно стоила мне трех суток медикаментозного сна, как выяснилось впоследствии, совершенно необязательного. И удивительное дело — первое, что я вспомнил по пробуждении, были стихи Льва Лосева.
Лосева я знал и любил, и он, кажется, платил мне взаимностью, человек он был необычайной деликатности и ранимости, хотя любил выпить и пил, чтобы напиваться, а не чтобы поддержать разговор. Думаю, это был его единственный способ глушить свою патологическую ранимость и частые отчаянные мысли. Поэзия его была мне всегда близка и даже необходима, — во всяком случае, куда ближе и необходимее стихов боготворимого им Бродского. Причины этого боготворения я, кстати, никогда не понимал. Но уж такой он был человек — скромный без тени кокетства, действительно не принимавший себя всерьёз и, кажется, как бы не существовавший.
Спрятанность лирического героя, его непрерывное сомнение в собственном существовании, представлялась мне главной чертой его поэтической личности. И вот, едва проснувшись, и, как всегда после наркоза, чувствуя особую тягу к слезам, я вспомнил вдруг наизусть именно его старое стихотворение ещё из первых сборников. Вот это:
О, Русская земля! ты уже за бугром.
Происходит в перистом небе погром,
на пух облаков проливается кровь заката.
Горько! Выносят сорочку с кровавым пятном –
выдали белую деву за гада.
Эх, Русская земля, ты уже за бугром.
Не за ханом — за паханом, «бугром»,
даже Божья церковь и та приблатнилась.
Не заутрени звон, а об рельс «подъём».
Или ты мне вообще приблазнилась.
Помнишь ли землю за русским бугром?
Помню, ловили в канале гандоны багром,
блохи цокали сталью по худым тротуарам,
торговали в Гостином нехитрым товаром:
монтировкой, ломом и топором.
О, Русская земля, ты уже за бугром!
Не моим бы надо об этом пером,
но каким уж есть, таким и помянем
ошалевшую землю — только добром! –
нашу серую землю за шеломянем.
По сегодняшним меркам это голимейшая русофобия, хотя стихотворение это исполнено глубочайшего сострадания, трогательнейшей любви и самого подлинного отчаяния. Но эти самые сегодняшние времена ещё войдут в пословицу как пример подлости и постыдного идиотизма. И мы это ещё увидим, клянусь вам. Так случится при жизни моего поколения. Торжество сегодняшних ценностей, то есть русской идеи, заключающейся в умении только угрожать и давить, Лосевым названо с беспрецедентной точностью. Ведь действительно, русская земля сейчас за ханом, паханом, бугром, и, хотя ошибочно было бы думать, что это всегда в её природе, но к доверию таким личностям она в самом деле чрезвычайно склонна.
Народ не то, чтобы исключительно терпелив, но как-то, как говорил друг Лосева Окуджава, неприхотлив. Вся ничтожность, вся идейная нищета так называемой русской идеи, вся компилятивность её источников, преимущественно иностранных, давно раскрыты Ключевским, Яновым, да и множеством других публицистов, и всем очевидно, что эта идея проходит сегодня свой последний круг, позорясь и компрометируясь окончательно. Кое-кому всё было понятно в тридцать третьем, подавляющему большинству — в пятьдесят шестом, и уж решительно всем — в шестьдесят четвёртом. В девяносто первом просто многие уже махнули рукой.
Не дай бог тебе жить во времена перемен — часто цитируемое китайское пожелание. Но то китайцы, нам их рецепты не подходят. Не дай бог тебе жить во времена мёртвых штилей, когда затхлость русской жизни доходит до болотной вони, когда на поверхность вылезают худшие качества народа, великого в своем воодушевлении и ужасного в падении и разврате. Он способен на великие свершения именно во времена перемен и на предельное падение и разврат во времена мёртвых штилей, когда ничто в природе не колышется. Но вот я думаю: понимал же Лосев всё в семьдесят пятом году, когда уехал. Просто в один прекрасный момент от отвращения стало у него зашкаливать. Он однажды признался мне, что легко представлял свои похороны при полном зале Дома литераторов — петербургского, ныне сгоревшего, и эта перспектива так его ужаснула, что на ровном месте, до всяких политических преследований, просто взял, да и уехал. Конечно, сначала по еврейской линии, как все тогда, потом переехал к Бродскому в Ардис, поработал там, вскоре написал прекрасную книгу о пользе русской цензуры, точнее, о её феномене, её польза понимается в смысле ироническом. Потом сделался дартмутским профессором, заведующим кафедрой, вывез мать, которая прожила в Штатах почти до ста, издал шесть книг волшебных стихов, одновременно традиционных и глубоко новаторских (Андрей Синявский даже называл его «последним футуристом», и Лосев этой оценкой весьма гордился). И жил там, не имея никакого отношения к «здесь», всё более, по его выражению, по достоевскому и монструозному.
И вот я думаю: что же мешает нам скинуть с шеи эту удавку? Под скидыванием удавки я разумею, конечно, не обязательный отъезд, но именно жажду принадлежать большинству. Это большинство сейчас настолько оболванено, грубо, нагло, оно так распоясалось и так презирает все остальное человечество, что находиться рядом с ним, в его рядах — позорно и зловонно. Но мы все чего-то боимся. Нам почему-то кажется, что большинство не может быть неправо, а отдельным германским интеллигентам, типа Томаса Манна, не повезло с народом — и Тельману с ним не повезло, и Хафнеру. Ведь все уроки даны, извлечены, понятны. Я ещё могу понять некоторую часть так называемых творческих людей, которые из дьявольщины надеются извлечь энергетику. Но дьявол — великий обманщик, и получается у них великий пуфф: зловонное облако, гниль и черепки. Не всё можно оправдать именем Родины. Гипноз страшного слова «родина» пора бы уже, кажется, развеять. Человек не выбирает место рождения и ничем не отвечает за него. Всем известна фраза о том, что, когда государству надо провернуть очередные темные делишки, оно предпочитает называть себя родиной. Но место рождения — не более, чем область трогательных воспоминаний. Родина не бывает вечно права. Гипноз родины пора сбросить. Огромное количество людей мыслящих, порядочных, честных и свободных не связывает с этой территорией ничего. Не следует кричать им «валите», потому что где хотим — там и живем, и разделять ценности паханов, орущих громче всех, мы совершенно не обязаны, даже если живём внутри паханата. Слишком интимная близость родины и даже самоотождествление с ней опасны — можно заразиться безвкусием, апологией масштабов, как это случилось с многими большими поэтами, не станем называть их. Ресентимент, конечно, сильное чувство, но Ницше первым написал, что это чувство рабское. Сегодня любить родину значит ни в коем случае не отождествлять себя с ней и подавно с властью, творящей новые и новые мерзости. И добро бы, это были бы мерзости масштабные, но ведь это кусьба из подворотни.
Нам очень, очень не хватает сегодня Лосева, тихого человека, точно называвшего вещи своими именами. Помянем свою землю добром. Но если белой деве так нравится выходить замуж за гада, пусть это останется её личным выбором.
Мир велик, есть в нём океаны, пустыни, горы — и обидно всю жизнь просидеть в болоте, наслаждаясь уникальностью его фауны. Надо сделать этот внутренний мысленный шаг, а там пойдет. К свободе, даже внутренней, быстро привыкаешь. Сбросьте же этот ошейник, сколько можно. Нельзя же всегда зависеть от врожденных вещей. Нельзя гордиться ни тем, что ты русский, ни тем, что ты москвич, ни тем, что ты американец, пока лично ты не слетал в космос или не приземлился на Луне. Или написал «Листья травы». Или «Чудесный Десант». Ведь стихи Лосева и были чудесным десантом чрезвычайно нездешнего человека — прочь отсюда. Я вообще зависим только от одной имманентности — от матери. Её я не могу осуждать ни в чём, но уж тут как хотите — есть предел силам человеческим. И есть у меня сильное подозрение, что всё, что мы слышим сегодня, это вопли разъяренной мачехи, а истинная мать нас ещё где-то дожидается. И нам её ещё только предстоит обрести.
Чем скорее мы сделаем к ней первый шаг — тем больше она обрадуется.
ЗАВИСТЬ
А. Жолковскому
1.
Они приехали в Париж утром 16 июня 1965 года — бабушка и внучка, разумеется, все знали, что внучка не её, а третьего мужа, кажется, никогда так и не ставшего официальным. Аня-младшая, как все её звали, лицом и капризами была похожа на деда: та же гримаска вечного недовольства и как бы лёгкой брезгливости, словно она уже сейчас знала о будущем больше всех и все в этом будущем повели себя недостойно. И глаза у неё были такие же узкие, китайчатые, близорукие. Анну-старшую, как принято было в доме ещё в двадцатые, она звала Акумой, хотя деда почти не помнила. Ей было двадцать три года.
Артур, урождённый Натан, как говорил он о себе, посмеиваясь, прилетел из Штатов, где уже пятнадцать лет жил в Принстоне. В Париже у него было дело, а впрочем, мало ли его выставок открывалось без него, но на эту он прибыл, хотя до последнего не верил, что увидит Анну. Анна была человек-несчастье — боялась вокзалов, ей трижды отказывали в заграничном паспорте, но теперь отказать нельзя было, скандал: Оксфорд произвёл её в почётные доктора. Не выпустить её после семидесяти пяти лет такой жизни, которую она, казалось, представляла себе с самого начала и оттого ещё в юности вдруг застывала в любом застолье, глядя в стену, пропуская мимо ушей вопросы и шутки, — нет, они всё-таки заботились о том, как выглядят, им было не всё равно, им хотелось престижа, который странным образом зависел теперь от неё. Они сами всё это сделали, когда ровно год полоскали её имя во всех газетах, — это был, так сказать, наш ответ Фултону, причём традиционный: американцы поносили наших, а наши — своих. Теперь постановления никто не отменял, но вокруг Акумы существовал негласный культ. Когда Артур вошёл к ней, задыхаясь от сердцебиения и проклиная себя за это, она сидела в высоком голубом кресле и казалась неузнаваемой. Даже при своём росте, выше его на голову, она казалась страшно располневшей, её лицо как бы вышло за собственные пределы, полнота была болезненная, водянистая, и он сразу понял, что знаменитая королевская медлительность и торжественность всех её движений была болезнью, а не позой. Даже повороты головы, казалось, давались ей с трудом. Она просияла ему навстречу счастливой улыбкой, и ему хватило ума догадаться, что радуется она вовсе не его появлению, а тому, что время и его не пощадило. Из зеркала на него глянул старый еврей. В молодости его принимали то за грека, то за итальянца, теперь же в его лице проступила та униженная гордость, то насмешливое злорадство относительно собственной участи, по которому их племя безошибочно опознавали везде. Он добродушно осклабился, словно говоря: да, я такой, а ведь нас называли самой красивой парой шестнадцатого года. Пятидесяти лет не прошло. Правда, то, что делал тогда я, состарилось гораздо сильнее, а то, что делала она, не состарилось вовсе, он и теперь чувствовал тень былого возбуждения, перечитывая третью книгу её лирики, наполовину состоящей из стихов к нему.
Он знал зачем она едет, и не сомневался, в отличие от прочих, что Париж она посетит. У них был трёхминутный телефонный разговор. Голосом, полным внутреннего рыдания, она сказала: «Я прошу вас. Вы не можете мне отказать». Она таким же голосом, разве что более повелительным, сказала ему эту фразу пятьдесят лет тому назад, и сейчас он не мог ей отказать точно так же, хотя не виделись они с самого его отъезда в двадцать втором. Она имела над ним абсолютную власть, и это не была власть любви. Любовь никогда на него не действовала, он всегда был удачлив, ему не отказывали, — то, что они все к ней испытывали, было меньше любви, но значительней. Он мало понимал в стихах, а если и любил стихи, то готические баллады, ничуть не похожие на её альбомные записи. Но и он понимал, что она бесконечно лучше него, что вся его жизнь приобретает смысл только благодаря её присутствию на свете. Нет, это не было любовью, иногда он её за это ненавидел, но отказать ей не мог ни в чем. Любим ли мы свою совесть с её вечным недовольством? Любим ли мы лучшее в нас, от которого одни неприятности? Но отказать ей он не мог — пятьдесят лет назад он сделал то, о чем она просила, хотя и знал, что другого шанса у него не будет и, следовательно, сотворить то же для себя он уже не сумеет. И теперь он не мог отказать ей, хотя она просила о самой простой вещи — прибыть и лично устроить одну встречу, с тогдашней жертвой этого было не сравнить.
Он сразу сказал ей, что всё устроено, она кивнула небрежно, словно и не сомневалась. Но это нельзя было так сразу: к ней в гостиницу на rue de Grenelle пошёл представляться весь литературный Париж, а не только русские, которых после войны осталось немного. Почему немного? — ну, потому что в Америке открывались издательства и газеты, потому что в Америке университеты нуждались в них как в живых свидетелях, потому что четверть русского культурного Парижа приняла великодушное предложение победителя и отправилась к нему в пасть, и уцелели, кажется, десятеро из двухсот. Истинная же причина, по которой они не хотели оставаться в Париже, была очевидна — никто из нас не хочет оставаться на месте преступления, а все они здесь были унижены и ничего себе не простили. Нельзя жить в обесчещенной стране и делать вид, что вы победили, вас освободили, а это совсем иное дело. И они разъехались. Подальше от своего преступления, но Нина была здесь, он это знал. Нина Делинь, так она теперь называлась, она же Оленина, она же Ричардс.
2.
Она появилась в двадцать пятом году, кажется, из Софии, а впрочем, об её прошлом никто ничего не знал. Бывший авиатор, а ныне шофёр Марков (он вернулся потом в авиацию и сделал неплохую карьеру испытателя в Кодроне) добился её сравнительно легко и на прямой вопрос, что она делала до Парижа, получил прямой и простой, как её лирика, ответ: считайте, что меня просто не было. Это не показалось ему ни безвкусным, ни роковым, с самолюбованием, вообще присущим авиаторам, он решил, что до ночи с ним она себя не понимала, не чувствовала. Она, видимо, ощутила в нём это пренебрежение и после второго свидания сказала: благодарю, усердие хорошо в спортсмэне, а не в любовнике. Как ни странно, он успел к ней привязаться, сочетание молчаливости, печали и внезапной простодушной страстности успело тронуть покорителя сердец, он ещё некоторое время бился о дверь её квартирки на рю Лепик, но согласившись на единственную встречу, она говорила с ним так сострадательно, что он сбежал, оскорблённый.
Вообще она сменила многих кавалеров, ни с одним не оставаясь надолго. Подруге, художнице Симоновой (друзей среди литераторов старалась не заводить), сказала с обычной своей откровенностью то ли невинной, то ли циничной, a la Yvette: в Петербурге я многого не могла себе позволить, мне было небезразлично, что обо мне подумают, а здешние — пусть думают, что хотят. Кто понимался под здешними — французы или эмигранты, — она не уточнила. её стихи нравились, хотя только слепой не заметил бы внешнего и внутреннего её сходства с главной русской поэтессой, она сама говорила, что с такой внешностью наивно было бы писать демонстративно иначе. Самую упорную и целенаправленную злость вызвала она у Марины, чья атака в «Верстах» — «Другая» — была за гранью приличия. Мирский даже сказал, что мужчинам проще — всегда можно «адресоваться непосредственно к личности», на что Марина с вызовом сказала: я и в лицо ей всё это повторю, и пусть попробует вцепиться мне в волосы. Мирский пошёл на принцип и сказал: берусь эту встречу устроить. Они проговорили два часа, после чего Марина, страшно побледневшая (в цвет глаз, называлось это у неё), сказала только: я никогда не думала, что мои слова сбываются ТАК. Какие? — а вот про черно… впрочем, неважно. С тех пор она избегала любых упоминаний о Нине, а когда однажды Ходасевич при ней сострил что-то о копировальной бумаге, Марина с необъяснимой яростью, впрочем, в последнее время все её эмоции были необъяснимы, птичьим голосом крикнула ему: вы ни-че-го не знаете! Ни-че-го! — а берётесь говорить! Он пожал плечами и не снизошёл до расспросов.
Довольно скоро Нина встала, как говорится, на крыло и стала читать на вечерах русской поэзии совсем другие стихи, в новой манере, с американским призвуком, в духе, может быть, Элиота, ей присуща была звериная чуткость и переимчивость, она сказала, что могла бы, вероятно, подрабатывать гаданием — настолько всё понимала про человека с первого взгляда, в ней и с детства была эта черта, хотя ни одного случая из детства она привести не хотела и только делала большие глаза, а потом вдруг по-девчоночьи прыскала. Ей очень свойственна была эта манера среди серьёзного разговора засмеяться и даже затрясти головой, она бывала в такие минуты очень хороша. Она коротко остригла густые черные волосы, помолодела, приобрела тот американский вид, который назывался джазовым, а в тридцатом году вышла замуж за дикого человека Оленина.
Про Оленина тоже говорили всякое — вплоть до того, что он был, разумеется, советский агент, но это говорили про любого человека с деньгами. Сам он объяснял просто — льнут, как бабы, не заботишься, не охотишься — ну, они и чувствуют. Нина влюбилась в него, как кошка, и взяла его фамилию. У вас же есть литературное имя — сказал ей почтительно Жоржик, как вы можете? — именем сыт не будешь, ответила она с гимназической беспечностью, нужна фамилия! А между тем он был мерзавец. У него была идеальная внешность разведчика — его легко было принять и за барина, и за мужика: то ли природный аристократизм, то ли крестьянская естественность, страшная физическая сила, детская улыбка, с которой, казалось, он и убивал. А что убивал, в том трудно было сомневаться при взгляде на его жёлтые, идеально ровные пальцы с плоскими ногтями. Он возил её куда-то в Латинскую Америку, она клялась, что эта красно-коричневая земля заменит миру Россию, что оттуда явится новый культурный взрыв. Но потом, после трёх лет бурной любви и разъездов, он канул, исчез, и она надолго оставила стихи и около года нигде не появлялась — а потом опять возникла из никуда, элегантная, полуседая, с новым циклом очень коротких верлибров, вдохновлённых, говорила она, одним испанцем. Лорка? — нет, не Лорка, лучше. О том, куда делся Оленин, говорила загадочно: он оказался именно тем, за кого себя выдавал, а это так скучно. И хотя исчез он, по её намекам выходило, что сбежала она.
В тридцать седьмом она полюбила американского журналиста, заехавшего в Париж после трёх месяцев в Мадриде: в нём не было никакого американского лоска, он был застенчив, широкоплеч, неуклюж, всё время словно стеснялся своего таланта и славы. Ты настоящая испанка, я возьму тебя в Валенсию, — сказал он, — и она отправилась за ним, своим Ричардсом, сначала в Испанию, потом в Америку, где писала какие-то репортажи и делала для престижнейших журналов беседы с голливудскими и бродвейскими звёздами, но что-то он такое сделал — то ли публично солгал, то ли увлёкся одной из этих самых звёзд, — и она не простила, вернулась во Францию на пароходе King George. Она запретила ему искать себя, но он сказал, что если не может её уговорить, то завоюет. «Сегодня лучше так не шутить» — предупредила она и снова оказалась права.
В сороковом она осталась в Париже, прятала евреев, распространяла сводки, вообще показала себя в Сопротивлении решительной и бесстрашной. Несколько раз она просто ходила под смертью, но благодаря фантастической ловкости и гибкости ускользала из любых тисков. В сорок четвертом в Париж первым ворвался её американец во главе колонны маки. Город был, в сущности, уже оставлен, американец ничем особенно не рисковал, торжественно войти в город должен был Эйзенхауэр, но, когда он туда вошёл, все парижские репортёры уже снимали американского коллегу в баре отеля Ритц. Он сидел там с Ниной, пил абсент и плакал от счастья. Они провели там лучшую свою ночь, после чего она сказала ему, что всё, всё. Сам он потом рассказывал, что признался ей в эту ночь в любви к молодой американской коллеге, а она — что он всю жизнь любил юношей и только притворялся мужчиной, как бы то ни было, утром они расстались, а его, стараниями Эйзенхауэра, больше близко не подпускали к боевым действиям. Она осталась в Париже и наотрез отказалась встречаться с советскими журналистами, когда могучий их десант во главе с Симоновым заманивал эмигрантов в советское гражданство.
Журналистские навыки ей пригодились, и она стала писать в американские газеты о парижских событиях — это давало неплохой заработок, да и влиятельные друзья по сопротивлению не оставляли её заботой. У неё открылся вдобавок живописный дар и несколько её абстрактных композиций стали украшением парижских коллекций. Она немного лепила — Дина Верни называла её русским чудом, в пятьдесят шестом прошла её выставка. Там, уже хорошо за пятьдесят, она познакомилась с Делинем, миллионером, ценителем всего русского и яростным врагом советского. В конце пятидесятых она совсем было собралась посетить Москву и Петербург, но Делиню и женщине, носящей его фамилию, наотрез был запрещён въезд в красную империю. Что поделать, сказала Нина, когда корреспондент «Юманите» вызвался помочь ей пробиться за железный занавес –муж мне дороже Родины, между общественным и личным я всегда выбирала последнее. Делинь умер в шестьдесят третьем, оставив ей седьмое во Франции состояние, и в последние два года она увлеклась горными лыжами. Лыжи не ездят одни, заметил бессмертный Жоржик, и, в самом деле, главным её увлечением был тридцатилетний атлетичный инструктор, которого она не прятала от сельских хроникеров, но поселять в своем биянкурском дворце избегала. Любовь слишком дорого мне стоила — замечала она в разговорах с подругами, такими же загорелыми белозубыми вдовами.
Встречу она назначила в кафе «Enchevetrement de serpents» — очень маленьком, очень изысканном, известном очень немногим. Там была самая авангардная кухня, заключались миллионные сделки и появлялись тайные законодательницы мод — те, очень молодые и очень роковые женщины, чьи безумные наряды копировал весь Париж месяц спустя.
3.
Анна никогда не узнала бы её, но других женщин её возраста в этот час в «Гадюшнике» не было. Артур, согласно условию, довел её до двери, нажал кнопку незаметного звонка и передал с рук на руки владелице заведения, а сам отбыл ужинать с Аней-младшей, попросившей показать ей «Ротонду». В «Ротонде», рассказывали ей, недавно видели «Битлов».
— Здравствуйте, — сказала Анна, тяжеловесно присаживаясь к столику, вмиг показавшемуся хрупким.
Нина оглядела её без особенной доброжелательности. Она тоже не ожидала увидеть такую статую. Обе они смотрели друг на друга, как в зеркало, причудливо отражавшее душу, как Дориан на собственный портрет. Обе были втайне уверены, что видят свою истинную сущность. Анна видела поджарую, даже суховатую, смуглую, с безупречной кожей, с яркими глазами, с голубоватой ухоженной сединой, с брильянтами в ушах и неизменной бирюзой на безымянном пальце. Нина видела тяжелую, водянистую старуху с осанкой римской матроны, с тяжкой одышкой, быстрыми и проницательными серыми глазами, горбатым носом и бледным, без всякой помады, слегка обветренным ртом.
— Ну, что же мы будем делать? — спросила Нина.
У неё было когда-то придумано много сценариев этого разговора. Всё свободное время, которого, впрочем, всегда было немного, она посвящала его выстраиванию, насыщению ужасными подробностями, всякого рода аргументами. Теперь, при виде этой толстой статуи, в которой не было никакого высокомерия, одно страдание, она потерялась.
— Мне хотелось посмотреть, — беспомощно сказала Анна. — Я должна была увидеть.
— Ну вот, — ответила Нина.
— Я бы не поменялась, — после паузы призналась Анна.
— Я тоже.
— Но надо отдать тебе должное, — она перешла на ты с обычной петербургской естественностью, которой ничто не могло отнять, — ты выглядишь прекрасно.
— Для той жизни, которую я прожила, — пожала плечами Нина, — что же, может быть.
— Про жизнь, которую ты прожила, говорить не нужно, — с неожиданным раздражением сказала Анна. — Это всё равно как Вертинский рассказывал мне в сорок шестом году, как сильно он любит Родину, так, как может только эмигрант.
— Но в этом есть правда. — Нина была той же породы и её не так-то легко было сбить. — У человека, живущего дома, есть дом.
— У меня никогда его не было и нет до сих пор.
— Он был всегда. Всё это время вы были дома, — Нина никак не могла перейти на «ты» с этой старухой. — В любой деревне, в любой дыре вы были дома, везде были люди, которые знали ваше имя. Вас везде пустили бы переночевать.
— И сдали бы.
— Возможно, и сдали бы. Но это тоже был бы ночлег.
Анна улыбнулась.
— Я и об этом думала. После революции все думали уехать, а в двадцатые, когда это закрылось, все думали пойти странствовать. Это было единственное бегство. И я думала, что меня в самом деле многие пустят, а если не пустят, то сдадут, и там по крайней мере есть кружка кипятку.
Они снова замолчали, хозяйка уважительно-бесшумно принесла две крошечные кофейные чашечки.
Нина решила развить успех.
— Здесь всё было чужое, — сказала она угрюмо. — И даже если бы мы совершили подвиг — а среди нас были люди, совершившие подвиг, — французы смотрели на это как на русскую причуду.
— Нина, — сказала Анна тяжелым хриплым голосом. — Не надо говорить мне так… такого. Мне выпало всё. Со мной случилось вообще всё, что могло случиться.
Она замолчала, справляясь с дыханием.
— Я прожила каторжную жизнь, — проговорила она, опустив глаза. — Я прожила стыдную жизнь. Меня полоскали в газетах… не было дня, год не было дня, чтобы меня не поносили, как блудницу и монахиню, как всеобщего врага. Я умирала от тифа, месяц была между жизнью и смертью, а они писали, что я отсиживалась. Этот тиф должен был свалить меня в двадцатом году, а догнал через двадцать три года в Ташкенте.
— Какая вам разница, что о вас писали, — раздражённо ответила Нина. — Ни одному слову этих писаний никто не верил. Это вам созидало пьедестал, вы сами говорили.
— Ты не знаешь, что это такое, — с тихой ненавистью сказала Анна.
— Зато я знаю, что такое быть еврейкой в оккупированном Париже.
— До этого ты двадцать лет жила в неоккупированном Париже.
— Не жила, а выживала. Это была не ваша нищета, когда вам со всех сторон слали хлебные карточки, а моя, когда я дважды ночевала с ворами за ужин.
Анна взглянула на неё с интересом. Это было любопытно, она не имела такого опыта. Это было достаточно бесстыдно и даже, пожалуй, слишком бесстыдно, чтобы быть поэзией. Впрочем, она могла это и выдумать. Анна знала себя и на некоторые вещи не могла пойти ни в каких обстоятельствах.
— И немцы могли меня взять четыре года кряду, каждый день, каждую ночь.
— Меня могли взять тридцать лет кряду, а могут и теперь.
— Я вытравила ребёнка в тридцать втором, от этого чудовища, я даже не узнала его пола, — шёпотом провизжала Нина.
— У меня погубили ребёнка, это не мой ребёнок, я не узнаю в нём моего несчастного мальчика, — шёпотом прорыдала Анна.
Всё-таки перечень своих несчастий она начала с газетной травли, а не с этого, была это стыдливость страданья или застарелая привычка к публичности, Нина не знала, но понять могла в обоих случаях.
— В конце концов, чёрт бы всех побрал, это был ваш выбор! — почти крикнула Нина. — Вы хотели быть святой Анной, вы стали святой Анной.
— Я стала блудницей и монахиней, — покачала головой Анна, — я стала последней из последних.
— De cette position, vous pouvez faire une pose! — процитировала Нина из одного циничного француза, которого Анна, впрочем, не читала, поскольку вообще выпала из мирового литературного контекста. — Из этого тоже можно воздвигнуть монумент.
— Ну, — сказала Анна с неожиданной гордостью, — я кое-что из этого сделала.
Она помолчала.
— Наверное, всё, что можно, — добавила она тихо.
— Я тоже кое-что сделала из ваших исходных данных.
— Конечно! — сказала Анна с тем внезапным порывом, за который её так любили все искавшие утешения и оправдания. — Ты прожила прекрасную жизнь. И у тебя много ещё впереди.
— Вы думаете?
— Tu vas me survivre, c'est sûr, — сказала она с прекрасным парижским выговором, который почти никогда в жизни ей не пригодился. — В конце концов, мы не сиамские близнецы.
— Вы ничего не знаете, — сказала Нина. — Вы не знаете, что значит быть виноватой.
— Я не знаю? — спросила Анна, подняв правую бровь. В этой приподнятой брови было столько негодования, что её вполне можно было назвать une grand signe, но некому, некому.
— Вы знаете, что такое быть виноватой перед дураками, перед ничтожествами. Вы не знаете, что такое быть виноватой перед собой, перед Родиной. La patrie n'est pas un son vide! Никогда, ни одной минуты я не жила без этой вины. Я жизнь прожила с чувством предательства.
— Всякий приличный человек, — веско сказала Анна, — всю жизнь живет с чувством предательства. Тот, кто этого чувства не знает, мог бы и не родиться, ничего бы не случилось.
— Это гадкое чувство, никто ни в чём не виноват! Это рабское чувство! Я не поехала, когда могла, и, в конце концов, я горжусь, что сбросила этот ошейник!
— Я могу это понять, — сказала Анна неожиданно смягчённым, виолончельным голосом. Когда-то и у Нины был такой голос, но теперь он был визгливым и хриплым, нормальным голосом спортивной американской старухи. — Но у меня ничего не было, кроме этого ошейника. Я потеряла всех, кого я любила.
— У вас есть хотя бы это утешение, — отрезала Нина. — Всех, кого любили, всегда теряешь, но у вас их по крайней мере отняли. А я потеряла их сама, потому что один был агентом, второй импотентом, а третий вице-президентом…
— Это прекрасно, — вдруг сказала Анна. — Le talent ne peut pas être bu. Это могло быть стихотворением, твоим лучшим стихотворением.
И, глядя друг на друга, эмигрантка и туристка засмеялись тем неуместным девчоночьим смехом, за который их так любили одни и ненавидели другие.
4.
В «Ротонде» было душно, дымно и тесно. Артур быстро напился.
— Ну скажи, — Аня-младшая тоже легко переходила на ты, и он был в самом деле славный старикан. — Скажи, ты богатый?
— Не очень богатый, — у него была странная речь, никакого акцента, и даже давно забытые интонации, которые Аня слышала только у очень старых москвичей, но он неуверенно строил фразы и забывал русские слова. — Не совсем богатый. Но я совсем не бедный. Ты могла бы украсить мою старость, но у меня есть старая подруга в Princeton.
— А счастливый?
— Счастливых нет, — сказал он, — таких, как вы это думаете в молодости, счастливых не бывает. Но я не очень несчастный.
— А скажи, Акума… Анна, мы все так её зовем… она была очень очаровательна в молодости?
— Акума была интересная, — медленно сказал он, особенно тщательно подбирая слова. — Акума была исключительная, и при ней… так это бывает… ваша жизнь казалась вам более значительной, чем обыкновенно. Каждый хочет, чтобы его жизнь была значительной, и при ней вы ощущали, насколько вы на месте… насколько вы не просто так. Это воздействовало. В ней вообще воздействовало многое.
— Это из-за стихов? — ревниво спросила Аня, о которой никто не говорил ничего подобного.
— Нет, стихи нет. При чем стихи? Стихи воздействуют… с очень большим выбором, не на многих, — он словно переводил с английского, и многое уже было непереводимо. — Стихи переоценивают вообще, особенно переоценивают русские. Они в них вкладывают слишком много усилий, чтобы было в рифму. А рифма не нужна, стихи — это не рифма. Лучшие стихи называются белыми. В стихах должна быть мысль, её тогда видно. Но воздействуют не они, а просто есть человек, который всему может придать значительность. Вот когда она входит, и сейчас тоже, то у всего есть значительность. Это потому, что она так всё воспринимает — в десять раз больше. Когда трагедия, то это античная трагедия. Когда любовь, то это античная любовь. Когда секс, то это античный секс. Вы молодые, у вас это как чихнуть, вы не можете это так понять.
— Отчего же?! — обиделась Аня.
— И тогда, — продолжал он, не слушая, — тогда вы не имеете сил ей противостоять. Вы делаете то, что она у вас просит. Даже когда она просит то, что вы можете сделать только один раз и для себя. Но вы делаете это для неё и потом жалеете много раз. А ведь это могло бы вам понадобиться больше, чем ей. Быть евреем в нашем веке — это довольно-таки любопытный вызов. Это не все могут. Но вы делаете это ей, потому что таков её каприз.
Аня смотрела на него с некоторым страхом. Он продолжал напиваться и говорил уже не с ней.