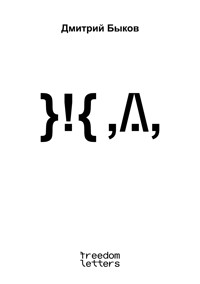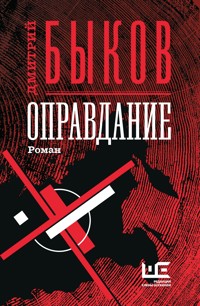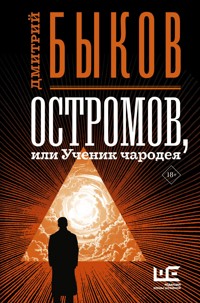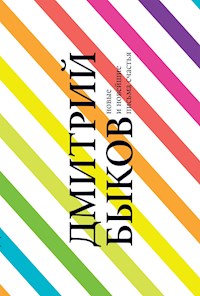Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Russisch
Эта книга задумывалась автором как учебник, а превратилась по мере работы над ней в исповедь человека, вложившего жизнь в погибшее, но от этого не менее интересное дело — исследование российской культуры. Больное порождение больной системы, русская культура обречена вместе с системой и погибнуть. Русская цивилизация, по мысли Дмитрия Быкова, может ещё какое-то время функционировать — институционально или физически, но не содержательно. Содержание проекта исчерпано, он пришел к логичному и неизбежному самоуничтожению. Из России начисто ушло, уехало или попросту вымерло то, за что Господь её терпел. А значит, автору приходится иметь дело с завершённым процессом — в этом принципиальная новизна предлагаемого исследования. Только законченный процесс и доступен изучению: для анализа русской культуры сегодня наступило оптимальное время, что и подтверждается всемирно возросшим интересом к ней. Разве не есть конечная цель всякой литературы — биографической, в частности, — понять, почему это так закончилось? Новая книга Дмитрия Быкова — до жестокости горькая, но при этом такая живая, такая страстная и горячая, что закрадывается сомнение: до конца ли верит сам автор в основной её постулат о смерти русской культуры?..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
№ 120
Дмитрий Быков
Демон поверженный
Российская культура ХХ века
Freedom LettersИтака2025
Все могло бы получиться — сам Господь хранил страну:
Заставлял одеться чисто, усадил к веретену,
И тянулось всяко-разно от соблазна до соблазна,
Но страна была волчица и влюбилась в сатану.
Все могло бы состояться, ибо чем не шутит черт —
Видишь, правила троятся, все боятся, кнут сечет…
Путь мощей-клещей-иголок эффективен, но недолог:
От палаццо до паяца меньше века протечет.
И земля все это схавала за два десятка лет,
Ибо свой завет у Савла и у Павла свой завет:
Есть обратная дорога отступившимся от Бога,
Но предавшим даже дьявола — назад дороги нет.
2010
От автора
Эта книга получилась из обзорной статьи о русской культуре ХХ века для предполагавшегося учебника истории, задуманного коллективом независимых историков и педагогов, частью эмигрантов, а частью адаптантов, как называют оставшихся несогласных. Отсюда претензия на универсальность — от мистерии до цирка (каковые крайности, впрочем, смыкаются). Автор никогда не претендовал на знание визуальных искусств, музыки и танца, но жанр требовал, во-первых, широты обзора, а во-вторых, хотя бы минимальной объективности.
По мере того как текст вываливался за пределы отведенных на него сорока страниц, как тесто выпирает из квашни, автор все меньше заботился о выполнении требований формата, то есть об универсальности охвата и академизме тона. У него и в школьных сочинениях всегда возникали проблемы с так называемой субъективной модальностью. Для начала автор перестал делать вид, что пишет о продолжающемся процессе, и стал рассматривать его как завершенный, что сразу облегчило задачу. Потом он перешел от феноменологии к довольно пристрастной критике, перестав цацкаться с идеями особого пути и воинской доблести. С какого-то момента он понял, что пишет никак не учебник, а исповедь человека, вложившего жизнь в мертвое, но от этого не менее интересное дело — то ли постсоветский аналог поэмы «Во весь голос», то ли построссийскую версию песни «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет».
От книги читатель обычно ждет либо объективной справочной информации, либо совпадения со своими тайными ощущениями и подозрениями, либо, если повезет, того и другого вместе. Первое автор гарантирует — по крайней мере, в литературной и кинематографической части. Со вторым, пожалуй, дело обстоит даже лучше. Ну а уж насколько это сочетается — от автора, как всегда, зависит меньше всего. Тут примерно как с женщиной и переводом: если верна, то некрасива, а если красива, то неверна.
Впрочем, автор давно объяснил себе, что литературой он занимается в силу нехитрого эгоистического соображения: это единственная сфера человеческой деятельности, где при отсутствии пользы получаешь хотя бы удовольствие.
Или наоборот.
Эти волшебные слова — «или наоборот» — читатель может добавлять практически к любому утверждению автора. Говорил же Дарвин: «Я очень хорошо сознаю, что нет почти ни одного положения в этой книге, по отношению к которому нельзя было бы предъявить фактов, приводящих, по-видимому, к заключениям, прямо противоположным моим».
Разница в том, что Дарвин писал о происхождении видов, а я — об их постепенном схлопывании. Но это не умаляет ни пользы, ни удовольствия.
Или наоборот.
Мне иногда задают вопросы, и чаще всего они строятся по одной схеме: сначала мне более или менее верно цитируют какое-нибудь мое высказывание, а потом спрашивают, действительно ли я так думаю.
Отвечаю я обычно так же, как Юнг (если уж равняться на авторитеты, то на крупные) на вопрос, верит ли он в Бога.
— Нет. Конечно, нет.
Я знаю.
Рочестер,
Октябрь 2024
Предуведомление
Российская культура в том виде, в каком мы ее знали, завершена — в полном соответствии со строчкой известного прогнозиста Б. Б. Гребенщикова: «Мир, как мы его знали, подходит к концу» (1986). Иное дело, что эта строчка была бы актуальна в любое время — мир ежеминутно только и делает, что подходит к концу, превращаясь в мир, которого мы не знали. Но применительно к русской культуре это оказалось верно вдвойне, в полном соответствии со строчкой другого известного прогнозиста, В. О. Пелевина (1993): «Выяснилось, что чеховский вишневый сад мутировал, но все-таки выжил за гулаговским забором, а его пересаженные в кухонные горшки ветви каждую весну давали по нескольку бледных цветов. А теперь изменился сам климат. Вишня в России, похоже, больше не будет расти».
Рассматривая российскую культуру, мы имеем дело с завершенным процессом — в этом принципиальная новизна предлагаемого исследования. Русская цивилизация (самоназвание, на котором она настаивает и которое мы примем) может еще какое-то время функционировать — институционально или физически, но не содержательно: содержание проекта исчерпано, он пришел к логичному и неизбежному самоуничтожению. Возникает вопрос: зачем же заниматься изучением мертвого процесса? Не проще ли в соответствии с цитатой Гребенщикова, продолжить «и Бог с ним» — и «заняться чем-то другим»?
Но, во-первых, занимаясь чем-то другим, хорошо бы учесть предостережения истории. А во-вторых, только законченный процесс и доступен изучению: для анализа русской культуры сегодня наступило оптимальное время — что и подтверждается всемирно возросшим интересом к ней. Изучаем же мы античную культуру, особенно подробно останавливаясь именно на ее самоубийственных или, если угодно, аутоимунных процессах. Разве не есть конечная цель всякой литературы — биографической, в частности — понять, почему это так закончилось? Автор был какое-то время журналистом и предлагал своему изданию рубрику «С обратной точки» (кинематографический термин): взять один из многочисленных смертельных случаев в Москве и размотать клубок отдельной человеческой жизни с конца с попутным анализом, что именно привело к такому финалу. Тогда это не осуществилось по техническим причинам, хотя интерес к теме был велик. Нечто подобное, хотя и с иными акцентами, проделал Торнтон Уайлдер в повести «Мост короля Людовика Святого».
Как получилось, что русская культура пришла к оправданию массового убийства, внутренних репрессий, изоляционизма? В какой момент цивилизация заразилась фашизмом и каким образом у нее сложилась предрасположенность к нему? Как вышло, что все без исключения российские граждане — и в первую очередь художники и мыслители — оказались перед фатальным выбором: либо Россия одобрит доктрину изоляционизма и перманентной войны, либо перестанет существовать?
Особенно занятно, что к этому диагнозу присоединяется и так называемая патриотическая общественность: здесь тоже господствует эсхатологическая концепция. Россия должна либо уничтожить мир (что автоматически приводит и к самоуничтожению), либо закуклиться в нынешнем состоянии, «вернувшись к себе», — то есть опять-таки отказаться от развития, что синонимично смерти. История российской цивилизации, насчитывающая семь веков, есть история самоубийства, и наша задача — на примере ХХ века, предсмертного и наиболее наглядного, понять, что привело к такому исходу (с эпохи Николая I, думается, вполне безальтернативному).
Объем темы огромен, поэтому автор избегает цитат, увеличивающих и без того чрезмерный объем текста. Ключевые стихотворения или поэмы ХХ века в большинстве случаев даются первой строкой или названием, чтобы не лишать читателя радости самостоятельного поиска; проза, критика и драматургия, как правило, не цитируются вовсе.
Автор не стремился объять необъятное. Как и его родина и ее культура в целом, он логоцентричен. Он знает литературу и кинематограф, хуже — музыку, еще хуже — живопись и архитектуру; с массовой культурой, в особенности музыкальной, он знаком в тех объемах, которые неизбежно и против воли получает каждый гражданин, проходящий мимо включенного телевизора. Те сферы, которые ему знакомы хуже, автор освещает конспективно, ограничиваясь беглыми характеристиками и перечнем имен, а также ссылкой на книги, где читатель при желании может получить больший объем информации. А то, что автору неинтересно, он пропускает вовсе, потому что угодить всем никогда не входило в его задачи.
Вступление
Начало нового века было ознаменовано в России синхронным появлением нескольких шедевров в разных жанрах.
Лев Толстой опубликовал, хотя и со значительными цензурными купюрами (вылетело около семидесяти страниц, в том числе все описание богослужения в тюремной церкви), свой третий и самый авангардный роман «Воскресение» — уникальный сплав судебной драмы, любовной мелодрамы и публицистики. Журнальная публикация («Нива») началась в марте 1899 года, отдельное издание вышло в 1900-м. «И вот на таких-то созданиях кончается XIX век и наступает ХХ», — писал автору ведущий арт-критик Владимир Стасов. Роман Толстого (с учетом опыта ХХ века) можно назвать фаустианским. Это история мятущегося интеллектуала, который губит влюбленную в него женщину. Героиня с неизбежностью гибнет, выводимая из темницы. В сюжете присутствуют демонический или по крайней мере соблазняющий покровитель главного героя, гибель героини и рождение мертвого ребенка, олицетворяющего новое, нежизнеспособное общество. Все эти элементы (ниже я буду подробно об этом говорить) присутствуют в «Фаусте» Гете, выборочно опознаются в «Фаусте» Тургенева, появляются в «Воскресении» и в развивающих его руских романах ХХ века: «Тихом Доне», «Докторе Живаго», «Хождении по мукам», цикле сказов «Малахитовая шкатулка» — и даже, страшно сказать, «Лолите». «Воскресение» предсказывает главный сюжет русского ХХ века — короткий медовый месяц революции, когда страна и одаренный герой принадлежат друг другу, и их неизбежная разлука, в ходе которой сперва погибает она, а потом и он, задохнувшийся (часто буквально) в новом вакууме. В толстовском романе предсказание еще более буквально — Россию растлил дворянин-интеллектуал Нехлюдов, а досталась она марксисту Симонсону. Толстой намеревался написать второй том романа, но не успел. Вероятно, его следовало бы назвать «Понедельник». Его сюжетом могло бы стать возвращение Нехлюдова с каторги — в том числе к прежней жизни; возможно, в конце он пошел бы в обычную сельскую церковь — и нашел там провинциального сельского Бога, которого тщетно искал в столицах и тюрьмах; по крайней мере, такой вираж в русском общественном мнении был, и очень возможно, что во глубине России действительно сохранилась невостребованная человечность; но генеральная конструкция — с тюрьмами, крепостями и соборами — скомпрометировала себя окончательно. Возможно, толстовский побег из Ясной Поляны — одно из главных событий русской культуры ХХ века — был как раз бегством в ту предполагаемую глубинную Россию, но именно Толстой наглядней всех показал, чем это кончается.
Антон Чехов закончил (1903) и отдал для постановки в Московский Художественный театр свою последнюю пьесу «Вишневый сад» (премьера состоялась 17 января 1904 года) — литературное и человеческое завещание. Достоин изумления огромный и стремительный путь, пройденный русской драматургией за сто лет: 1798 год — «Ябеда» Капниста, последний шедевр русского классицизма, 1903 — «Вишневый сад», начало абсурдизма, когда герои говорят одно, думают другое, чувствуют третье, а делают четвертое.
Постановка пьесы, сопровождавшаяся сенсационным успехом, самого Чехова не удовлетворила: он писал «веселую пьесу». Разумеется, ничего веселого в «Вишневом саде» не происходит, но жанровое определение «комедия» играет у Чехова ту же роль, что в начале музыкального произведения allegro или moderato. Это надо играть как комедию, чтобы подчеркнуть трагизм содержания; если же играть пьесу в мрачно-похоронном духе, не выявится ее глубокий и новаторский абсурд. Ключевым персонажем является гувернантка-приживалка Шарлотта.
«Шарлотта (берет узел, похожий на свернутого ребенка). Мой ребеночек, бай, бай…
Слышится плач ребенка: „Уа, уа!..“
Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.
„Уа!.. уа!..“
Мне тебя так жалко! (Бросает узел на место.) Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так».
Все герои пьесы ищут себе места и не находят, и неизвестно еще, кому больше повезло: Лопахину, который купил вишневый сад, или Раневской, которая уехала в Париж. Тринадцать лет спустя Париж уж точно более надежное место. Пьеса с ее похоронно-фарсовым тоном предсказала мистерии русских абсурдистов тридцатых годов, и прежде всего «Елизавету Бам» Хармса, для которого Чехов был божеством. Сам Чехов обрисовал в ней наиболее типичные фигуры и судьбы русского ХХ века — обреченность интеллигента в первом поколении, умудрившегося так выдавить из себя раба, что почти ничего не осталось. Он смоделировал судьбы и Шукшина, и Трифонова — с их прозой, обладавшей глубоким подтекстом, трагифарсовой кинодраматургией и ранней смертью. Впрочем, наверное, и Константин Симонов видел в себе нечто лопахинское — иначе не назвал бы своего альтер эго Лопатиным в автобиографическом романе с откровенным заглавием «Так называемая личная жизнь»; и Симонов действительно вел себя в русской литературе с застенчивой наглостью Лопахина, понимавшего, что и слава, и Муза достались ему не совсем по праву, а потому, что настоящие хозяева уехали или умерли. Фирса они при этом забыли.
На протяжении всего ХХ века русская литература оплакивала свое усадебное прошлое, которое похоронил уже Чехов (а закопал Бунин). Эта тема развивалась и в шестидесятые, когда советским гражданам стали раздавать дачи — немедленно пришедшие в упадок, в полном соответствии с матрицей; расцвет дачной (усадебной в редуцированном виде) темы пришелся на семидесятые, а в девяностые они стали уже почти никому не нужны. Дачно-усадебная тема традиционно накладывается на матрицу семейного упадка, то есть вырождения, ибо каждое поколение отцов в силу русского циклического развития оказывается в оппозиции к поколению детей. «Вишневый сад» — классическая драма вырождения, причем вырождается всё, включая лакеев: место патриархального Фирса занимает наглый Яша, равно презирающий и господ, и своего брата крестьянина. Несомненна антиинтеллигентская направленность «Вишневого сада»: в русской культуре ХХ века только ленивый не пинал интеллигенцию, поскольку больше пинать было некого — пролетариат и крестьянство превратились в новых крепостных и утратили всякую субъектность. Поистине Чехов отчасти схож с Лопахиным, который скупил вишневый сад русской литературы только для того, чтобы вырубить его. Но главное пророчество пьесы содержится в ее последних словах: «Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... <…> Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего...» Сама метафора — «человека забыли» — для главных событий столетия оказалась ключевой: всё во имя человека, всё для блага человека, гласила программа партии 1961 года, документ чисто формальный, хотя и требовавший постоянных ссылок; но именно человек оказался забыт. К финалу «Вишневого сада» реферирует Пастернак в одном из самых безысходных текстов: «И я испортился с тех пор, / Как времени коснулась порча, / И горе возвели в позор, / Мещан и оптимистов корча. // Всем тем, кому я доверял, / Я с давних пор уже не верен. / Я человека потерял / С тех пор, как всеми он потерян».
Михаил Врубель закончил и выставил на вернисаже объединения «Мир искусства» (январь 1902) последнюю часть триптиха о демоне — «Демон поверженный». До самого открытия выставки Врубель пытался исправить лицо Демона — оно все казалось ему недостаточно отчаянным; к концу 1902 года у Врубеля было диагностировано психическое расстройство на почве прогрессирующего паралича, ставшего следствием сифилиса. Шесть лет спустя Врубель ослеп, восемь лет спустя — умер. «Демон поверженный» — предсказание о судьбе русского модернизма с его наивным демонизмом, мозаичной пестротой и трагическим финалом. Поверженным демоном оказалась в итоге и вся Россия, доверившаяся демоническому покровителю и, как всегда, обманутая им.
Модерн, как мы знаем, вообще не самая радостная и не самая гуманистическая эпоха: к нему прибегают, когда особый путь уже завел в тупик. (Там, где этот особый путь не выдумывают, обходятся без радикальных обновлений). Модерн возникает там, где традиционные ценности вошли в противоречие с ходом истории. Врубель и это почувствовал, написав в 1898 году «Богатыря» — чудовищного (при этом сияющего) толстяка на толстом коне, больше похожем на диплодока. Ровно про такого всадника Розанов спустя десять лет писал: «Ну, какой конь Россия, — свинья, а не конь... Не затанцует. Да, такая не затанцует, и, как мундштук ни давит в нёбо, матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке и ни под какую музыку... Тут и Петру Великому „скончание“, и памятник Фальконета — только обманувшая надежда и феерия». Кажется, именно этого богатыря желал изваять Паоло Трубецкой, сооружая свой памятник Александру III: «Комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот». Кажется, после демона поверженного опять пришло время богатыря — да где там! Этот богатырь уже сделал все, что мог: залез в чащу и застыл. Дальше ехать некуда. Врубель наверняка мыслил свою работу как иллюстрацию к сказке Салтыкова-Щедрина, так и называвшейся — «Богатырь» (1886): «Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. „А ведь Богатырь-то гнилой!“ — молвили супостаты и ринулись на страну. <...> Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели».
Примерно это мы сейчас и наблюдаем, с учетом того обстоятельства, что гадюки живехоньки и хотят заменить собою богатыря, на что имеют полное право — ведь он теперь, как бы сказать, в них преобразился.
Летом 1900 года Александр Скрябин закончил свою Первую симфонию ми мажор, соч. 26. Для финальной части он написал хор, который не прозвучал при первом исполнении (11 (24) ноября 1900) и не всегда исполняется сейчас, но Скрябин, сам написавший текст, придавал ему исключительное значение: «О дивный образ Божества, / Гармоний чистое искусство! / Тебе приносим дружно мы / Хвалу восторженного чувства. // Ты жизни светлая мечта, / Ты праздник, ты отдохновенье, / Как дар приносишь людям ты / Свои волшебные виденья. // В тот мрачный и холодный час, / Когда душа полна смятенья, / В тебе находит человек / Живую радость утешенья. // Ты силы, павшие в борьбе, / Чудесно к жизни призываешь, / В уме усталом и больном / Ты мыслей новый строй рождаешь <...>. Придите, все народы мира, / Искусству славу воспоём! // Слава искусству, / Вовеки слава!» Здесь отражены представления Скрябина об искусстве как мировой мистерии, «общем деле» в духе философии Федорова, о синтезе всех искусств — музыки, поэзии, живописи — в грандиозном светомузыкальном представлении. На протяжении ХХ века народы мира, как известно, только и делали, что пели славу искусству и предавались синтетическому музицированию. Век двух мировых войн, множества революций и глобальных разочарований заставил слушателей иначе смотреть на Скрябина. Может быть, поэтому его скептически оценивал Шостакович («навязчивые эротические идеи»), который видел реальные кошмары ХХ века, и на их фоне страсти Скрябина и его мистерии в самом деле выглядят то ли избытком эмоций, то ли недостатком вкуса. Если сравнивать Скрябина с Шостаковичем, поневоле вспоминаются слова Ахматовой: «Достоевский… думал, что если убьёшь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить пять, десять, сто человек и вечером пойти в театр».
17 апреля 1900 года (на два дня позже официального открытия) стартовали русские павильоны Парижской выставки. На манифестацию русской промышленности, живописи и архитектуры Россия потратила почти пять с половиной миллионов рублей, из которых два с половиной выделило правительство. Выставка установила побитый лишь в 1967 году рекорд посещаемости публичных мероприятий — 50 млн человек и вызвала международный восторг. Три павильона сконструировал главный архитектор русского модерна Федор Шехтель, вместе с ним в выставке участвовали Роберт-Фридрих Мельцер (официально главный архитектор русского отдела), Александр фон Гоген, Владимир Цейдлер. Встреча нового века ознаменовала триумф России, продемонстрировавшей небывалый промышленный и культурный рост, и победу эстетики ар-деко, которая, в свою очередь, определила развитие русского архитектурного модерна.
ХХ век ознаменовался крахом почти всех возложенных на него надежд (кроме выхода в космос, предсказанного и осуществившегося). Наибольший контраст начало и конец века являют собой именно в России, с которой в 1900-е связывались главные надежды, а в 2000-е и последующие годы — главные угрозы. Именно России выпало олицетворять стержневую тенденцию ХХ века — надежды на новое человечество и тотальное разочарование в самом проекте «человек».
Исторический фон
Русская культура (далее РК) — порождение извращенной и обреченной социальной системы, следствие патологических процессов, которые сделали культуру (и прежде всего литературу) единственной формой общественной активности в России. Литература заменила и политику, и социологию, и любые формы социального творчества (агитацию, выборы, дискуссии), и в значительной степени религию. Как амбра в желудке кашалота — ценнейшее вещество, появление которого становится, однако, следствием патологических процессов, — русская литература возникла из централизации власти, насилия верхов, бессилия низов, свирепой цензуры и запрещенной философии; в ней — как в космическом полете 1961 года — воплотились все скрытые силы народа, но это интереснейшее и болезненное явление несет на себе отпечаток всех национальных недугов. В сущности, российская культура (и преимущественно литература, ибо Россия логоцентрична) — единственное, что осталось от затонувшей Атлантиды русской цивилизации. Окупает ли она трагедию русской цивилизации — вопрос открытый и теперь уже не принципиальный: «Что свершено, то свершено».
Русская цивилизация — специфическое общественное устройство, при котором вертикальная структура общества поддерживается и обеспечивается непрерывным поиском врагов, внешних и внутренних. Во главе общества неизменно стоит сатанистская секта, главное наслаждение которой — пытать и запугивать. В сущности, русская государственность не преуспела ни в чем, кроме изобретательных и тщательно продуманных пыток — не только физических, но и моральных: страх, травля, внушение комплекса вины, моральной ответственности и неполноценности. Для этой сатанистской секты характерны культ силы, ненависть к любым проявлениям солидарности, милосердия, понимания и т. д. В основе российской власти — уверенность в том, что моральные, а отчасти и физические законы на Россию не распространяются: у нее особый путь и свои специфические цели. Россия — государство, предназначенное для решения любых проблем силовыми методами, государство воинственное, презирающее любые сантименты и весьма сентиментальное только в отношении себя: мы самые добрые и бедные, поэтому сейчас всех убьем.
Разумеется, эта людоедская философия не всегда определяла международную и внутреннюю политику России. Но подспудно эта матрица лежала в основе любых российских изменений и возобновлялась в народном сознании по первому приказу. Россия всегда готова была отсроиться в диктатуру, а периоды просветлений и реформ считала отклонением от нормы, а не возвращением к ней. Все это подробнее описано в текстах Дмитрия Мережковского. Его статья «Головка виснет» была и остается точнейшим описанием российской социокультурной ситуации: «Мы утешаемся тем, что побеждены „силою штыков“ и что реакция наша — случайная, внешняя, политическая. Но так ли это в действительности? Не в том ли главный ужас наш, что переживаемое нами внешнее отступление есть внутреннее отступничество, что наша явная политика есть тайная метафизика? У других народов реакция — движение назад; у нас — вперед, подобно течению реки, стремящейся к водопаду, к еще невидимой, но уже притягивающей, засасывающей пропасти. У других народов реакция — от революции; у нас революция или то, что кажется ею, от реакции: чересчур сдавят горло мертвой петлей — и мы начинаем биться в судорогах; тогда петлю стягивают крепче — и мы цепенеем вновь. У других народов реакция есть явление вторичное, производное; у нас — первичное, производящее: не убыль, а прибыль, не минус, а плюс — хотя, конечно, ужасный и отвратительный плюс. Кажется иногда, что эта первичная реакция есть prima materia, первозданное вещество России; что сердце наших сердец, мозг наших костей — этот разлагающий радий; что Россия значит реакция, реакция значит Россия. Кажется иногда, что в России нет вовсе революции, а есть только бунт — январский, декабрьский, чугуевский, холерный, пугачевский, разинский — вечный бунт вечных рабов».
Так это было. Сейчас это кончилось, поскольку ресурс воспроизводства этой системы иссяк, а ее идеология окончательно скомпрометирована предельной глупостью и нерациональностью управления, многими веками отрицательной селекции. Россия слишком долго жила жизнью болота, но это болото накопило критические запасы торфа и стало общественно опасно, ибо желает отравить болотным газом, а потом поджечь весь окружающий мир. Такая тактика не может больше рассчитывать на понимание.
Российская культура — больное порождение больной системы, драгоценная и уникальная болотная флора и фауна, обреченная погибнуть вместе с болотом. В ситуации, когда культура является единственным оправданием политической системы, рано или поздно она сама для себя начинает оправдывать эту систему — как создателя и гаранта той среды, в которой только и возможна эта культура. Эволюция русской словесности в сторону фашизма вполне естественна: деятели культуры защищают и благословляют даже не тех, кто их кормит. Они благословляют тех, кто создал невыносимую для жизни, но благотворную для искусства среду; разумеется, эта благотворность относительна и временна, но другой среды тут не знали никогда и панически ее боятся. Русская культура привыкла к мысли, что ее упоминают после «но»: да, все вот это, но балет! Но семейный роман! Но черная икра! Ей невдомек, что черную икру давно уже лучше и дешевле раскаладывают по баночкам в десятке других мест, балет процветает в сотне современных театров, а романов семейного упадка давно не читают. Но даже если бы всё это были востребованные и благотворные шедевры (включая русскую гастрономию), это не окупало бы постепенного заражения человечества миазмами фашизма и уж тем более не окупало бы той глобальной катастрофы, к которой Россия сегодня стремительно движется.
Так что, если человечество окажется перед выбором — потреблять ли и дальше русскую культуру или избежать всемирной катастрофы, оно как-нибудь соскочит с иглы, то есть с романа, балета и икры.
Тематические особенности
История культуры — не перечень имен, дат и текстов, но прежде всего обзор тенденций и выявление инвариантов. Судьба российской культуры ХХ века определялась пятью главными факторами.
1
Российская история циклична, главные ее события внутри каждого столетнего цикла повторяются, и это приводит к самовоспроизводству одних и тех же исторических фигур. Подобно континентальному календарному году, исторический цикл состоит из четырех стадий: революция — заморозок — оттепель — застой. Для заморозка характерна нарастающая внешняя угроза, которую старательно накачивают, видя в ней оправдание внутренних репрессий. Это напряжение в обществе разряжается масштабной войной. Оттепель сопровождается бурным расцветом талантов, взрывным развитием театра (и в ХХ веке — кинематографа), неоправданными, но заразительными и плодотворными общественными иллюзиями. Еще плодотворней, однако, оказывается период застоя, когда на смену оттепельным надеждам приходят трезвые прозрения и благородный стоицизм. Так называемый Серебряный век русской культуры (1890–1917) пришелся как раз на период застоя, он повторился в 1970-е годы с такими же блестящими результатами.
Каждая фаза четырехтактного исторического цикла маркирована повторяющимися вехами: революция ознаменована бунтом прежних элит — стрелецкий мятеж, Кронштадтский мятеж и сопровождавшая его Вандея почти по всей России, ГКЧП. Контрреволюция, то есть заморозок, сопровождается бунтом новых элит, не желающих превращаться в винтики (заговор Волынского, декабристский мятеж, демарш Ходорковского). Конец оттепели всегда сопровождается арестом ее идеологов, поверивших в необратимость реформ. О наступающем после оттепели застое вспоминают как о золотом веке (за исключением эпохи Павла I, никак не желавшего примириться со своей исторической ролью и нарушавшего сон Отечества).
Немудрено поэтому, что почти каждая значительная фигура в культуре ХХ века имеет прототип в XIX или в начале столетия. Иногда эти совпадения бывают поразительно наглядны. Попробуйте угадать, о ком я говорю: писатель с математическим образованием, в юности радикал, в старости консерватор. Впервые опубликовался в наиболее популярном и прогрессивном журнале, главным редактором которого был крупный поэт крестьянской тематики. Стал жертвой политических репрессий, написал об этом документальный роман, принесший ему всемирную славу. Ссылку отбывал на территории нынешнего Казахстана. Дважды женат: отношения с первой женой сложные, вторая стала личным секретарем и идеальной помощницей, а также впервые подарила писателю радость отцовства. Ключевая сцена наиболее известного произведения — диалог Ивана с Алешей. Автор на протяжении всей жизни болезненно интересовался проблемой русского национализма (принципы которого разделял) и еврейским вопросом (которому посвятил острополемическую работу). Главный жанр — философские романы, тесно связанные с главными политическими дискуссиями эпохи. Писатель носил бороду и всем напиткам предпочитал крепкий чай.
Если я провожу этот эксперимент на лекции, половина студентов немедленно кричит: Достоевский! Другая — Солженицын! Обе категории правы, ибо все сказанное идеально приложимо к биографиям двух самых популярных на западе русских писателей. Поиски прототипов и новых инкарнаций — чрезвычайно увлекательное занятие, почти детектив. Иногда наглядность буквально зашкаливает: рассмотрим случай Некрасова. Он последний крупный русский поэт, сочетавший патриотизм с гражданственностью: дальше эти тенденции разошлись до несовместимости. Некрасов страдал биполярным расстройством, отраженным в поэтическом диалоге «Поэт и гражданин»: разумеется, это диалог внутренний, ибо упреки Гражданина Поэту Некрасов неоднократно адресует самому себе (например, в «Рыцаре на час»). Это мучительное раздвоение в следующей инкарнации привело к тому, что Некрасов как бы поделился ровно пополам на две новые ипостаси — на Маяковского и Есенина, которые испытывали как страстное взаимное тяготение, так и резкое отталкивание на грани вражды. Его биографические особенности и приоритетные темы тоже разделились пополам: Маяковскому достались игромания, революционность, тройственный семейный союз (Панаевы у Некрасова, Брики у Маяковского), редактирование журнала и урбанистическая лирика, тема жадного города, пожирающего молодость и силы. Есенин унаследовал брак с иностранкой (Некрасов прожил десять лет с французской актрисой Селиной Лефрен, Есенин три года — с Айседорой Дункан), запои на грани алкоголизма, сельская лирика и патриотический надрыв. Именно теме двойничества посвящена поэма Есенина «Черный человек», тайным героем которой является Маяковский, да и сам дольник, которым она написана, заставляет скорее вспомнить интонации и ритмы Маяковского. Сравним: «Что же нужно еще / Напоенному дремой мирику? Может, с толстыми ляжками / Тайно придет „она“, И ты будешь читать / Свою (дохлую) томную лирику?» (Есенин). «Прости меня, Лиленька, миленькая, / За бедность словесного мирика. / Книга должна называться „Лиленька“, / А называется „Лирика“» (Маяковский).
Впоследствии эту же драму доигрывали Бродский и Высоцкий: Бродскому достались урбанизм, гротескное снижение традиционных лирических тем, западничество, Высоцкому — жена-француженка, алкоголизм и гражданский пафос плюс одна из главных ролей в драматической поэме Есенина «Пугачев». Высоцкий — автор стихотворения о темном двойнике «Мой черный человек в костюме сером». Бродский почти дословно повторял применительно к Высоцкому оценки, которые давал Есенину Маяковский. Чтобы убедиться в глубоком внутреннем родстве Бродского и Некрасова, достаточно прочесть стихотворение Бродского («Подражая Некрасову, или Любовная песнь Иванова»).
Нельзя не увидеть таких же параллелей в судьбах Жуковского, Блока и Окуджавы (музыкальность, сочетание рыцарских и пацифистских мотивов, близость скорее к сентиментализму, нежели к романтизму; отдельные забавные рифмы можно усмотреть между поэмами «Двенадцать» и «Двенадцать спящих дев»). Многое сближает ведущих идеологов двух главных журналов двух переломных эпох — «Современника» и «Нового мира»: Николай Чернышевский и Андрей Синявский интересовались проблемами эстетики, написали глубокие книги о Гоголе, были мужьями знаменитых красавиц, умных и притом легкомысленных, — и оба сели в начале очередного заморозка. Оба писали автобиографические романы с выраженным сатирическим элементом, прибегая к сложному синтезу жанров («Повести в повести» и «Спокойной ночи»).
Еще более разительные сходства очевидны в случае Бабеля и Гоголя (особенно если сравнить эпос о семье Менделя Крика с историей сыновей Тараса Бульбы). Правда, Гоголь сам сжег последнее сочинение, а у Бабеля его отобрала Лубянка, и если от книги Гоголя остались пять глав, то от последнего цикла Бабеля — всего три рассказа. Из Михаила Шолохова старательно лепили нового Льва Толстого (а из станицы Вешенской — новую Ясную Поляну). Биография, проза и драматургия Чехова предопределили судьбу, кинодраматургию и творческую манеру Шукшина, прожившего почти столько же. Биографии Гумилева и Лермонтова, тема Востока в их поэзии, колониалистская тематика и военная карьера тоже наводят на мысль о том, что русская история пишется кем-то для неопытного читателя, которому надо все буквально разжевать. (Достаточно синхронно прочитать «Мцыри» и «Мика» — две поэмы о пленном дикаре-найденыше, написанные четырехстопным ямбом, двустишиями с мужскими рифмами, восходящие к общему образцу, а именно к «Шильонскому узнику» Байрона.)
Разумеется, литературой эти переклички не ограничиваются: в политике мы видим цепочки родственных персонажей: Меншиков — Троцкий — Березовский, Волынский — Пестель — Тухачевский — Ходорковский, Шафиров — Вышинский — Сурков, а прямые аналогии между Лениным и Петром не отслеживались только ленивыми. Эта повторяемость биографий и главных тем приводит к тому, что русская литература — и культура в целом — продолжает вариться в одном и том же супе с похожими сюжетами и роковыми вопросами, не имеющими ответа именно потому, что они ошибочно сформулированы. В них противопоставляются взаимообусловленные вещи — Родина и истина, свобода и порядок: одно без другого невозможно, а потому и противопоставление их приводит к дурной бесконечности неверных ответов.
2
Русская культура исследует три основных сюжета, к которым и сводится все ее разнообразие на протяжении последних двух веков. Это, во-первых, классицистское противопоставление чувства и долга (Родины или истины), устаревшее уже к XVIII веку. Во-вторых, это конфликт (дуэль) лишнего человека со сверхчеловеком: Онегина с Ленским, Грушницкого с Печориным, Павла Кирсанова с Базаровым, Лаевского с фон Кореном. В-третьих, это конфликт сильной женщины и слабого мужчины (мужчина слаб именно потому, что встроен в социальную иерархию и вынужден к ней приспосабливаться). Таковы конфликты тургеневских девушек с их возлюбленными («Ася», «Первая любовь», «Рудин»), Анны Карениной — с Карениным, Наташи Ростовой — с князем Андреем, Катерины — с Тихоном и Борисом, Настасьи Филипповны — с Мышкиным, Веры Павловны — с Лопуховым. К этим трем противопоставлениям сводится практически все, что написано в России в XIX—ХХ веках. В силу этого в русской литературе почти не представлены — или представлены слабо — романы воспитания и взросления, романы карьеры, религиозная и подростковая проза, а семейные романы являются в основном романами семейного упадка, где опять-таки старая и сильная героиня противостоит молодому и слабому герою; классический пример — «Господа Головлевы». Русское презрение к роману карьеры замечательно выразил корифей русского эпоса Лев Толстой: «Герой романа уже начинал достигать своего английского счастия, баронетства и имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого».
Советские романы о трудовых династиях — скажем, «Журбины» В. Кочетова — тоже повествовали главным образом о вырождении: гибель старых профессий и замена их новыми, отказ от палочной трудовой дисциплины ради инициативы, автоматизация вместо грубого физического труда, уход молодежи в город из деревни — все это описывается как крушение уклада и отнюдь не вызывает исторического оптимизма. Роман семейного упадка — специфически русский жанр, чем и предопределена колоссальная популярность в России «Саги о Форсайтах» и «Семьи Тибо». «Семья Ульяновых» Мариэтты Шагинян — тоже роман семейного упадка, замаскированный под жизнеописание вождя: сам Ленин, любивший подчеркивать свое дворянское происхождение, — результат не формирования нового класса, а разложения старого. В этом причина чувства исторической обреченности, которое нередко накрывало его самого — и выражалось как в советском культе павших борцов, так и в припадках бессильной злобы, периодически его терзавших.
3
Русская культура тесно связана с политикой, поскольку является, с одной стороны, объектом ревностной и пристрастной государственной заботы, а с другой — объектом столь же пристрастной удушающей цензуры. Культуру губят и пестуют одновременно, в психологии это называется «террор любовью». Русская культура играет роль национальной религии, а также берет на себя функции богословия, философии, общественных дисциплин. Русская культура служит главной темой дискуссий в интеллигентском сообществе.
Вопрос об интеллигенции, то есть главном потребителе русской культуры, заслуживает отдельного рассмотрения. Интеллигенция — средний класс, которому нет места в политике, и он реализуется в гуманитарной сфере или работает на государство в обороне. Существование культуры в России возможно лишь потому, что есть эта прослойка, то есть лучшая, просвещенная часть народа, которая заинтересована в гуманизации государства.
Важная оговорка: все это относится к той русской культуре и тесно связанной с ней государственности, которая существовала до 2022 года. В феврале 2022 года были запущены самоубийственные процессы, которые делают этот круг российской истории последним и позволяют говорить о русской цивилизации как об Атлантиде или «Титанике», кому что ближе.
С этой же особенностью русской культуры тесно связан ее генеративно-репрессивный характер. Она в самом буквальном смысле порождает новые поколения творцов лишь для того, чтобы их истребить: каждая революция выводит в жизнь новые поколения певцов, которых душит заморозок с его репрессиями. Каждая оттепель дает шанс нескольким сотням талантливых и лояльных творцов, которых истребляют силы социального и культурного реванша. РК в силу этой закономерности делается в основном молодыми: дожить до старости умудряются главным образом конформисты вроде Федина. Лоялистам везет не всегда: в пароксизмах репрессий их истребляют первыми, чтобы не забегали впереди паровоза (таков случай всех вождей РАППа). Если русскому поэту или художнику везет после заморозков дожить до оттепели, у него случается несколько поздних удач, которые, однако, значительно уступают ранним (Луговской, Светлов, Эренбург). Некоторым эмигрантам даже случается вернуться на Родину — впрочем, ненадолго, чтобы еще раз оценить правильность сделанного выбора.
4
Важной особенностью РК ХХ века является ее радикальный модернизм. Как сформулировал поэт (и коллекционер) Игорь Губерман, русского модерна обычно не любят те, у кого не хватает денег его купить.
Русская революция 1917 года (февраль) и большевистский переворот (октябрь) могут с полным правом называться не социальными (и уж тем более не пролетарскими, буржуазными и т. д.), а культурными. Происходит все, как в сказке русского трагического писателя Всеволода Гаршина, покончившего с собой в припадке безумия в тридцатитрехлетнем возрасте: в теплице, в помещении влажном и душном, растет высокая царственная пальма. Она растет так стремительно, что проламывает крышу теплицы — и на свободе, в холоде, гибнет сама, а заодно губит всех, кто в этой теплице мирно жил и ни к какой свободе не стремился. Русская политическая жизнь, весьма архаичная и примитивная, бесповоротно отстала от культурной. Самодержавие, зачаточный парламентаризм, тотальная цензура, навязанная религиозность, архаичная общественная жизнь при полном отсутствии институтов — все это никак не соответствовало стремительному росту российской экономики и связанному с ней взрывному развитию всех форм культуры. Это противоречие оказалось неразрешимо и привело к взрыву — но особенность культурных взрывов в том, что они не только разрушают, но и созидают. Освободившись, РК создала в двадцатые годы несколько выдающихся шедевров — в прозе, поэзии, музыке, театре, кинематографии; закрепощение тридцатых привело к серьезному кризису и резкому понижению художественного качества, но война ненадолго вернула свободу и напомнила о базовых человеческих ценностях. Во второй половине сороковых — мрачнейшем периоде российской истории ХХ века — стареющий диктатор деградировал, восторжествовали пещерная ксенофобия и нацизм, которым РК заразилась от Германии при слишком тесном контакте. Логика была такова: если мы победили самую сильную армию мира, значит, нам нет равных и мы нация сверхлюдей. Отсюда оставался только шаг до того, что философ Владимир Соловьев называл национальным самообожанием и самообожествлением.
После смерти Сталина настала «оттепель», довольно радикальная поначалу, но быстро ограничившаяся умеренными реформами. Чем больше времени проходило со дня смерти Сталина, тем охотнее забывались кошмары эпохи и охотнее вспоминалось ее величие. Период застоя (впервые обозначенный так в пьесе Леонида Зорина «Царская охота»: «Великой державе застой опаснее поражения», — говорит Екатерина II своему фавориту) загнал Россию в очередной тупик, привел к тотальному разочарованию, и перестройка, начавшаяся как косметический ремонт, завершилась новой революцией. Революция обычно сопряжена с гибелью так называемых пальм, то есть тех, кто был заинтересован в свободе — и разрушил условия собственного существования.
5
Русская культура эсхатологична и базируется на хроническом ожидании последних времен (или «Ревизора»); в ХХ веке эта тема звучит особенно остро. РК всегда сознавала болезненность и неестественность своего существования и всегда жила в ожидании расплаты — того Хлестакова или Угрюм-Бурчеева, который приедет и всех уничтожит; того ОНО, которое прилетит, как в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина; того инспектора из райкома, который приедет в отсталый колхоз, как в «Падеже» Владимира Сорокина. На последнем круге русской культуры (1985–2022) жанр антиутопии преобладал везде, от кино до оперы. Апокалиптические предчувствия мощно звучат в поэзии Брюсова («Конь блед») и третьем томе лирики Блока, а сам Блок в качестве персонажа появляется в «Розе мира». Можно сказать, что вся лирика и большая часть прозы ХХ века — развитие тем и идей, намеченных Блоком, и его тень лежит поперек всей словесности последних ста лет. Говорил же один из самых умных русских критиков, что, если бы перед ним стоял выбор — оставить ли от всей русской литературы только «Двенадцать» Блока или уничтожить поэму, но спасти весь остальной корпус текстов, он бы по крайней мере серьезно задумался.
Но поздний Блок с его даром называть вещи своими именами создал не только «Двенадцать», но и один из шедевров русской прозы — рассказ «Ни сны, ни явь», который сам Пастернак называл гениальным. Эти наброски подводят итог XIX столетию и задают главные силовые линии XX: «Соседние мужики никогда еще так не пели. Мне неловко сидеть, щекочет в горле, хочется плакать. Я вскочил и убежал в дальний угол сада. После этого все и пошло прахом. Мужики, которые пели, принесли из Москвы сифилис и разнесли по всем деревням. Купец, чей луг косили, вовсе спился и, с пьяных глаз, сам поджег сенные сараи в своей усадьбе. Дьякон нарожал незаконных детей. У Федота в избе потолок совсем провалился, а Федот его не чинит. У нас старые стали умирать, а молодые стариться. Дядюшка мой стал говорить глупости, каких никогда еще не говорил. Я тоже — на следующее утро пошел рубить старую сирень.
Сирень была столетняя, дворянская: кисти цветов негустые и голубоватые, а ствол такой, что топор еле берет. Я ее всю вырубил, а за ней — березовая роща. Я срубил и рощу, а за рощей — овраг. Из оврага мне уж ничего и не видно, кроме собственного дома над головой: он теперь стоит, открытый всем ветрам и бурям. Если подкопаться под него, он упадет и накроет меня собой».
В одном этом отрывке — и Хармс, и Мамлеев, и Сорокин с его «Романом». Пророческий дар Блока во многом предопределен его любовью, как выражался он сам, к гибели, то есть к апокалиптике. Поистине, в этом главном русском поэте ХХ веке сходятся все основные темы русской литературы и приметы местной судьбы. Он прожил лишь на три года дольше классических поэтических тридцати семи и умер от ревмокардита, который не умели тогда диагностировать, но сам себе поставил исчерпывающий диагноз в предсмертной речи о Пушкине: «Пушкина убила… вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его Культура». Все слушатели Блока понимали, что он прощается с аудиторией и с жизнью. Блок — последний голос дворянской культуры, и после него, в сущности — после 1921 года, когда умер Блок и расстреляли Гумилева, — русская культура вела существование посмертное; советский прорыв — попытка вырваться за грань земного тяготения, за полярный круг, за традиционные сферы человеческого обитания в сверхчеловеческие напряжения и сверхчеловеческую мораль, и эта попытка была обречена, ибо за пределами человеческого нет жизни.
Советский проект и надорвался: он получал все более сильные гальванические удары в 1917, 1937, 1941, 1961 — но по большому счету это были именно сокращения мышц уже мертвого тела после токовых шоковых ударов. В 1991 году этот кадавр начал разлагаться, теряя окраины, органы, память. Сегодня мы имеем дело уже с зомби, повторяющим тезисы славянофильства 1840-х годов в интерпретации русских космистов 1920-х; ничего нового не говорится уже давно. Но ведь именно это Блок и предчувствовал: «Как тяжело ходить среди людей / И притворяться непогибшим, / И об игре трагической страстей / Повествовать ещё не жившим. // И, вглядываясь в свой ночной кошмар, / Строй находить в нестройном вихре чувства, / Чтобы по бледным заревам искусства / Узнали жизни гибельной пожар!»
Эта же навязчивая тема зазвучала в цикле «Пляски смерти»: «Как тяжко мертвецу среди людей / Живым и страстным притворяться! / Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей… // Живые спят. Мертвец встает из гроба, / И в банк идет, и в суд идет, в сенат… / Чем ночь белее, тем чернее злоба, / И перья торжествующе скрипят». Это тот же скелет, что кривляется и пляшет в графике Константина Сомова — одного из ведущих художников Серебряного века; это его «Арлекин и смерть», где Арлекину и Смерти, кажется, одинаково скучно друг с другом. В том же цикле Блок описал ужас бесконечного цикла, только уже не поэтического, а исторического: «Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет... / Живи еще хоть четверть века — / Все будет так. Исхода нет. // Умрешь — начнешь опять сначала, / И повторится все, как встарь: / Ночь, ледяная рябь канала, / Аптека, улица, фонарь». Если бы четверть века! Но трупный яд не может бесконечно отравлять человечество — рано или поздно покойника придется закопать.
Все поэты условно делятся на риторов и трансляторов: трансляторы (Блок, Жуковский, Бальмонт) слышат звук эпохи и передают его, молчат во времена бессодержательные, но в переломные и значительные эпохи пишут до десятка стихотворений в день, словно во власти мощного и стремительного потока. Риторы, напротив, дают словесное оформление главным тенденциям, слышат носящиеся в воздухе слова, но абсолютно глухи к звуку времени. Ритор, как правило, умнее транслятора и очень часто популярнее, поскольку именно его словарные формулы превращаются в газетные, а иногда и книжные заголовки; сами риторы, однако, перед трансляторами всегда комплексуют, осознавая некую их изначальную первосортность, более прямую причастность к веществу жизни как таковой. По свидетельству Льва Никулина (был такой друг чекистов, автор романов-хроник, предшественник Юлиана Семенова), Маяковский говорил: у меня из десяти стихотворений пять хороших, а у Блока два. Но таких, как эти два, мне не написать. Вероятно, именно это имел в виду Луначарский, говоря: у нас две революционные поэмы, «150 000 000» Маяковского и «12» Блока; но иногда 12 больше, чем 150 000 000. Это не принижает Маяковского: Блок высоко оценил «Облако в штанах» и посоветовал автору никого не слушать — точный совет, Маяковский был ипохондрик и от чужого мнения зависел болезненно. Блоку же, кажется, было совершенно все равно, кто и что о нем говорит. Его творческая производительность зависела не от этого.
В творчестве транслятора ум почти не участвует или, во всяком случае, не доминирует. С Блоком прекрасно было молчать, но совершенно не о чем говорить. Когда Блок пытался думать во время сочинительства, получались неплохие, но несколько обывательские «Вольные мысли» или полные пафосных банальностей «Ямбы». Но когда он настраивался на некую внятную только ему волну — получались «Девушка пела в церковном хоре» или «Ты помнишь, в нашей бухте сонной», стихи удивительно бедного содержания и огромного, с трудом вмещаемого смысла. И если словами риторов называют статьи, то словами трансляторов говорят о себе — как пьяный Леонид Андреев на зимней станции, когда его пытались поднять из сугроба: все потеряно, все выпито, довольно, больше не могу.
Блоковские свободные дольники, его закатные болотные и полевые пейзажи, его городские окраины, берег моря, обещающий обновление и вечно лгущий, — последний живой и органичный голос русской поэзии; все большие русские поэты ХХ века были последователями Блока, признававшими его первенство, и все пытались реанимировать Россию — увы, тщетно: советский период ее существования не зря был пронизан культом героической гибели. Возрождение носило печать вырождения, а лучшие периоды советской культуры, по точному определению Валерия Попова, напоминали не ренессанс, а реанимацию. Блок стал любимцем русского читателя именно потому, что запахи его лирики — пусть даже болотной — именно последнее живое, что несла в себе культура Пушкина, Тургенева, Толстого; Блоку и самому больно было перечитывать первый том собственной лирической трилогии, которую он выстроил незадолго до смерти, и многого он сам уже не понимал. Первой из цикла русских поэм-наваждений была последняя его поэма, «Двенадцать», в которой двенадцать апостолов новой веры — революционный патруль — убивают Магдалину, русскую проститутку, которую в поэме зовут Катькой. Александр Эткинд справедливо видит здесь попытку убить не столько страсть, сколько пол — главное напоминание о смерти (и в статье Блока «Катилина» важной революционной темой становится самооскопление — избавление от главного земного проклятия). Если не убить Катьку, революция бессмысленна; шансы России на воскресение сам Блок оценивал скептически. Вечная женственность — Россия — превращается в вечную жертвенность; попытка Блока переписать собственный лирический цикл «На поле Куликовом» в стихотворении «Скифы», сделав ставку не на Россию, а на «азиатскую рожу», оказалась неудачной эстетически и обреченной духовно. Осуществлением этого последнего видения Блока была вся философия русского евразийства, бесславный финал которой мы наблюдаем сегодня. Впрочем, попытки начертить для России западный путь в написанной незадолго до революции «Русской Америке» выглядят еще бледнее: что русская Америка, что русская Евразия — мертвые концепты. О таких «умственных» стихах у Блока в записной книжке есть пометка: «Не пишется, так и брось».
Истинный реквием России Блок собирался написать в незаконченной поэме «Русский бред»: «Есть одно, что в ней скончалось / Безвозвратно, / Но нельзя его оплакать / И нельзя его почтить, / Потому что там и тут / В кучу сбившиеся тупо / Толстопузые мещане / Злобно чтут / Дорогую память трупа — / Там и тут, / там и тут»...
«Боюсь, что это мы с вами», как сказал учитель истории учителю литературы в советском фильме с горьким названием «Доживем до понедельника». До понедельника — потому что «Воскресение» уже было.
6
Есть и еще одна занятная черта русской культурной ситуации в целом — проще всего показать ее на примере русского балета.
Нет никого дальше от русского балета, чем автор этих строк. И тем не менее — именно балет очень удобен для демонстрации фундаментальной особенности русской культуры. Русская культура и — шире — государственность устроена как огромная матка, главная функция которой — выталкивать из государственного тела тех, кто достиг зрелости. Сосуществование зрелой особи с условиями российского государства, регулярно сотрясаемого репрессивными судорогами, как схватками, с какого-то момента невозможно. Тогда деятель культуры либо уничтожается, либо вышвыривается самим ходом вещей за пределы страны. Чаще всего он не успевает этого осознать. Будучи вышвырнут, он оказывает огромное, часто решающее влияние на культуру прочих стран. По крайней мере, такова вся функция России в мире, если оценивать именно результат. Михаил Эпштейн, культуролог, сам вышвырнутый логикой своего пути в Штаты, предложил уподобить земной шар огромному человеческому организму, где Китай — руки, а мыс Горн даже внешне похож на нечто фаллическое; главным итогом деятельности огромного российского государственного проекта является именно формирование и вышвыривание в мир новых поколений его талантливых преобразователей и гениальных формотворцев — в диапазоне от Герцена до Акунина, от Тимофеева-Ресовского до Гамова. Все прочее — массовые казни, восстания и довольно бедная идея особого пути — на судьбы мира особого влияния не оказало и может рассматриваться как послед.
Русский меценат и продюсер Сергей Дягилев (слова «продюсер» тогда не было, это называлось «антрепренер») в 1906 году организовал масштабные гастроли русской оперы в Париже, а три года спустя привез туда балет и создал моду на новейшее русское искусство. Сам Дягилев характеризовал себя так: «Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-третьих — нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность; впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение — меценатство». Будучи назначен чиновником для особых поручений при директоре Императорских театров Сергее Волконском, Дягилев привлек к театральным постановкам модных художников Бенуа, Бакста, Лансере — всех, кого впоследствии называли «мирискусниками» (от художественного объединения «Мир искусства»). Императорские театры были консервативны и Дягилева отвергли, и он решил попытать счастья за границей — организовал гастроли Шаляпина в Париже, показал там «Бориса Годунова» с ним в главной роли, а потом сосредоточился на балете, поскольку сам относился к нему пренебрежительно: танец — не драма, знание языка не нужно, психологизм не обязателен... Русский балет в 1909 году произвел в Париже фурор. Главным хореографом антрепризы Дягилева стал Михаил Фокин, главными танцорами — Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Любовь Чернышева, Вера Коралли. Балеты оформлялись Бенуа, Головиным, Рерихом. Дягилев переехал в Европу, от маньеризма и ориентализма ранних постановок перешел к авангарду, к написанию музыки привлек Игоря Стравинского, чья «Весна священная» и «Петрушка» стали образцами нового балета; когда Европу охватила война, Дягилев перенес гастроли в США. Во второй половине двадцатых мода на него прошла, но бренд уже был создан — хореограф Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе) работал у Дягилева хореографом с 1924 по 1929 год, в 1933-м переехал в США, совершенно не зная английского, и стал главным реформатором американского балета, создателем неоклассического музыкального театра. Мода на русский балет, сочетавший классическую школу с модернистской изобретательностью, атлетической подготовкой танцоров и роскошью декораций, гарантировала русской танцевальной школе успех во всем мире. Звездами балета шестидесятых годов стали Михаил Барышников и Рудольф Нуреев. Поняв, что реализоваться в рамках советского искусства они не смогут, оба остались в США, где стали звездами первой величины: Нуреев бежал в 1961 году во время парижских гастролей, Барышников — в 1974-м во время канадских. Нуреева в СССР заочно приговорили к семи годам за измену Родине, Барышникова попросту вычеркнули из истории русского театра.
Все сказанное не отменяет великого таланта и творческих достижений Галины Улановой, Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой, Мариса Лиепы, Людмилы Семеняки, Надежды Павловой, Дианы Вишневой, балетмейстеров Юрия Григоровича и Бориса Эйфмана, сотен великих и попросту очень хороших артистов русского балета, этого уникального синтеза павловской казармы и ангельской капеллы. Это призвано лишь проиллюстрировать фундаментальную особенность русской культуры, тесно связанной с историческим циклом: революционные ситуации порождают великое авангардное искусство, аналогов которому нет в мире; периоды заморозков и застоев убивают это великое искусство с жестокостью, которой почти нет аналога в современности, или вытесняют его на Запад, который этой особенностью с удовольствием и рачительностью пользуется. Изучение русского авангарда на Западе поставлено много лучше, чем в России, — достаточно сравнить культ Бахтина в американских и российских университетах (правда и то, что Бахтин позволяет обывателю выглядеть продвинутым мыслителем, давая ему чрезвычайно удобную и, в сущности, бессодержательную терминологию; но ведь и формальную школу на Западе знают лучше и изучают почтительнее, и мало ли крупных российских филологов, от Жолковского и Щеглова до Безродного и Ямпольского, реализовались именно на Западе, хотя открытия свои сделали в России! Добавьте к этому тартуский полуэмигрантский статус Лотмана, и картина будет мало чем отличаться от балета).
Михаил Чехов, артист МХТ, племянник Антона Павловича, в 1928 году не вернулся с гастролей в Германии, жил в Европе, снимался в кино, преподавал, в 1939 году переехал в США и стал основателем школы актерской игры, стяжавшей ему славу и множество поклонников в Голливуде.
Композитор Игорь Стравинский не вернулся в Россию в 1914 году из-за мировой войны, жил и работал в Европе, с 1936-го много бывал в США, с 1939-го жил там постоянно и стал одним из ведущих американских музыкантов — Дисней использовал «Весну священную» в «Фантазии», где под нее происходит эпизод с динозаврами. Стравинский назвал это идиотизмом, но популярностью фильма был тронут и против всемирной славы не возражал.
Музыкантам проще — их язык интернационален; вообще же судьба русского художника, особенно в ХХ веке, рано или поздно приводит его или к бегству, или к высылке, или к репрессиям, или к запрету на профессию — иными словами, Россия создана, чтобы порождать гениев и давать им стартового пинка (или делать им великую биографию — как в хрестоматийной фразе Ахматовой после ареста Бродского: «Какую судьбу делают нашему рыжему!» Глядя на историю российской культуры со стороны, можно заметить, что главным результатом русской истории является именно создание великой культуры — чаще всего вдохновленной западными образцами, но благодаря трагизму истории имеющей особый драматический колорит. Судьбы художников дополнительно подсвечивают этот трагизм. Если судить по плодам, как предлагает Евангелие, — главным предназначением России является именно создание шедевров, которые благодаря специфическому пинку со стороны Родины (будь то эмиграция, как у Прокофьева, или государственная проработка, как у Шостаковича или Пастернака) становятся хитами мирового значения и создают новую школу на Западе. Разумеется, есть другие трактовки российского предназначения, например, имперец и безнадежный графоман Александр Проханов считает, что целью существования России является создание уникального, божественного, хрустального (его любимые эпитеты) российского государства. На самом деле российское государство на редкость неэффективно, превращает жизнь народа в пытку и неуклонно сокращает его численность, а также почти непрерывно ведет весьма расходные во всех отношениях войны, чаще захватнические, чем оборонительные, и почти всегда тотальные, то есть сопровождаемые масштабными мобилизациями. Россия создала большое количество наступательных вооружений, в том числе ракетных, что привело к освоению космоса в качестве побочного эффекта, — но космос почти одновременно с ней освоили и другие державы, и ничего эксклюзивного в ракетостроении нет. На Луну вообще первыми полетели американцы — что страшно обидело СССР, — хотя сама идея «лунного модуля» разработана русским изобретателем Юрием Кондратюком. Кроме русского балета, русского семейного или усадебного романа (на темы упадка) и русского медитативного кинематографа, все это грандиозное пыточное устройство, основанное на всевластии тайной полиции, привело к созданию единственного всемирно известного бренда — автомата Калашникова, и то насчет его авторства существуют сомнения. Россия экспортирует наемников, кризисы и горячие точки — но все это вряд ли можно назвать творчеством. Правильнее всего по итогам ХХ века будет назвать Россию фабрикой по производству и экспорту гениев, что описано в самой РК неоднократно: «Посылаем Терпсихору — получаем пепси-колу», писал Андрей Вознесенский в 1973 году. Или, по формулировке Юлия Кима в бард-опере «Московские кухни»: «Отвечаю словоблудам поганым, / Соблюдая этикет и манеру: / Что ж вы, суки, за своим чистоганом / Позабыли про культурную сферу? / Это Сталин был зажимщик и деспот: / Он впускал, не выпуская обратно. А мы вон какой устроили экспорт: / Высший сорт и абсолютно бесплатно! / Как шепнут, бывало, верные люди, / Что, мол, музыка у вас там в прогаре — / Ладно, пусть мы потеряем в валюте, / Но высылаем Ростроповича с Галей. /А в шахматишки за Париж и за Цюрих? / Боря с Витей — ленинградская школа! / за всех американцев танцует? — / Бывший Мишка из ЦК комсомола. / А что касается ваятелей слова, / год никакого простою. / И уж ежели мы шлем Кузнецова, / То не Феликса, конечно, а Толю! / А Солженицына-то как вывозили? / „Не хочу, — грит, — никуда из России!“ / И пришлось его с душевною болью / Всем конвоем волочить к Генрих Беллю! / И актеров с режиссерами — нате! / И живописцев с фигуристами — битте! / И умоляю — ни слова о плате! / Ну разве парочку агентов — верните. (Я это пишу в дни масштабного обмена русских диссидентов на русских же диверсантов. — ДБ.) / Вот с компьютерами — да, дело плохо. / Нет на вывоз ни хрена, скажем честно. / Ну, а этого добра у нас много! / И куда его девать — неизвестно».
Так эта фабрика и функционировала до тех пор, пока не вошла в роковое противоречие с мировой практикой, потому что экспорт войн и кризисов оказался эффективнее экспорта культуры и привел в конце концов к самообнулению системы, согласно термину ее последнего лидера.
Модернизм
История России в ХХ веке — прежде всего история русского модерна. Его главный парадокс состоит в том, что революция и ее модернистский проект могли победить только в самой архаичной стране — но именно реванш этой архаики, против которой у государства не было никакого противоядия, оказался настолько тотален, что от модернизма почти ничего не осталось (разве что случайно уцелевшие эмигранты вроде Ларионова и Гончаровой или Юрия Анненкова). Модерн победил не вследствие нормального исторического развития, а вследствие обрушения государства, развалившегося под гнетом собственной некомпетентности. Едва окрепнув, государство его прихлопнуло и пошло по прежнему кругу циклического развития — с движением без эволюции.
Но прежде, во избежание ненужных споров, давайте договоримся о том, что такое модернизм: это понятие на протяжении ХХ века наполнялось разным содержанием. Сейчас оно имеет в России однозначно негативные коннотации и чаще всего определяется так: «направление в искусстве, характеризуемое отрицанием предшественников, разрушением устоявшихся представлений, традиционных идей, форм, жанров и поиском новых способов восприятия и отражения действительности. Под модернизмом также понимают изменения в литературе, архитектуре и искусстве в конце XIX — начале XX века, направленные на разрыв с предшествующими художественными традициями, стремление к новому, условность стиля, поиск и обновление художественных форм». Понятно, что в сегодняшней России на первый план выходит негативное отношение к предшественникам и разрушение традиции. При этом беззастенчиво смешиваются модернизм как направление в искусстве и модернизм как мировоззрение.
Философ Вадим Руднев призывал отличать модернизм от авангарда: авангард немыслим без эпатажа, а модернисту эпатаж не нужен, он одиноко творит в своей лаборатории. Модернисты — «шизоиды-аутисты, замкнутые в своем эстетическом мире. Невозможно их представить на площади или на эстраде эпатирующими публику».
Все сходятся на двух тезисах: модернизм, во-первых, порывает с традицией (иногда — с ностальгической грустью, иногда агрессивно), а во-вторых, уделяет преимущественное внимание форме, ища новый художественный язык. К этому можно добавить некоторые особенности европейского модерна.
— Модернист ненавидит предписанные эмоции — положенную скорбь, обязательный стыд. Модернист — как герой «Постороннего» Камю — сам себе удивляется, что его не слишком печалит смерть матери. Модернист-повествователь в «Коне бледном» Савинкова удивляется, что его не трогает гибель влюбленной в него женщины, да и сама эта влюбленность не тешит ни его похоти, ни тщеславия. Главный герой рассказа Горького «Карамора» удивляется тому, что не испытывает угрызений совести — ни после предательства, ни после убийства. Модернист является главным объектом собственного внимания и творчества, ибо ведет себя новым, непредсказуемым образом. Так описывают себя весьма схожие — в том числе внешне — герои Савинкова и Савенко, более известного как Лимонов.
— Модернист ставит результат выше эмоций, модерну присущ культ «делателя вещей», как это называли советские конструктивисты. Модернист не сентиментален, хотя приступы слезливости ему знакомы; его цель — предельное напряжение своих и общих сил, достижение прорывного результата любой ценой. В мире модерниста цель оправдывает средства, потому что модернисту никого не жалко. Он проходит «мимо всех видов мелкой жалости», как Антипов-Стрельников в «Докторе Живаго», и гибель этого комиссара вполне закономерна — сама жизнь отторгает его.
— Модернист верит в прогресс — по крайней мере технический, — и потому ему присущ культ будущего. Сакральное отношение к прошлому в его представлении тормозит развитие человечества, а это развитие и представляется ему главной задачей человека на земле. Модернист воспринимает человека прежде всего как масштабного преобразователя природы и постулирует его роль венца и ускорителя эволюции, переводящего ее в новый статус. Модернист — убежденный эволюционист; вообще его идеи сформированы Марксом, Дарвином, Ницше и Фрейдом.
— Как истинный последователь Фрейда, модернист стремится поставить свое сознание и подсознание под тотальный контроль (к чему и сводится психоанализ). Тотальный контроль и есть идея модернизма, и потому модернисты так легко соскальзывают в тоталитаризм. Самоотчет, самосознание необходимо именно в пограничных ситуациях — отсюда прицельный интерес модернизма к душевной болезни, вообще к патологии: но это не примета декаданса, не интерес к болезни как таковой, а именно стремление с патологией как можно решительнее разобраться. Модернизму присущ культ здоровья — но, разумеется, не в ущерб делу, поэтому модернист не видит ничего дурного в том, чтобы разогнать свое сознание кокаином или любым другим веществом, расширяющим границы мозговой деятельности.
— Религия, культ модерниста — скорость; она и возрастает прежде всего в результате прогресса. Суть путешествия остается прежней, но темп его радикально меняется. Модернист стремится вырваться за пределы человеческого, ибо человеческое ему скучно.
— Цель всякого модерна (если понимать под модерном не стиль мебели, а мировоззрение) — создание нового человека, или сверхчеловека. Это создание идет по нескольким линиям: новая религия, или Третий Завет; творческая сверхмощь, избавление от быта и любых рутинных занятий; эксперименты над собственным телом, отказ от пола или новая гендерная идентичность; новые системы голодания, продления жизни, генная инженерия, вообще снятие любых этических или, не дай бог, религиозных табу в развитии науки; поиск синтеза человека и машины. Модерниста интересуют новые формы семьи — разнообразные треугольники, многоугольники, коммуны. Наиболее эффективная вакцина тоже не зря называется модерной.
Модернизм и сам своего рода вакцина — от жизни как таковой; для модерниста «жизнь — бабища румяная и дебелая», жизнь — никак не самоцель, цель модерна — превращение процесса жизни в строительство единого храма будущего, и самая большая честь — лечь кирпичиком в этот храм. Иногда вместо «храм будущего» модернист говорит «храм культуры», как Изя Кацман у Стругацких. Жизнь — не более чем биологический носитель; цель человека — формирование ноосферы, по Вернадскому, или культуры, по Мережковскому. Безусловно, модернизм — новая религия, ибо религиозно всякое мировоззрение, которое предполагает внеположные человеку, объективно существующие ценности; но если цель большинства религий — регуляция жизни и ограничение свободы человека, то модернист полагает именно расширение этой свободы своей главной задачей, и прогресс видится ему как максимальная эмансипация от любых данностей, любых врожденностей. Советская культура на этом и строилась — в том числе на отрицании родственных и социальных связей; у модерниста нет Родины, а если есть семья — то нестандартная. Именно культ Родины в СССР, о котором мы будем говорить подробно, стал концом русского модернизма.
При этом, обожествляя культуру, к искусству модернист относится без придыхания: оно нужно ему в том смысле, в каком помогает работать или избавляет от страхов. Большевики — бесспорные модернисты — к искусству относились прагматически и, в общем, факультативно; но если модернист занимается искусством, он ценит в нем прежде всего не эмоциональную, а интеллектуальную составляющую, нацеленность на усложнение языка и мозга. Апофеоз модернизма — проза Джойса и отчасти Пруста; Кафка по этим критериям не совсем модернист, поскольку его главные эмоции — «страх и трепет». Приступы ужаса у модерниста случаются — это тело ему мстит за насилие; но он умеет с ними справляться, отвлекаясь работой или гендерными экспериментами.
По всем этим признакам можно заметить, что я описал Ленина, или конструктивиста, или Базарова — в общем, довольно неприятного человека, о котором братья Стругацкие говаривали в общении с читателями: прежде работали, чтобы жить, а мы живем, чтобы работать (хотя допускаем как раз реванш прежнего отношения к жизни). Ничего не поделаешь, я сам модернист и тоже человек неприятный. Но модернистами становятся не от хорошей жизни: модерном спасается то общество, которое отравлено архаикой, перекормлено культами, отвыкло от самостоятельного мышления. Модерн — реакция на реакцию, именно на жизнь, отравленную запретами, невежеством и всеми видами рабства. Как заметил Илья Кормильцев, один из главных русских рок-поэтов, — Ницше постоянно перегибает палку, но лишь потому, что ее веками перегибали в другую сторону. Да, модернизм бурно развивался в обществах с сильной архаикой — там, где противостояние современности и традиции было особенно ощутимо. В своем культе сверхчеловека — разумеется, не в гитлеровском и не в нацистском понимании — он сплошь и рядом отрицает человека. Модернизм, по формуле Блока, — крушение гуманизма; но много ли думают о гуманизме палачи и запретители всех мастей? Скажем прямо: для России конца XIX века модерн был самым естественным выбором и, пожалуй, единственным спасением. В стране, где единственной невредимой организацией является тайная полиция, главная цель которой во все времена — противодействовать прогрессу, не оставалось ни одной идеи, которая позволяла бы построить хоть какое-то будущее, сохранить само представление о нем.
Рубеж веков ознаменовался особенно бурным развитием северного, или скандинавского, модерна — прозы и драматургии Ибсена, Гамсуна, Стриндберга. Именно под влиянием скандинавской и бельгийской драматургии (Ибсен, Метерлинк) сформировался Чехов, перенесший приемы модернистской драмы на традиционный русский усадебный материал: отсюда впечатление гротеска, злой пародии, которое всегда создается конфликтом патетического символизма и сугубо бытового, чаще сельского материала. Московский Художественный театр — первая модернистская театральная труппа России — стал театром Чехова, его синтеза бытовой и символистской драматургии. Знаменитое «Не верю!» Станиславского стало выражением главного требования — психологической достоверности; это был театр чеховского презрения к материальной культуре — и чеховской же насмешки над культурой напыщенно-отвлеченной. К декадентам и декадансу сам Чехов относился, по воспоминаниям многих собеседников, скептически: «Они здоровенные мужики, их бы в арестантские роты отдать». Это лишь подтверждает нашу мысль, что эстетика для модерниста не главное (впрочем, и Владимир Соловьев, крупнейший философ-модернист, не опознал в символистах своих учеников и последователей и обрушился на них с язвительной пародией. Они платили ему взаимностью — Мережковский считал Соловьева консерватором).