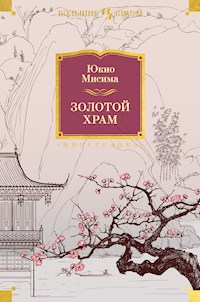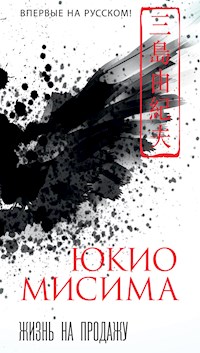Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Иностранка
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Большой роман
- Sprache: Russisch
Юкио Мисима (1925–1970) — звезда литературы XX века, самый читаемый в мире японский автор, обладатель блистательного таланта, прославившийся как своими работами широчайшего диапазона и разнообразия жанров (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и ошеломительной биографией (одержимость бодибилдингом, крайне правые политические склонности, харакири после неудачной попытки монархического переворота). «Дом Кёко» — история четырех молодых людей, завсегдатаев салона (или прихожан храма), в котором царит хозяйка (или жрица) Кёко. Эти четверо — четыре грани самого автора: тонко чувствующий невинный художник; энергичный боксер, помешанный на спорте; невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой; и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. А с ними Кёко — их зеркало, их проводница в странствии сквозь ад современности, хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу. На дворе первая половина 1950-х — послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи, но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёко, видят лишь руины. Новая эпоха — стена, тупик, «гигантский пробел, бесформенный и бесцветный, точно отражение летнего неба в зеркале», как писали критики; спустя полтора десятилетия та же интонация зазвучит у Хьюберта Селби-младшего. Четверо гостей и Кёко ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падение, разочарование, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются. Конец света неотвратим. Мы все по-прежнему живем в его преддверье. Перевода этого романа на английский поклонники с нетерпением ждут по сей день, а мы впервые публикуем его на русском.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yukio MishimaKYŌKO NO IECopyright © The Heirs of Yukio Mishima, 1959All rights reserved
Перевод с японского Елены Струговой
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
Мисима Ю.Дом Кёко : роман / Юкио Мисима ; пер. с яп. Е. Струговой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2023. — (Большой роман).
18+
ISBN 978-5-389-23221-1
Юкио Мисима (1925–1970) — звезда литературы XX века, самый читаемый в мире японский автор, обладатель блистательного таланта, прославившийся как своими работами широчайшего диапазона и разнообразия жанров (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и ошеломительной биографией (одержимость бодибилдингом, крайне правые политические склонности, харакири после неудачной попытки монархического переворота).
«Дом Кёко» — история четырех молодых людей, завсегдатаев салона (или прихожан храма), в котором царит хозяйка (или жрица) Кёко. Эти четверо — четыре грани самого автора: тонко чувствующий невинный художник; энергичный боксер, помешанный на спорте; невостребованный актер-нарцисс, завороженный своей красотой; и бизнесмен, который, притворяясь карьеристом, исповедует нигилизм, презирает реальность и верит в неотвратимый конец света. А с ними Кёко — их зеркало, их проводница в странствии сквозь ад современности, хозяйка дома, где все они находят приют и могут открыть душу.
На дворе первая половина 1950-х — послевоенный период в Японии закончился, процветание уже пускает корни и постепенно прорастает из разрухи, но все пятеро не доверяют современности и, глядя с балкона Кёко, видят лишь руины. Новая эпоха — стена, тупик, «гигантский пробел, бесформенный и бесцветный, точно отражение летнего неба в зеркале», как писали критики; спустя полтора десятилетия та же интонация зазвучит у Хьюберта Селби-младшего. Четверо гостей и Кёко ненадолго обретут успех, но за успехом неизбежны падение, разочарование, смерть. Однажды двери дома Кёко закроются. Конец света неотвратим. Мы все по-прежнему живем в его преддверье.
Перевода этого романа на английский поклонники с нетерпением ждут по сей день, а мы впервые публикуем его на русском.
© Е. В. Стругова, перевод, 2023© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023Издательство Иностранка®
Часть первая
Глава первая
Все безудержно зевали.
— Ну, куда направимся? — спросил Сюнкити. — В середине дня и пойти, наверное, некуда.
— Мы выйдем у парикмахерской, — решили Хироко и Тамико. Они-то были в настроении.
Ни Сюнкити, ни Осаму не возражали против того, чтобы высадить женщин. В машине оставалась одна Кёко. По этому поводу не возражали Хироко и Тамико. Сюнкити и Осаму, каждый по-своему, попрощались коротким кивком. Дамы надеялись, что «ничейный» Нацуо попрощается с ними теплее. И он полностью оправдал их ожидания.
Тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год, начало апреля, где-то около трех часов дня. Автомобиль Нацуо с Сюнкити за рулем кружил по улицам с односторонним движением.
— Куда поедем?
— Ну, туда, где поменьше народу. На озере Асиноко пробыли два дня, там просто толпы людей. И на Гиндзе1, куда потом вернулись, естественно, тоже.
— Я как-то ездил рисовать в осушенные поля за Цукисимой, может, туда? — предложил Нацуо.
Все согласились, и Сюнкити развернул машину в нужную сторону.
В окрестностях Катидокибаси — пробка, это стало ясно уже издалека.
— Что там случилось? Может, авария? — предположил Осаму. Но по обстановке было понятно, что мост закрывают для подъема.
Сюнкити досадливо цокнул языком. «Тьфу, туда не получится. Обидно». Однако Нацуо и Кёко никогда не видели, как разводят мосты, и захотели посмотреть. Машину поставили поближе, перешли на другую сторону по металлическому мостику и отправились к месту действия. Сюнкити и Осаму всем видом выражали скуку.
Середина моста представляла собой металлическую плиту — эта часть и была закрыта для проезда. По краям стояли служащие с красными флажками, скапливались машины. Пешеходную зону преграждала цепь. Желающих поглазеть хватало, но в толпе попадались и курьеры, которые рады были побездельничать, пока по мосту не пройти.
Пустая черная плита с проложенными по ней рельсами была неподвижна. С двух сторон за ней наблюдали люди.
Тем времен в центре появилось вздутие, постепенно поднялось, приоткрылась щель. Затем устремилась вверх вся громада: металлические ограждения по бокам моста, переброшенные между ними арки, столбы вместе с тусклыми фонарями. Нацуо это движение показалось прекрасным.
Когда плита устремилась к вертикали, из углублений в рельсах вылетело облако пыли. Крошечные тени от бесчисленных болтов, постепенно сжимаясь, осели на креплениях, заметались изломанные тени от арок. А когда плита окончательно встала, тени снова застыли. Нацуо, подняв глаза, увидел, как над столбом лежащей арки скользнула чайка.
Так их дорогу неожиданно перекрыл большой железный забор.
* * *
Им показалось, что ждали они довольно долго. Когда мост снова заработал, интерес к поездке на осушенные земли уже поостыл. Осталось лишь ощущение некой обязанности: когда по мосту возобновится движение, нужно трогаться. Во всяком случае, всем было муторно от недосыпа, усталости после долгой поездки, теплой погоды, потому и голова отказывалась думать, менять планы. Раз уж дорога ведет к морю, стоит доехать до места. Все без лишних слов, позевывая, вяло вернулись в машину.
Машина проехала по мосту Катидокибаси, пересекла городок Цукисиму и снова мост — Рэймэйбаси. Вокруг, насколько хватало глаз, зеленели ровные заброшенные земли, расчерченные сетью стационарных дорог. Морской ветер ударил в лицо. Сюнкити остановил машину у таблички с надписью «Вход запрещен», отмечавшей взлетно-посадочную полосу на краю американской военной базы.
Нацуо вышел из машины и, наслаждаясь видом, спрашивал себя: что мне нравится больше — классические руины или осушенные земли? Тихий и сдержанный, он редко высказывался. Мнения об искусстве копились у него внутри, не мучили, и Нацуо нравилось, что в их компании не ведут таких разговоров.
Однако глаза его впитывали без устали. Белый суперлайнер по ту сторону рукотворных пустошей, угольщик с верфей Тоёсу, пускающий из трубы облака белого дыма угольщик — такие вещи поистине упорядоченны и прекрасны. Прекрасна весенняя равнина, которую целиком заполняют геометрически правильные площади осушенных земель.
Сюнкити вдруг припустил бегом. Просто так, неизвестно куда. Его фигура постепенно пропадала из виду на краю равнины.
— Тренировки завтра начинаются, а ему не терпится. Завидую тем, кто любым способом заставляет тело двигаться, — сказал Осаму — актер, пока не получивший настоящей роли.
— А он ведь и в Хаконэ2 каждое утро бегал. Вот рвение-то, — сказала Кёко.
Сюнкити остановился, трое приятелей отсюда казались крошечными. Он чувствовал, что одного бега недостаточно, поэтому и в дождь не забывал по двадцать минут прыгать через скакалку в спортивном зале общежития.
В группе, собравшейся вокруг Кёко, он был самым младшим. Капитан боксерской команды, в будущем году окончит университет. Его товарищи уже отучились. И Осаму. И Нацуо.
Сюнкити, не придававшего особого значения манерам, впервые привел в дом Кёко старший товарищ, фанат бокса Сугимото Сэйитиро, и он как-то естественно влился в компанию. Своей машины у Сюнкити не было, но водил он превосходно, поэтому его очень ценили. Из-за увлечения боксерами люди самого разного возраста, профессии, положения интересовались им и оказывали знаки внимания.
Несмотря на молодость, он уже завел определенные убеждения. Например, совсем не думать. Во всяком случае, приучал себя к этому.
Что он делал вечером с Тамико — об этом Сюнкити уже забыл, когда сегодня утром один бежал по дороге вокруг озера Асиноко. Важно стать человеком без воспоминаний.
Прошлое... Он оставлял в памяти лишь нужную часть, лишь немеркнущие привязанности. Только те воспоминания, которые воодушевляют, поддерживают в настоящем. Например, о первой тренировке: поступив в университет, он тогда впервые пришел в боксерский клуб. Или о первом спарринге с партнером из старших товарищей.
Какой же длинный путь он прошел от воинственного пыла, охватившего его в том первом тренировочном бою, до сегодняшнего дня. Это случилось вскоре после того, как он поселился в общежитии. Сколько раз с тех пор вымыты руки, а он до сих пор остро, во всех подробностях ощущал бинты на них. Прикосновение грубого хлопкового полотна, которым традиционно заматывали запястья и кисти, прикрывали сверху костяшки. Он всегда любил свои далеко не изящные руки. Словно деревянный молот, бойцовские, крепкие, не подвластные чувствам и нервам. Линии на ладонях простые, и ни одной, способной порадовать хироманта: темно-коричневую кожу прорезали глубокие прямые бороздки, предназначенные, чтобы руки сжимались или разжимались.
Сюнкити с удовольствием вспоминал. Два однокурсника надели на его протянутые руки тяжелые большие бесформенные перчатки для спарринга. Перчатки были старыми, потрескавшимися. Эти лиловые трещины избороздили всю поверхность, кожа осыпалась, поэтому они выглядели скорее как скелет перчаток. Однако внутри эти неприглядные огромные перчатки мягко и тепло касались пальцев. Завязки плотно обвились вокруг запястий.
— Не туго?
— На правой немного.
Подобного диалога он с нетерпением ждал целый месяц. Сюнкити напоминал быка, которого выращивают для боя: сколько удовольствия было в том, как ассистенты помогали ему, спрашивали, хорошо ли завязаны перчатки. Он всегда завидовал моменту в боксе, когда в перерыве между раундами бойцу дают прополоскать рот водой, налитой в бутылку из-под пива.
В любом случае это ведь для борьбы! О мужчине, который борется, необходимо заботиться.
Затем помощник надел на него шлем — его Сюнкити тоже примерял впервые в жизни. Он хорошо запомнил ощущение старой кожи, которой его короновали. Кожа на миг придавила горящие от волнения мочки ушей, а потом они выбрались наружу из специально вырезанных отверстий.
Рукой в перчатке он первым делом ткнул себя в подбородок, ударил по переносице, лбу. Сначала легко, потом решительнее. Горячий тяжелый мрак залил лицо.
— Вот все так делают на первом спарринге, — сказал сбоку его партнер.
Вспомнив это, Сюнкити покраснел. Насколько жалко все выглядело после того, как они поднялись на ринг и прозвучал возвестивший начало гонг! Намного ужаснее драк, в которых он до сих пор участвовал. Его удары не доставали соперника. А тот под разными углами метил в лицо, живот, печень, и его кулаки безжалостно достигали цели, словно он был тысячерукой богиней Каннон3. Во втором раунде, когда прямой удар левой от усталости показался Сюнкити ватным и бессильным, он, наоборот, заслужил похвалу: «Вот сейчас левая — нормально». Он уловил тяжелое дыхание партнера, произнесшего «левая — нормально». Мстительная радость в тот миг, когда обнаружилась эта крошечная слабость. Вызванный этим прилив сил...
Сюнкити увидел перед собой по-весеннему мутное, серовато-голубое море. Вдалеке держал путь в порт типичный грузовой корабль водоизмещением в пять тысяч тонн. Тучи чуть затянули водный горизонт, но еще не сгустились. День стоял ясный, и белизна чаек просто слепила.
Сюнкити показал морю кулак. На лице появилось лукавое выражение. В желании стать боксером поначалу было лишь свойственное ему озорство.
То не была борьба с тенью, с невидимым партнером. Его соперником оказалось безбрежное, мглистое весеннее море. Зыбь, лизавшая причал, цепочкой тянулась до барашков волн. Враг, с которым не сразиться. Противник, сделавший своим оружием пугающее спокойствие, с которым поглощает тебя. Враг, который всегда чуть усмехается.
Троица, ожидавшая возвращения Сюнкити, уселась на каменные строительные блоки, все закурили. Осаму больше других походил на образцового отдыхающего: вид полностью отсутствующий.
Кёко и Нацуо давно заметили за ним эту особенность. После длительного молчания вокруг него возносилась невидимая крепость, возникал только его, недоступный другим мир. Поэтому порой его считали скучным, или, иначе говоря, фантазером. Однако фантазии тут не было ни капли. Осаму — не мечтатель и не реалист — олицетворял самого себя здесь и сейчас. Кёко уже привыкла и не спрашивала: «О чем ты думаешь?»
При этом он вовсе не был одиночкой. Редко, наверное, встречаются мужчины, которые не выглядят одинокими, даже пребывая в одиночестве. Этот юноша, словно пережевывая жвачку, постоянно говорил о приятных волнениях, которые создавал себе сам. Например: «Я сейчас здесь. Существую. Но я и на самом деле существую?»
Для молодого человека подобное беспокойство не редкость, но у Осаму оно было особенным — доставляло удовольствие. И это удовольствие, скорей всего — нет, даже определенно, — проистекало из привлекательности самого Осаму.
Сюнкити бежал обратно. Его фигура на равнине становилась все крупнее. В косых лучах солнца четко обозначилась тень, которую отбрасывали правильно сгибаемые колени. Скоро он, мокрый от пота, раскрасневшийся, остановился рядом с сидящей компанией, дыхание ничуть не сбилось.
— Чем пахнет море? — спросила Кёко.
— Мочой, — сухо ответил Сюнкити.
Нацуо смотрел вдаль: ватерлиния делила трюм грузового корабля на черную верхнюю и ярко-красную нижнюю части, он размышлял о правильности и мощи этой линии. Да не только об этом. Бескрайний пейзаж пересекало и охватывало множество геометрических линий. А в струившемся от жары воздухе часть их, преломляясь, напоминала гибкие водоросли.
В памяти Осаму всплыл вечер дебютного спектакля, в котором участвовали стажеры. Он, в костюме гостиничного посыльного, по роли уже находился на сцене, поэтому тень от поднимавшегося занавеса постепенно ползла от ног вверх по телу. Его охватил трепет, когда его фигура медленно появлялась перед освещенными зрителями...
Кёко нравилось отпускать своих парней, поэтому она даже любила, когда они витали в облаках. К ней снова подкрадывалась усталость, возникшая после путешествия. Беспокоило ее лишь одно — как бы усиливающийся морской ветер не спутал волосы. Когда, прижимая волосы руками, она обернулась к машине, то увидела, что там собралось несколько мужчин. Посмотрев на нее, они рассмеялись.
На них были перепачканные землей рабочие куртки, обмотки и грубая обувь. Типичные землекопы с ближайшей стройки. У некоторых лоб охватывала повязка из полотенца, чтобы пот не заливал глаза. Пока они говорили негромко и смеялись над Кёко, ветер донес явный запах спиртного. Один поднял булыжник. Бросил его на крышу машины. Раздался неприятный скрежет, рабочие снова засмеялись.
Сюнкити поднялся. Кёко тоже встала, собираясь его остановить.
Осаму медленно пробудился, но скорее не от грез, а от своей туманной реальности. Решение было отвергнуто прежде, чем он проявил находчивость. Ему еще не приходилось встревать в ссоры. Во всяком случае, непросто было поверить в то, что прямо сейчас разворачивалось перед его глазами.
Нацуо знал, что слаб, но без нарочитости прикрыл собой Кёко. Машину, которую ему меньше месяца назад купил отец, он водил еще плохо, просил Сюнкити быть за рулем. Он вдруг представил ее с безобразно поцарапанным лаком, разбитую. Однако Нацуо, с детства равнодушный к собственности, с какой-то мечтательностью во взоре наблюдал, как на его глазах собираются ломать его машину.
Сюнкити уже стоял спиной к машине, его окружили четверо.
— Что вы делаете! — крикнул он.
«А он заступается. Почему? Ведь машина — всего лишь собственность приятеля», — недовольно подумал Осаму. Он неправильно истолковал поведение Сюнкити, счел его борцом за справедливость.
Озлобленные чернорабочие что-то говорили, но без брани как таковой. Сюнкити прислушался. Они отпускали непристойности в адрес Кёко, смысл сводился к тому, что сопляки разъезжают на машине, делать им нечего — средь бела дня в таком месте развлекаться с женщиной. Когда старший из рабочих, который и бросил камень, приняв Сюнкити за владельца машины, обозвал его «буржуазенком», в нем от такой нелепости взыграла сила. Для боя достаточно, чтобы тебя неправильно поняли.
Другой рабочий ударил камнем в стекло. Оно не разлетелось, но по нему, словно паутина, побежали заметные трещины. Сюнкити перехватил руку рабочего за запястье, не позволив ему повторить и разнести стекло вдребезги. Еще один рабочий хотел заехать грубым ботинком Сюнкити по ноге, но не сумел. Сюнкити развернулся и нанес удар ему в голову. Рабочий ничком рухнул в траву.
Кёко закричала, увидев, что старший изготовился бросить камень Сюнкити в спину. Сюнкити уклонился, как при ударе в голову, и, когда противник подался вперед, схватил его за воротник куртки, откинул назад и наградил апперкотом в подбородок.
Крик Кёко привлек внимание двух оставшихся рабочих. Они увидели женщину, которую прикрывал хлипкий юноша, и молодого человека позади них — рассеянного и одетого с иголочки. Один схватил Кёко за рукав костюма, испачкав его грязью. Сюнкити, подскочив сбоку, проворно дернул Кёко за руку, и рабочий ударил его в грудь. Сюнкити отлетел на пару шагов, но устоял на ногах.
В глаза бросились белая рубашка соперника и пряжка ремня с облезлой позолотой. На животе рубашка встопорщилась, и вылезла латунная пряжка. Безвкусная вещица с гравировкой в виде серебристого цветка пиона. Сюнкити отметил про себя, что об эту штуку можно легко поранить пальцы. Не стоит калечить свои драгоценные руки.
Соперник разъярился. Для Сюнкити возникшее решение уже означало победу. Он беспрепятственно нанес несколько ударов по животу в белой рубашке — с удовольствием ощутил руками плоть, наслаждался тем, что есть куда бить. Эта человеческая плоть была идеальной мишенью, совершенством. От ударов рабочий упал на колени.
Еще один сбежал.
Тем временем Нацуо проскользнул на водительское сиденье и завел мотор. Кёко с Осаму и Сюнкити забрались внутрь, машина тронулась, они быстро пересекли мост Рэймэйбаси и влились в плотный поток, тянущийся по кварталам Цукисимы. Нацуо сам поражался тому, как хорошо вел.
* * *
Какое-то время Сюнкити боролся с неприятным осадком, оставшимся после драки; ему казалось, будто тело все еще напряжено. Но вскоре принцип — не размышлять — заглушил эти ощущения.
Сюнкити запретил себе выпивать и курить. Драки и женщины обрушиваются на человека со стороны, с этим ничего не поделаешь. Однако стоиком был не только Сюнкити. В доме Кёко собирались мужчины разных профессий и характеров, но в каждом было что-то от стоика. И у Осаму. И у Нацуо. Даже у Сугимото Сэйитиро — у него это проявлялось по-особому. Излишне стыдясь страданий и заблуждений юности, они приучили себя не говорить о таком и стали стоиками высшей пробы. Они жили, стиснув зубы. С довольными лицами. Они должны были показать, что не верят, будто в их мире существуют несчастье и страдание. Обязаны были притворяться незнающими.
Машина ехала к дому Кёко в восточном квартале Синаномати4.
Почему-то бывают дома, где обычно собираются мужчины. Открытый двор наводил на мысли о публичном доме. Здесь можно было шутить о чем угодно, нести любой вздор. И к тому же выпить даром. Ведь каждый приносил и оставлял здесь спиртное. Можно было смотреть телевизор, можно — играть в маджонг, приходить и уходить когда вздумается. Вещи в доме были общими: если кто-то приезжал на машине, ею свободно могли пользоваться все.
Явись отец Кёко привидением в этот дом, посетители привели бы его в ужас. Сама Кёко, не признающая сословных рамок, судила о людях по их привлекательности и принимала у себя дома гостей независимо от их социального статуса. Никто не мог сравниться с ней в преданности делу разрушения традиций. Она не читала нужных газет и тем не менее превратила свой дом в кладезь современных течений. Сколько она ни ждала, предубеждения не коснулись ее души, и она, полагая это своего рода болезнью, смирилась.
Подобно тому как люди, выросшие на чистом деревенском воздухе, подвержены инфекциям, Кёко заразилась идеями, которые вошли в моду после войны. И хотя кто-то от них излечивался, она не вылечилась. Она навсегда решила для себя, что анархия — нормальное состояние. Она смеялась, когда слышала, что ее ругают за аморальность, считая, что эта клевета стара как мир, но не заметила, что и в этом стала ультрасовременной.
Худощавая Кёко унаследовала от отца красоту, в которой проглядывали китайские черты. Слишком тонкие губы иногда портили лицо, но ощущение, что они внутри полные и теплые, контрастировало с их внешней холодностью и смягчало ее. Ей очень шла европейская одежда для зрелых женщин, а летом были к лицу яркие платья без рукавов и с открытыми плечами. Она никогда не носила корсет, только пользовалась обволакивающими ее духами.
Кёко признавала неограниченную свободу других. Обожала отсутствие порядка и стала бо́льшим стоиком, чем остальные. Подобно врачу, который боится своих способностей к диагнозу и старается не пользоваться ими, она слишком хорошо знала о своей привлекательности, но не испытывала желания опробовать ее результаты. Кёко любила щегольнуть ею, но на том и останавливалась. Тихо радовалась, когда ее осуждали за распущенность, что было несущественно, и получала огромное удовольствие, когда люди принимали ее за официантку или девушку из дансинга, склонную к неприличному поведению.
Неверные суждения о ней составляли предмет гордости Кёко. Целый день она говорила исключительно о внешних событиях, а внутренний мир считала чем-то незначительным, не заслуживающим внимания. Неиссякаемым источником счастья для Кёко были случаи, когда молодые люди, влюблявшиеся в нее, примирялись с ее холодностью и находили утешение с женщиной попроще.
Она не любила птиц, не любила собак и кошек — вместо этого питала неутолимый интерес к людям. У нее, своенравной единственной дочери, жившей с семьей в родительском доме, был муж, страстный любитель собак. Собаки отчасти стали причиной их супружества и в конечном счете — причиной расставания. Кёко, оставив у себя дочь Масако, выставила мужа, а вместе с ним семь собак — немецких овчарок и догов — и постепенно избавилась от пропитавшего дом запаха псины. Он был для нее как вонь от презираемого всеми грязного мужчины.
У Кёко были странные убеждения. Она избегала встреч с супружескими и любовными парами. Мужчины обычно заглядывались на Кёко. И она до боли чувствовала, что мужчина изо всех сил сдерживается, желая ее больше жены или любовницы. Ее в мужчинах привлекали именно эти страдальческие взоры. У мужа такого взгляда не было. Вдобавок его склонности были сродни ее собственным: он просто наслаждался взглядами, полными подавленной страсти, потому, наверное, и обожал эту кучу собак. О-о! Стоит только подумать об этом, сразу бросает в дрожь. Только вообразить...
Дом Кёко прилепился к склону холма, и сразу за воротами открывался обширный двор. На станции Синаномати внизу сновали электрички, небо вдали, повторяясь, перечеркивали две рощи: одна вокруг храма Мэйдзи, вторая — напротив него, у дворца Омия, резиденции вдовствующей императрицы. Наступил сезон цветения, но сакуры в этом пейзаже почти не было: лишь среди темной зелени рощи вокруг усыпальницы в храме раскинуло ветви, осыпанные, как и положено, цветами, гигантское дерево. С другой стороны взор привлекали неяркие вечнозеленые деревья, чьи стволы устремлялись ввысь: сквозь веер их переплетенных ветвей просвечивало сумеречное небо.
В небе над рощами порой появлялись стаи ворон, — казалось, будто там рассыпали зернышки кунжута. Кёко с детства наблюдала за этими стаями. Вороны над храмом Мэйдзи, вороны над усыпальницей, вороны над дворцом Омия... В окрестностях хватало мест, где они сидели. Птицы появлялись и на балконе в гостиной. Однако черные точки, которыми виделась тесно сбившаяся вдалеке стая, вдруг рассыпались в разные стороны и исчезали — это оставляло в детском сердце неясную тревогу. Кёко в одиночестве часто следила за ними: только подумаешь, что птицы исчезли, как они появляются снова. Разом взорвавшее тишину в кроне ближайшего дерева карканье рассекает небо...
Сейчас Кёко об этом забыла, но восьмилетняя Масако, которую нередко оставляли одну, наблюдала за воронами с балкона.
Сразу за воротами европейского типа находился двор с садом, слева — дом в европейском стиле, дальше слева — маленький японский домик на одну семью. Машину на узкой дороге перед воротами было не поставить, поэтому парковались все во дворе, перед лестницей европейского дома.
Нацуо вошел во двор и был сражен редкой красотой сумеречного неба над рощей вокруг дворца Омия. Он оставил всех при входе, а сам вернулся полюбоваться этим зрелищем. Все знали немногословный, мягкий, спокойный характер Нацуо, поэтому не интересовались без особой причины, чем он занят. Вернись, не входя в дом, к воротам кто-то другой, понадобился бы предлог. По меньшей мере не обошлось бы без вопроса: «Куда это ты?» Нацуо же никто не стал спрашивать.
Нацуо чудом миновали жизненные невзгоды, с которыми обычно сталкивается впечатлительный человек. Раньше не возникало конфликта между его впечатлительностью, с одной стороны, и внешним миром, чужими людьми или обществом — с другой. Она, словно карманный воришка, незаметно для всех просто влезла с улицы в любимую им кондитерскую. Нацуо ни разу по-настоящему не страдал и постоянно ощущал, что ему этого недостает.
Пожалуй, он сам не ответил бы на вопрос: это его доброжелательность и ровный мягкий характер, привлекавший людей, обогатили его впечатлительность, или бескорыстная врожденная впечатлительность способствовала возникновению характера, способного защитить уязвимое тело? Не очень-то он гнался за балансом, но все же сохранял его. Он не искал глубокого смысла в окружающем мире, поэтому и мир спокойно доверял ему свою прелесть. В течение двух лет после окончания художественного университета выпускники проходили специальный отбор, но этого деликатного, доверчивого молодого художника не тревожил даже вопрос о таланте.
Вновь и вновь взгляд Нацуо выхватывал часть внешнего мира. Он почти бессознательно постоянно стремился увидеть все.
Вечерние тучи, похожие на растекшийся по воде алый рисунок, накрыли сумрачное небо; засверкала зелень на вершинах деревьев в роще. Над ними медленно кружили стаи ворон, похожих на зернышки кунжута. Верх неба, предчувствуя мрак, окрасился в темно-синий цвет.
«Я уже совсем забыл недавнюю драку, — думал Нацуо. — То было зрелище, способное разогнать скуку».
Зрелище оказалось довольно опасным — и тем не менее зрелищем. Драка началась из-за машины Нацуо, но нельзя сказать, что это произошло с ним. Никаких скандалов — в этом состояла особенность его жизни.
В прошлом месяце японское рыболовецкое судно рядом с атоллом Бикини накрыло пеплом после взрыва водородной бомбы. Члены команды заболели лучевой болезнью, жители Токио боялись облученного радиацией тунца, и цена на него резко упала. Это было тяжелое происшествие. Но Нацуо не ел тунца. Инцидент произошел не с ним. Он по своей доброте сочувствовал пострадавшим, однако не испытывал особых душевных потрясений. Нацуо придерживался типично детской теории фатальности и при этом неосознанно, тоже по-детски, верил в некоего бога. Бога-защитника, который его спасет. Поэтому, само собой разумеется, он не очень-то стремился ко всяким поступкам.
Его глаза просто смотрели вокруг. Всегда искали объект. На то, что ему нравилось, смотрели, ни на миг не отрываясь, — это непременно было нечто прекрасное. Однако временами даже у него возникала легкая тревога. «Можно ли мне любить все, что нравится моим глазам?»
Кто-то крепко ухватил его сзади за брюки. Масако, издав воинственный клич, рассмеялась. Среди гостей, посещавших этот дом, Масако больше всех любила Нацуо.
Масако исполнилось восемь. У нее было славное личико, она любила, что для девочек большая редкость, исключительно детскую одежду. Ее мир не пересекался с миром взрослых, она им даже не подражала, а выглядела куколкой — «такой миленькой — прямо хочется съесть». Пожалуй, это можно было назвать проявлением критического мышления.
Пока Нацуо был у них дома, Масако постоянно вилась рядом: касалась то рукава, то брючины, то галстука. Кёко неоднократно ругала ее за такую назойливость, Масако на время отходила, а потом снова прилипала к Нацуо. Кёко же сразу забывала про свои замечания.
«Прояви я прошлой ночью слабость, не смог бы смотреть в глаза этому ребенку. Я поступил правильно», — думал наивный Нацуо, гладя пахнувшие молоком волосы Масако.
В гостинице в Хаконэ Сюнкити и Осаму останавливались в номерах каждый со своей женщиной. У Кёко и Нацуо были отдельные номера: Кёко по известным только ей причинам с самого начала выставляла напоказ свою честность. Однако поздно ночью она постучала в дверь Нацуо.
— Есть что почитать? Никак не могу уснуть.
Нацуо, который еще не спал и читал, со смехом протянул ей лежавший рядом журнал. Кёко, хотя ей не предлагали остаться, опустилась рядом на стул. Беседа в такое время суток должна была обеспокоить Нацуо, но ничего такого не случилось. Ведь Кёко, обычно презиравшая кокетство, болтала без умолку.
Нацуо очень ценил дружбу с Кёко. И в этой поездке тоже не должно было произойти ничего, ставящего эту дружбу под сомнение. Впервые он попытался робко взглянуть на Кёко другими глазами. Но его усилия причинили боль.
В свободном вырезе ночной рубашки чуть виднелась гладкая грудь, под слишком ярким в ночи светом лампы она казалась особенно белой. В ровной линии от горла к груди было что-то гордое. Кёко все болтала, но в неподвижных глазах таился жар, время от времени она кончиками красных, в изысканном маникюре ногтей нервно трогала, будто обжигаясь, мочки ушей. И потом объяснила:
— Я ношу серьги, а без них чувствую себя странно. Нет ничего в ушах, а кажется, что вся голая.
От Нацуо, скорее всего, ждали просто решительности. Но он слишком хорошо знал Кёко, и сейчас не хотелось проявлять несвойственную ему наглость. Куда лучше вечное согревающее счастье. К тому же он верил, что Кёко — порядочная женщина. Чтобы усомниться в этом, пришлось бы рискнуть самоуважением и проявить невероятное мужество. У Нацуо полностью отсутствовало юношеское почтение к грубому слову «мужество». Чувства, оставленные без внимания, не могут долго пребывать в неопределенности. Чувства сами называют себя, упорядочиваются, развиваются. Не то чтобы Нацуо знал об этом из личного опыта, он просто усвоил свойственный ему одному способ — полагаться на природу.
Вскоре Кёко, похоже, поверила, что нерешительность Нацуо проистекает из его «уважения» к ней. Лицо ее вдруг просветлело, ясным, звонким, совсем не ночным голосом она произнесла:
— Спокойной ночи.
И вышла из номера.
— А почему в автомобиле стекло разбито? — спросила Масако. — Чем-то бросили?
— Бросили, — усмехнувшись, ответил Нацуо.
— А чем?
— Камнем.
— А-а...
Масако, в отличие от других детей, никогда не приставала к взрослым с бесконечными «почему?». Она больше не спрашивала. Загадка не разрешилась. И любопытство не иссякло. У восьмилетней девочки это вошло в привычку: в какой-то момент она прекращала всякие расспросы.
* * *
Молодежь во главе с Кёко налегала на выпивку. Пили принесенный кем-то херес. Один Сюнкити стойко пил апельсиновый сок. К его заботам о здоровье все уже привыкли и не обращали на это внимания.
Кёко заставила Сюнкити и Осаму обстоятельно рассказать о прошлой ночи. Оба сознались, что за гостиницу заплатили женщины. У Осаму не хватало, а Сюнкити и вовсе был без денег, так что это получилось само собой. Когда речь зашла о тонкостях, оказалось, Сюнкити ничего не помнит. Осаму помнил и равнодушно излагал детали. Кёко хотела знать все в мельчайших подробностях. Нацуо, как обычно, неодобрительно взирал на то, что при обсуждении подобных тем вокруг с простодушным видом слоняется Масако.
— С ума сошла, ну просто с ума сошла. Чтоб Хироко такое вытворяла!
— И тем не менее вытворяла, — отозвался Осаму. Ему казалось, что в его словах — сплошное вранье, ни слова правды.
Нацуо обратился к Сюнкити:
— Я должен сказать тебе спасибо. Благодаря тебе спасли машину.
Сюнкити, совсем как те, кто пил вино, вальяжно раскинулся в кресле и потягивал апельсиновый сок. На слова Нацуо он просиял и молча помахал у лица рукой — мол, не важно это.
И почему с Сюнкити всегда случаются какие-то истории, а с Нацуо — нет? Воспоминания Сюнкити сплошь связаны с боксом и драками, в которые его неожиданно втянули. О женщине он сразу забыл.
Нацуо с некоторых пор, как художника, интересовало лицо Сюнкити. Это было простое, мужественное лицо, однако хорошо вылепленное, и частые следы драк только украшали его. Среди лиц боксеров встречаются и очень красивые, и крайне безобразные. Есть лица, синяки на которых подчеркивают красоту, и лица, которым, наоборот, добавляют уродливости. И плотная, поблескивающая кожа... Лицо Сюнкити — незатейливое, с четкими линиями, и огрубевшая кожа усиливала его безыскусность, подчеркивала детали, делала брови безупречно ровными, а большие глаза — еще живее. Они особенно выделялись благодаря этой живости и остроте взгляда. В отличие от лица обычного мужчины, на этом лице, напоминающем футбольный мяч, заметны были только миндалевидные глаза, их здоровый блеск озарял и, собственно, представлял все лицо.
— А что потом? Потом?.. — понизив голос, спросила Кёко. Тише она заговорила не потому, что стеснялась Сюнкити и Нацуо, — ей казалось, так она ободряла того, кого спрашивала.
— Потом...
И опять Осаму в мельчайших, ненужных подчас подробностях принялся описывать, что происходило в постели. По мере рассказа ему все больше казалось, что сам он в прошлой ночи не участвовал. Острые складки накрахмаленной простыни, легкая испарина, пружинящая, качающаяся, подобно кораблю, кровать — вот это точно было. Как и бесконечный покой в тот миг, когда его покинуло чувство удовлетворения. Одно лишь неясно: сам-то он при этом присутствовал или нет?
Небо залили сумерки. Масако устроилась на коленях Нацуо и листала комиксы.
Нацуо вдруг осенило: он задумался о «счастье». «Если и можно назвать дом, где я сейчас, семьей... — размышлял он. — Жуткая какая-то семья!»
Французские окна балкона были открыты, и в комнату долетали гудки отправлявшихся электричек. На станции Синаномати зажглись фонари.
В десять часов вечера позвонили от ворот. Кёко, уставшая от путешествий, готовилась ложиться. Но, услышав, что пришел Сугимото Сэйитиро, привела себя перед зеркалом в порядок и постаралась стряхнуть сон. Масако уже спала. Но в обычаях этого дома было принимать гостей в любое время дня и ночи.
Ожидавший в гостиной Сэйитиро при появлении Кёко недовольно произнес:
— Как это. Все уже разошлись?!
— С Хироко и Тамико расстались на Гиндзе. Мужчины втроем приехали сюда, Сюнкити и Нацуо ушли рано. Дольше всех ошивался Осаму, но и он минут сорок назад убрался. Я? Я как раз сейчас собиралась лечь.
Кёко не добавила: «Стоило бы позвонить». Ведь Сэйитиро давно привык приходить без предупреждения. Поздно ночью он обычно являлся уже навеселе. Более того, среди гостивших у нее мужчин Сэйитиро был самым старым другом, Кёко еще с десяти лет считала его младшим братом.
— Как съездили? — поинтересовался Сэйитиро. Вопрос был явно праздный, поэтому Кёко сначала решила не отвечать, но потом все-таки отозвалась:
— Да так, ничего особенного.
В этом доме лицо Сэйитиро выражало одновременно крайнее недовольство и удивительное спокойствие. Его можно было бы сравнить со служащим, заглянувшим после работы в бар, но массивный подбородок и острый взгляд Сэйитиро, его волевой вид опровергали это сравнение. С таким лицом, под его защитой, он уверовал в крах мира.
Кёко предложила ему выпить, и Сэйитиро сразу завел речь об этом, как любители гольфа, сводящие все беседы к гольфу:
— Сегодня такие разговоры никто и не поймет. Вот в разгар бомбардировок во время войны все, пожалуй, думали бы так же, как ты. Война закончилась, коммунисты уверяли, что завтра грянет революция, это еще куда ни шло. И несколько лет назад, пока шла война в Корее5, все, может быть, в это верили... А что сейчас? В лучшем случае вернулись в прежние времена и живут себе спокойно. Кто, ты думаешь, верит в то, что мир пропал? Никто из нас ведь не был на «Фукурюмару»...6 Я не говорю о водородной бомбе, — заметил Сэйитиро. Пьяный, он возвышенным поэтическим языком принялся излагать Кёко свою точку зрения.
По его мнению, именно то, что сейчас нет никаких признаков, свидетельствующих о гибели мира, является неоспоримым предвестником его краха. Разного рода конфликты завершаются с помощью разумных переговоров. Люди верят в победу мира и разума, возрождаются авторитеты, споры стремятся решать путем взаимных уступок. Кто угодно заводит редких собак, сбережения пускают на спекуляции, молодежь обсуждает величину накоплений, чтобы жить на пенсии, а это наступит не через один десяток лет... Все наполнено весенним светом, сакура в полном цвету — это неоспоримо предвещает крушение мира.
Обычно Сэйитиро не спорил с женщинами. Он был из тех мужчин, которые избегают препирательств. Однако чувствовал, что с Кёко они мыслят одинаково. Эта женщина отринула все правила, жила в праздности, тщательно приводила в порядок лицо ради зашедшего в десять вечера гостя, но не была продажной.
— Цепочка совсем не подходит к этому платью, — без всякого стеснения высказался он поверх бокала вина.
— Да? — Кёко поспешно поднялась, чтобы сменить цепочку. Она полностью доверяла мнению друга детства.
«Последнее время, когда она устает, у нее в уголках глаз появляются морщинки, — думал Сэйитиро. — Она на три года старше меня, ей уже тридцать. Как это несправедливо, что мы, как и мир, должны стареть. Хотя мы не собирались прожить настоящее».
Вернулась Кёко. Новая цепочка на самом деле гораздо больше, чем прежняя, шла к ее платью. Это небольшое изменение — всего одно небольшое изменение на крохотном кусочке белой кожи между горлом и грудью, — казалось, как-то уменьшило противоречия в мире, внесло чуточку гармонии. Впечатления Сэйитиро были, скорее всего, преувеличены из-за опьянения. Во всяком случае, он оценил:
— На этот раз подходит.
Кёко была довольна, они улыбнулись друг другу. Радость взаимопонимания, пусть и нарочитая, трогала душу обоих.
В этом доме Сэйитиро, после того как умер отец Кёко и был изгнан муж, стал дышать свободнее. Его покойный отец всю жизнь преданно служил отцу Кёко, а в воскресенье и праздники вместе с женой и ребенком приходил справиться о здоровье патрона. Благодаря «демократичному» отцу Кёко маленький Сэйитиро играл с его дочерью, выслушивал грубости и обязательно получал перед уходом домой сверток со сладостями. Кёко, взрослея, стала стесняться посещений Сэйитиро. Его отец уже не брал сына с собой.
После того как Кёко вышла замуж и пока был жив ее отец, в студенческие годы Сэйитиро возродил обычай несколько раз в год наносить им визит: хозяин дома и молодые супруги тепло его встречали. Но теперь, приходя сюда, Сэйитиро вел себя как глава семьи. Если вдуматься, было в таком поведении что-то оскорбительное.
Тем не менее Сэйитиро хорошо знал Кёко и в душе одобрял то, с какой яростью она рушила сословные различия. Она стала для него всего лишь идеальным средством, которое, как столовый прибор, всегда под рукой. Его появление в любое время дня и ночи, беззастенчивое равнодушие, небрежность, с какой он представлял Кёко своим приятелям, а затем окружал ее ими... Всего этого она желала сама. Преувеличением было бы сказать, что Кёко любила Сэйитиро, но в моменты одиночества видела в нем самого близкого друга. В этом мире она больше всего презирала раболепство. В сравнении с ним высокомерие выглядело привлекательнее. Может быть, они и правда еще с детства стали единомышленниками.
Кёко получала вполне естественное удовольствие от того самоуправства, которое Сэйитиро демонстрировал в ее доме. Он во всем знал меру. Давая Кёко серьезные советы по управлению имуществом, заботился о выгоде. Это было частью его таланта. В то же время безоговорочный нигилизм бросал на него свою мрачную тень, и Масако не любила его больше, чем кого-либо.
Сэйитиро упрямо пророчил конец света.
— Невозможно смотреть, как все губят в местах, восстановленных с таким трудом, — ответила Кёко. — На прошлой неделе я поднялась на крышу общественного центра в Мидзунами и после долгого перерыва рассмотрела Токио сверху. Своими глазами увидела, насколько уже восстановили город, это удивительно. Полностью исчезли следы пожарищ, беспорядочные ямы засыпаны, на пустырях все меньше остается сорной травы, лишь люди движутся, как носимые ветрами семена сорняков.
Сэйитиро спросил, неужели такой пейзаж действительно обрадовал Кёко.
— Я этого не почувствовала, — отозвалась она.
— Так оно и есть. Ты тоже, если говоришь, как думаешь, любишь разрушения и уничтожение, тут мы с тобой заодно. Я навсегда запомнил отблеск огромного пламени на горящих просторах и смотрю на современные кварталы как бы из прошлого. Точно. Когда сейчас, шагая по новой холодной дороге из бетона, ты не чувствуешь под ногами жара горячих углей на сожженной земле, тебе чего-то не хватает. Тебе грустно, когда ты не видишь в новых современных, облицованных стеклом зданиях выросшие на пожарище одуванчики. Но тебе нравится разруха, которая уже ушла в прошлое. В тебе, должно быть, говорит гордость за то, что в период крушения ты одна воспитывала дочь, все подробно изучила, создала. Ведь в тебе живет странное, ни с чем не сравнимое отвращение к различным поступкам, к тому, чтобы восстать из пепла, осуждать безнравственность, прославлять и реформировать строительство, стремиться стать еще достойнее, наобум, безрассудно возрождаться, резко менять свою жизнь. Ты не можешь жить в настоящем.
— Не хочешь ли ты сказать, что сам живешь в настоящем? — парировала Кёко. — Вечно боишься будущего, весь полон этим огромным страхом, а сейчас только и говоришь о конце света.
— Верно, — признался Сэйитиро. Он заговорил воодушевленно, в словах против его воли сквозила горячность юности. Однако за стенами этого дома он никогда не допускал подобной оплошности. — Так оно и есть. Как можно жить дальше, если не веришь в неизбежный конец света? Как без боязни, что тебя стошнит, ходить на службу и обратно по дороге с красными почтовыми тумбами, зная, что они здесь навечно? Раз так, он абсолютно недопустим — этот красный цвет тумб, их уродливо распахнутые щели-рты. Я бы сразу пнул ее, боролся бы с ней, повалил, разбил бы вдребезги. Я бы вытерпел и позволил расставить эти сооружения на моем пути, как позволил бы существовать начальнику станции с лицом тюленя, которого встречаю каждое утро. Смирился бы с яично-желтым цветом стен лифта в здании фирмы, воздушными шарами с рекламой, на которые я смотрю в обеденный перерыв с крыши... Все потому, что уверен — мир рухнет.
— А-а, ты все позволишь, все проглотишь.
— Проглотить, как это делает сказочный кот, — вот единственный оставшийся способ бороться и жить. Этот кот глотает все, что встречает на своем пути. Повозку, собаку, здание школы, когда пересохнет горло, цистерну с водой, королевскую процессию, старушку, тележку с молоком. Он знает, как нужно жить. Ты мечтала о крахе мира прошлого, я же предвижу крах будущего. Между двумя этими крушениями потихоньку выживает настоящее. Его способ жизни подлый и дерзкий, до ужаса безразличный. Мы опутаны иллюзиями, что это будет длиться вечно и мы будем жить вечно. Иллюзии постепенно расползаются, парализуют толпы людей. Сейчас не только исчезла граница между грезами и реальностью, все считают, что эти иллюзии и есть реальность.
— Только ты знаешь, что это иллюзии, а потому спокойно их проглотишь, ведь так?
— Да. Ведь я знаю, что подлинная реальность — это «Мир накануне гибели».
— Откуда ты это знаешь?
— Я вижу. Любой, присмотревшись, увидел бы причину своих действий. Однако никто и не стремится вглядываться. У меня есть мужество всматриваться, своими глазами я, как на ладони, увидел это раньше других. Так же ясно, как часовую стрелку на башенных часах.
Сэйитиро все больше пьянел. По красному лицу, неловким движениям становилось понятно, что он уже не отвечает за свои мысли. Этот юноша в приличном темно-синем пиджаке, скромном галстуке и неброских носках никогда особо не стремился смешаться с толпой, и даже около грязноватых манжет его рубашки витал запах самой обычной, заурядной жизни. Складывалось впечатление, что грязь осела не естественным путем, а он нанес ее на рукава собственным тяжким трудом. Та́я и разлагаясь, будто выброшенная на песчаный берег медуза, в доме Кёко он, казалось, отверг любой выбор: углублявшиеся противоречия, идеи, чувства, одежда — все представляло собой не более чем разношерстную смесь.
Внезапно Сэйитиро сменил тему:
— Как Сюн перед тренировкой?
— Похоже, прекрасно. Уходил в хорошем настроении.
Кёко рассказала о сегодняшней послеобеденной драке.
Сэйитиро вдоволь посмеялся. Сам он не ввязывался в драки, но любил рассказы о чужих стычках. Похвалил Кёко за храбрость и что она не растерялась.
Сэйитиро глубоко втянул ночной воздух, широко зевнул. Задвигался ярко освещенный острый кадык. Резко, будто желая сменить позу, он встал, подошел к Кёко, пожал ей руку.
— Спокойной ночи. Пойду. Ты, наверное, устала после поездки.
— Так чего ж ты приходил? — спросила Кёко, не вставая со стула. Она не смотрела на Сэйитиро, а разглядывала острые кончики ярко-красных ногтей, которые в ночи казались еще острее.
— Зачем приходил, спрашиваешь?
Помахивая портфелем с документами, он прошелся несколько раз перед дверью, словно любуясь тем, как движется тень по дубовым створкам, затем изрек:
— Что-то голова болит. Да... Должно быть, хотел дать тебе совет или услышать твое мнение.
— По какому поводу?
— Я скоро женюсь.
Кёко ничего на это не сказала и вышла в прихожую проводить Сэйитиро. Усилившийся к ночи ветер крутился, ударяясь о каменную ограду и стены, которые с трех сторон окружали двор. Там, куда доставал свет из прихожей, было видно, как ветер раскачивает красные глянцевые плоды и сочные бледно-зеленые листья аукубы. Шарики плодов висели гроздьями.
— Ужасный ветер, — на прощание произнесла Кёко. Сэйитиро обернулся, во взгляде его мелькнуло подозрение. Ведь он знал, что Кёко не станет во время сильного ветра пояснять: «Ужасный ветер». Она же решила, что именно подозрительный взгляд в этот момент был наивысшим проявлением его бесцеремонности. Однако у Кёко не было причин его ненавидеть.
Масако, которая по-европейски спала в комнате одна, проснулась, когда удалился Сэйитиро. Взглянула на часы, подумала: «Сегодня последний гость ушел довольно рано». Она встала, стараясь не шуметь, выдвинула ящик комода с игрушками. У нее это здорово получалось — беззвучно выдвинуть ящик.
От кукольной одежды, которой он был заполнен, повеяло камфарой. Масако нравились обернутые в цветной целлофан камфарные шарики, в ящике их было много. Оставаясь одна, она любила сунуть нос в ящик и полной грудью вдохнуть стойкий, без примесей запах.
Кукольные платья в слабом свете уличного фонаря, проникавшем сквозь стекло, казались светло-голубыми и нежно-персиковыми. Грубое дешевое кружево волнами окаймляло подол. Масако временами раздражала эта вечно чистая одежда.
Оглядевшись, она прикусила высунутый язык и потянула из-под кукольных нарядов снимок. Бросилась к окну и при неясном свете вперила взгляд в фотографию отца, которого выставили из дома. На фотографии был вялый, тщедушный, но изящный молодой мужчина в очках без оправы, с волосами на прямой пробор, из-под воротника выглядывал небольшой узел неровно завязанного галстука.
Масако без сентиментальности, словно отыскивая человека по фотографии, пристально рассматривала снимок. И, как вошло у нее в привычку при пробуждении ночью, тихо прошептала:
— Подожди. Я когда-нибудь обязательно позову тебя назад.
От фотографии пахло камфарой. Так для Масако пахли и глубокая ночь, и тайна, и отец. Надышавшись этими ароматами, она хорошо спала. Здесь уже исчез запах псины, который так ненавидела Кёко.
1Гиндза — один из центральных кварталов и ведущий фешенебельный торговый район Токио. — Здесьи далее примеч. перев.
2Хаконэ — самый популярный курорт Японии, примерно в 100 км от Токио. Славится горами, природными красотами, термальными источниками.
3Каннон — одно из самых почитаемых буддийских божеств в Японии, в образе богини — милосердная заступница. Одно из распространенных обличий — Тысячерукая Каннон; эти руки символизируют безмерные возможности богини для спасения всех живых существ.
4Синаномати — один из округов района Синдзюку в Токио.
5Война в Корее, или Корейская война (1950–1953), — вооруженный конфликт между Республикой Корея и КНДР времен холодной войны.
6«Фукурюмару» — название японской шхуны, рыбаки которой пострадали от радиоактивного пепла и воздействия радиации, оказавшись близ Маршалловых островов при испытании водородной бомбы США в 1954 году на атолле Бикини.
Глава вторая
— Инукаи понесло, — заметил Саэки, сослуживец, вместе с которым Сэйитиро вышел пройтись в обеденный перерыв.
Они направлялись к Нидзюбаси7, собирались пойти в парк.
— Судя по фамилии, он домашняя собака, — продолжил Саэки.
Сэйитиро кивнул:
— Не понял он мужчин. Упустил единственный в жизни шанс возвысить мужчину.
Премьер Ёсида был из тех, кто предпочитал привычный уклад и терпеть не мог реформы. И не только Ёсида: хватало и других старорежимных, забавлявших людей упрямцев. Однако министр юстиции Инукаи Такэру8 повел себя оригинально. Он стал первым, кто независимо от личных идей и пристрастий в лицах грубо разыграл перед публикой, какой вклад должен внести в существующий порядок. Все было нарочито комично и утрированно. Цилиндр, который надевает шут, заставляет сомневаться в достоинстве цилиндра как символа — так и это неожиданно развенчало величие режима. Обозлило народ, и возмущение стало повсеместным.
Вчера утренние выпуски газет объявили, что министр юстиции Инукаи воспользовался особыми полномочиями, вечерние выпуски опубликовали его заявление об отставке. В глазах общества это выглядело непоследовательно. Если ты намерен объявить, что уходишь в отставку, то не должен использовать свое особое право, а уж если использовал, то не говори об отставке. Инукаи хотел угодить и премьеру, и массам, что, естественно, вызвало противоречия. То была карикатура, злившая людей.
Все возмущались. Гнев обуял все сословия, распространился беспрецедентно, но стоит добавить, что сделался и самым безопасным. Этому Сэйитиро сочувствовал. Он тоже был обязан возмущаться, и возмущаться было естественнее.
— Он прямо как визгливая женщина. Как ты думаешь? — снова заговорил Саэки.
— Безумно возмущает, — отозвался Сэйитиро. Он всегда держал себя в руках, чтобы в его взглядах, не дай бог, не пробился ревизионизм, каким его представляли в бесконечно консервативных отсталых газетах.
Был довольно теплый, чуть сумрачный разгар дня. Толпы служащих — мужчины и женщины — совершали послеобеденный моцион. Сэйитиро и Саэки остановились у крепостного рва.
Зеленела ива, на узком газоне, окружавшем ров, между листьями разросшейся люцерны выглядывали одуванчики. Вода во рву, похожая на иссиня-черное варево, собиралась болотом в углах, — казалось, там плавает кверху изнанкой грязный ковер.
Саэки и Сэйитиро двинулись дальше. Перешли через дорогу, где постоянно сновали машины. Им, сослуживцам, знавшим округу как свои пять пальцев, все представлялось, как и в офисе, привычным, неизменным. Сосна — ориентир на исхоженной дороге — ничем особо не отличалась от вешалки для головных уборов в офисе. Ее как будто бы не существовало.
Саэки, похоже, в голову пришла очередная прихоть.
— Пойдем куда-нибудь, где мы еще не были.
Сэйитиро, чтобы намекнуть ему на нехватку времени, взглянул на часы. Саэки прошел чуть вперед и остановился. Посмотрел на стоявший экскурсионный автобус и, похоже, вспомнил место, от которого обычно держался на почтительном расстоянии. Здесь, в парке, проходила невидимая государственная граница: прогуливающиеся служащие и туристы из автобуса, само собой разумеется, не посягали на чужую территорию.
Служащие — и мужчины, и женщины — двигались чуть церемонно, гордо выпятив грудь, в общем, как на картине городского пейзажа. Их желудок требовал движения под мягкими, полупрозрачными лучами солнца, забота о здоровье приводила в движение ноги. Чистый воздух, солнце, получасовая прогулка — все на пользу, еще и даром.
Сэйитиро подумал: «Естественно, когда такая забота о здоровье рождается у кого-то одного. Но множество людей, озабоченных тем же и действующих синхронно, фантастически уродливо. Как это отвратительно, когда такое количество народу ставит своей целью прожить долго. Дух санатория. Концентрационного лагеря».
Он вспомнил о ранке в уголке губ, которую утром оставила безопасная бритва. Лизнул кончиком языка, во рту остался горько-соленый привкус. Вспомнил, как его взволновала эта крошечная оплошность, когда он вдруг увидел в зеркале выступившую на губе кровь. Хорошо изредка пренебречь осторожностью. Может быть, бритва по его воле на миг скользнула вбок.
— Вот тут ты еще, наверное, не бывал, — гордо произнес Саэки, пробираясь впереди Сэйитиро между обожженными столбами, преграждавшими путь машинам.
— В детстве точно приходил, но...
— В детстве — это другое.
Ступая по бумажному мусору, разбросанному в тени низкой сосны, они увидели бронзовый памятник. Всем известный памятник сидящему на коне самураю Кусуноки Масасигэ9.
Кусуноки в надвинутом на глаза рогатом шлеме правой рукой крепко держит повод. У мощного рысака напряжены все мускулы, голова горделиво поднята, левая передняя нога копытом рассекает воздух, грива и хвост вздыблены встречным ветром. Удивительно, что старый памятник воину, верному императору, благополучно пережил оккупацию. Возможно, на это смотрели сквозь пальцы, потому что конь был выполнен едва ли не лучше самого Кусуноки. Под тонкой бронзовой кожей наливались, как живые, мускулы готового броситься в битву молодого жеребца, угадывались набухшие вены. Мощь, сквозившая в позе, вызывала в воображении врага там, куда направлял коня всадник. Но враг уже мертв. Опасный, сильный, закованный в броню враг пропал из виду, давно сбежал с поля боя, обернулся хитрым и лукавым и усмехается, паря в неясной весенней дымке над головами деревенщин, которые, раскрыв рот, разглядывают бронзового коня.
Девушка-гид объясняла нескольким таким из деревни:
— Посмотрите. У лошади на кончике хвоста воробьи свили гнездо и сейчас чирикают «тюко, тюко» — звучит так же, как «верноподданность и сыновний долг».
Поднявшийся во второй половине дня ветер буквально срывал с высохшей от весенней пыли губной помады звонкий молодой женский голос. Кое-кто из экскурсантов, словно не расслышав, прикладывал к уху морщинистые руки, в которые навеки въелась земля.
Горы бумажного мусора, невероятно много голубей. Голуби сидели на шлеме между рогами. Шорох шагов усталых путешественников, уныло шаркающих по гравию. В общем, депрессивная картина — оскудение, покрывшее все, будто весенняя пыль.
Мрачный вид, мрачный пейзаж... Они не говорят, как изменились существующие в них вещи. После окончания Корейской войны временное оживление инвестиций продолжалось весь прошлый год, но вскоре наступила депрессия. Само слово «депрессия», как туча пепла, поднялось со страниц газет, разлетелось по ним, замутило воздух, осело на предметах, изменилось по смыслу. В мгновение ока деревья превратились в «депрессивные», дождь, бронзовый памятник, галстук стали «депрессивными». Некогда, в похожие времена, читатели радостно встречали истории из жизни слуг Куни Сасаки, сегодня народ с удовольствием читает повести Гэндзи Кэйты10. Все дело в том, что, хотя книги такого рода в некоторой степени продукт отчаяния, в них нигде не встречается само слово «отчаяние».
Саэки и Сэйитиро сели на металлическую цепь, ограждавшую памятник. Приятно было с бесстрастным лицом курить в окружении туристов.
— Завидую я Кусуноки. Не думал он о таких вещах, как процветание, депрессия.
— Мы сами в чем-то Кусуноки. Хорошо, если бы только верноподданность и сыновний долг заставляли терять голову, — произнес Саэки, больше склонный к цинизму, чем Сэйитиро. — И потом, с сильным конем у нас все в порядке. Наш конь зовется компанией финансовой группы.
— На самом деле сильный конь.
— Бессмертный. Просто феникс среди коней. Лапы, крылья оторвали, сожгли, а он вмиг возродился.
Саэки был циником, но ни за что на свете не поверил бы в «крах». Он и по жизни верил в бессмертие, несокрушимые памятники. В спорах его чуть выпуклые глаза прямо сверкали за стеклами очков.
— А-а, да. Забыл тебе рассказать, — неожиданно, словно вернувшись на землю, проговорил Саэки. — Утром в газетах появилась заметка, что женщина, глава косметической фирмы, обанкротившейся в депрессию, покончила с собой. Все, похоже, считают, что причина не в этом, а в мужчине. Вот доказательство: к роковому шагу подтолкнуло то, что ее в молодости бросил мужчина. Она добилась успеха и, притворяясь мужененавистницей, то и дело меняла спутников, а последний мужчина бросил ее в момент банкротства фирмы. И кто, ты думаешь, был первой любовью, кто подготовил почву для самоубийства? Наш начальник отдела, господин Саката.
Сэйитиро уже слышал эти сплетни. Однако простодушно и по всем правилам изобразил удивление:
— Да что ты говоришь! И наш начальник пережил романтические времена...
— Ты прямо сама наивность.
Сэйитиро, услышав это, сдержал довольную улыбку.
— Нет здесь никакой романтики. Просто в студенческие годы начальник сблизился с ней, чтобы она дала деньги на учебу. Типичный прагматизм. Начальник еще до прихода в нашу компанию «Ямакава-буссан» постиг дух предпринимательства.
— Мы должны брать с него пример.
— Ну, по крайней мере, не ты. Ты простодушный славный парень: если влюбишься, то безоглядно, со всей пылкостью.
Такая неожиданная оценка со стороны осчастливила Сэйитиро. Он слишком открылся перед Саэки, но тот, как ни крути, был способным, рассудительным и бесконечно далеким от типа славного парня — он наслаждался собственной сложностью. Как-то раз он с серьезным видом поделился с Сэйитиро своей бедой:
— Завидую я тебе. Ведешь себя естественно, при этом и родился там, где адаптировался к обществу. У тебя нет страха перед будущим, уважения к авторитетам и чересчур строгим взглядам на жизнь.
Возвращаясь окольным путем вокруг перекрестка на Хибия, они критиковали власти за политику дефляции. Единственный способ — это навести порядок в финансах. Формирование бюджета прошло практически без обсуждений. Повторялся один сценарий: как восторг от возвышенной страсти неизбежно заканчивается крушением иллюзий, так и подъем производства когда-то заканчивается горой нереализованных товаров, ухудшением торгового баланса, распылением государственных вложений. Заканчивается возможностью инфляции, экономией финансов, политикой дефляции... Однако служащие из торговых фирм могли безопасно критиковать правительство. Правительство еще со времен Мэйдзи11 привыкло, что малейшая предосторожность — именно предосторожность — вызывает смех у лавочников.
Сэйитиро заметил афишу с торговой площадки перед Императорским театром. Она извещала, что послезавтра начинаются выступления Жозефины Бейкер12. Кёко по телефону приглашала его вместе пойти на концерт, но он отказался. Он не любил сопровождать Кёко в людные места. Встречаться лучше было у нее дома. Кёко равнодушно выслушала этот привычный отказ и заметила: «Тогда пойду с Осаму». Красивый, рассеянный Осаму куда больше подходил для того, чтобы сопровождать Кёко. Витающий в облаках юноша, на лице которого причудливо сочетались мужские брови, девичьи губы и романтически влажный взгляд. Со стороны Сэйитиро и Осаму были совсем не похожи, но Сэйитиро иногда казалось, что он понимает, о чем думает Осаму. Тогда бессознательный образ жизни Осаму и вполне сознательный образ жизни Сэйитиро выглядели как две стороны щита.
На углу квартала показалось мрачное старое здание компании «Ямакава-буссан». Было без четверти час. Котани — новичок, сослуживец из их же отдела, закашлявшись, с горящими щеками приветливо взглянул на проходивших мимо Сэйитиро и Саэки, сбавил шаг и, перебирая ногами, как заведенный, направился к служебному входу.
— Эй, не стоит так спешить, — скорее прошептал Сэйитиро, рассчитывая, что не услышат, но его уже и так не было слышно.
— Кто-то сказал ему, что нужно добраться до стола хотя бы на шаг раньше старших.
— Все новички у нас ростом с каланчу. Хорошо их кормили. Не то что наше поколение — мы выросли на пищевых заменителях и бобовом жмыхе.
Бросающаяся в глаза молодость новичков, слишком яркий блеск глаз, натянутая улыбка с желанием понравиться, но не выглядеть заискивающим; избитый прием — чесать голову при промахе, напрягать мускулы с целью подчеркнуть жесткую позицию, самоотверженность и полная отдача, с которой выполнялось любое дело... Все это, конечно, радовало, но Сэйитиро куда больше нравилось видеть, как через месяц, через два на лицах постепенно проступают апатия, тревожность, предчувствие краха иллюзий. Тем не менее сам он верил, что и через три года после прихода в компанию сохранил выделяющую его среди сослуживцев живость, гладкость щек, привлекающую людей молодость, немногословность и не поддался никакой апатии.
Офис «Ямакава-буссан» находился в сером восьмиэтажном здании с бронзовой табличкой «Главная контора фирмы „Ямакава“». Финансовая группа «Ямакава» во всем предпочитала скромность. Нигде ни следа модернизма, серая бетонная коробка облицована гранитом — это сооружение не вызывало у смотрящих на него людей иллюзий. Оно полностью отражалось в здании напротив — модном, со стенами из стекла. Из-за этой постоянной тени современнейшее здание уже не выглядело столь современным.
После того как в результате слияния трех фирм ранней весной этого года компания «Ямакава-буссан» возродилась к жизни, Сэйитиро, согласно традиции, переехал из офиса в здании N, где провел первые три года своей службы, в главную контору. Весь прежний блеск вернулся. Впервые после переезда входя в это здание, Сэйитиро вспомнил пункты программы, которую ему внушали. Эти лозунги тщательно сохранялись и сейчас.
Запомни: отчаяние воспитывает человека дела.
Ты обязан полностью отказаться от героизма.
Ты обязан беспрекословно подчиняться тому, чем пренебрегаешь. Пренебрегаешь традициями — традициям. Пренебрегаешь общественным мнением — общественному мнению.
Ты обязан ежесекундно и ежечасно быть образцом добродетели.
Сэйитиро каждый месяц участвовал в составлении хайку13. Отсутствие поэтического таланта — самый быстрый путь, чтобы завоевать доверие. Он посещал те же собрания общества любителей поэзии, что и его начальник, и воодушевленно писал довольно жалкие стихи, которые редко удостаивались похвалы. Старательно продумывал ежемесячную «дозировку» — ровно семнадцать слогов, не больше и не меньше.
* * *
— Ты вечером ходил с Кёко на Жозефину Бейкер? — сквозь сон услышал Осаму вопрос Хироко.
— Ходил, а что?
Хироко развела в стороны его голые руки и прижала, как на распятии, навалилась на грудь и принялась губами щекотать подмышки. Осаму терпеть не мог щекотку и вопил, корчась. Но никак не мог сбросить горячее женское тело.
— Трус! Дохляк! — обидно обругала его Хироко.
Осаму, смирившись, прикрыл глаза. Тяжесть лежащего сверху женского тела и собственные влажные от слюны подмышки вместе напоминали доносимый издалека запах гниющей соломы, и это вызывало неприятное ощущение, похожее на подступающую тошноту. Он постоянно пребывал в ожидании щекотки: так чуткая листва ждет дуновений ветерка.
«Хироко назвала меня дохляком. А что, если выступить на сцене голым?! Я был поглощен своим лицом, а про тело как-то не думал... Может, будь у меня на костях больше мяса, мое существование стало бы чуть значительнее. Плоть сама по себе есть способ существования, вес, значит, если вес увеличится, пожалуй, усилится и мое ощущение бытия. Потолстеть? А смогу ли я не превратиться в дрожащее желе? Вот ведь странно: чтобы удостовериться в собственном существовании, остается только постоянно смотреться в зеркало».
Он наконец высвободил руки из рук Хироко и зашарил у изголовья, отыскивая зеркало.
— Что ищешь? Зеркало?
Хироко хорошо знала его привычки. Ее обведенная слабым сиянием приглушенного света лампы рука с накинутым полотенцем протянулась над лицом Осаму. Его обдало запахом подмышек, похожим на аромат гардении. Рука двигалась не для того, чтобы достать для Осаму с циновки карманное зеркальце, а чтобы отбросить его подальше.
— Что-то нет зеркала. Я поищу.
При этих словах Хироко руками крепко сжала щеки Осаму. Они были безволосыми, ее руки давили на гладкую плоть. Губы женщины сначала коснулись блестящей челки.
— Это твои волосы.
Затем белого лба.
— Это твой лоб.
Потом по очереди густых бровей.
— Это твои брови.
Ее губы ползали по тонкой коже век, как муха. Осаму вращал закрытыми глазами, стремясь прогнать эту муху. Горячее дыхание заботливо согревало их, проникая сквозь тонкую кожицу.
— Это твои глаза. Ты можешь видеть. Точно можешь, — сказала Хироко Осаму, так и лежавшему с закрытыми глазами.
— Намного лучше, чем в зеркале.
— Это твой нос, — опять начала Хироко.
Он втянул чуть остывшим в холодном ночном воздухе носом запах горячего влажного дыхания, и ему показалось, что такой запах он вдыхал летом где-то на берегу речки.
Осаму, как обессиленный тяжелобольной, не мог даже прогнать ползавшую по лицу муху. Ему было жутко омерзительно, но он знал, что свыкся с подобным отвращением, как та свинья, что средь бела дня купается в грязи. Во что бы то ни стало ему нужно свидетельство зеркала. Но комнату заполнял неподвижно тусклый свет, ногти впустую скользили по циновке: зеркала нигде не было.
Хироко жила в квартире отдельно от мужа, но с Осаму на свиданиях встречалась в районе Сибуя, в гостинице. В первое время Осаму поражала ее открытость в обращении с персоналом — горничными и кассирами. Комнаты располагались в отдалении друг от друга, пруды были очерчены сложными дорожками, глубокой ночью оттуда порой доносились всплески воды — это резвились карпы. В окна сверкали неоновые огни ресторанов близ станции Сибуя, и, несмотря на это, было прямо-таки противоестественно тихо.
Осаму рывком поднялся, надел футболку. Ему хотелось немного побыть одному, и он пошел умыться. Закрыл за спиной дверь ванной и, обратившись к зеркалу под ярким светом ламп, облегченно вздохнул. Тщательно причесал взъерошенные волосы. Довольно жирные волосы, облитые, как лакированная шкатулка, ярким глянцем, опять хорошо легли.
«Противно. Мерзко. Отвратительно. Хочу любить миниатюрную, ненавязчивую девочку с личиком, которое мне нравится», — думал Осаму. Лицо, глядевшее из зеркала, любили разные девочки. После того как с одной из них он переспал, заделал ребенка и бросил, Осаму немало натерпелся в ситуации, которая в глазах других не выглядела постыдной.
Хироко была полненькой смуглой красавицей, хотя черты лица не отличались правильностью: большие глаза с высоко очерченными веками, ровный нос, рот с выступающей нижней губой, хорошей формы уши. Осаму примерно представлял, что она скажет, если он сейчас вернется в постель, но Хироко выбрала: «Я тебе поднадоела. Прости, пожалуйста». В те ночи, что они проводили вместе, она проявляла и обычную ревность, и могла вести себя как полусумасшедшая, но при этом самоуважение и чувства в ней вполне уживались друг с другом. Плюнь она сейчас на него, он ни за что не кинулся бы ее догонять. Их свидания всегда были какими-то судорожными: встречались десять дней подряд и после расставались на два месяца, а то и больше. Впервые он встретился с Хироко в доме Кёко. Осаму по своей лености просто позволил себя выбрать.
Глубокой ночью красивое лицо Осаму четко отражалось в зеркале
«Здесь я определенно существую», — подумал он. Удлиненный разрез глаз под красиво очерченными бровями, блестящие черные зрачки... Редко где в городе встретишь столь привлекательного юношу. Осаму был полностью доволен: на его безмятежном лице не отразилось и тени недавних поступков.
«Займусь-ка я, как советуют приятели, тяжелой атлетикой. Если меня тронут, то накачанные упругие мышцы доспехами защитят тело. И на лице вес скажется», — размышлял он.
В отличие от лица, мускулы он мог внимательно осмотреть и без зеркала. Руки, грудь, живот, бедра — все убедительно доказывало его существование, постоянный призыв к существованию, поэзию существования — все это он мог наблюдать.
На список распределения ролей в следующей постановке, который вывесили на стене репетиционного зала в театральной студии, Осаму взглянул мельком. На третьем месте с конца стояло «юноша D» — это была его роль. Роль, где он всего лишь немного танцевал в последней сцене в кабаре, роль без слов. По сюжету он должен был, обнаружив, что героиня убита, испугаться и тотчас уйти.
На сцене вовсю шла репетиция. Героиня, которую играла Тода Орико, произносила слова роли:
— Кабаре, где я выступаю, необычное. Там каждый вечер случаются драки на ножах, трагедии, любовные драмы, страсти. Да, любая грубая страсть выше ваших заумных лиц — там должны изливаться подлинная страсть, подлинная ненависть, настоящие слезы, настоящая кровь. Пригласительные билеты на открытую ночь напечатают через пару дней. Приходите. Приходите к нам, достаточно посмотреть одну часть. Вам-то и начало пригодится.
Орико стояла на пыльной сцене перед грязными досками, которые ограждали декорации: без макияжа, волосы убраны под сетку, блузка и брюки не сочетаются по цвету. Режиссер Миура прервал ее:
— Минуточку... Когда вы произносите «настоящая кровь», пройдите несколько шагов в сторону профессора Асами, который в левой части сцены. Будто вы ему угрожаете. И еще я неоднократно говорил: «Приходите» — эти слова чуть настойчивее.
Орико кивнула. Помощник режиссера Кусака, тихо выяснив намерения Миуры, прокричал:
— Повторяем! По тексту с реплики профессора Асами!
«Нелепая пьеса». Осаму, прислонившись к стене, отпускал справедливые замечания, в которых сквозила снедавшая его обида, свойственная молодым актерам. Пьеса действительно была нелепой. Безудержное влечение к хитроумному Жироду14