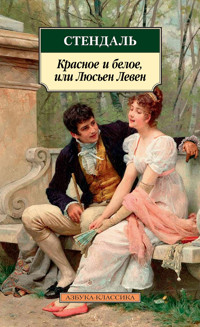Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XSPO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Стендаль (псевдоним Анри-Мари Бейля, 1787–1842) — один из величайших мастеров французской прозы, чьё творчество стало ярким отражением бурной эпохи Французской революции и Реставрации. Его произведения известны глубоким психологическим анализом, постановкой масштабных социальных проблем и реалистичным изображением противоречий своего времени. В данном томе представлен один из самых знаменитых романов Стендаля — «Красное и чёрное» (1831), который по праву считается шедевром мировой литературы. Этот роман рассказывает о трагической судьбе Жюльена Сореля, молодого человека из крестьянской семьи, чьи честолюбивые стремления сталкиваются с жестокой реальностью кастового и лицемерного общества эпохи Реставрации. Жюльен, обладающий выдающимися способностями и жаждой успеха, стремится подняться над своим скромным происхождением. Однако на его пути встают социальные барьеры, предвзятость аристократии и собственные внутренние противоречия, где честолюбие вступает в конфликт с чувством чести. «Красное и чёрное» — это не только история одного человека, но и глубокое исследование французского общества XIX века, с его двойными стандартами, социальными неравенствами и безжалостной борьбой за место под солнцем. Настоящее издание выполнено с особой тщательностью, чтобы сохранить стиль и атмосферу оригинала, делая роман доступным для современного читателя. Книга станет настоящей находкой для тех, кто ценит классическую литературу, глубокую психологию и проницательное социальное наблюдение.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Красное и черное
Автор(ы): Стендаль
Перевод: Н. Чуйко
Стендаль (псевдоним Анри-Мари Бейля, 1787–1842) — один из величайших мастеров французской прозы, чьё творчество стало ярким отражением бурной эпохи Французской революции и Реставрации. Его произведения известны глубоким психологическим анализом, постановкой масштабных социальных проблем и реалистичным изображением противоречий своего времени. В данном томе представлен один из самых знаменитых романов Стендаля — «Красное и чёрное» (1831), который по праву считается шедевром мировой литературы. Этот роман рассказывает о трагической судьбе Жюльена Сореля, молодого человека из крестьянской семьи, чьи честолюбивые стремления сталкиваются с жестокой реальностью кастового и лицемерного общества эпохи Реставрации. Жюльен, обладающий выдающимися способностями и жаждой успеха, стремится подняться над своим скромным происхождением. Однако на его пути встают социальные барьеры, предвзятость аристократии и собственные внутренние противоречия, где честолюбие вступает в конфликт с чувством чести. «Красное и чёрное» — это не только история одного человека, но и глубокое исследование французского общества XIX века, с его двойными стандартами, социальными неравенствами и безжалостной борьбой за место под солнцем. Настоящее издание выполнено с особой тщательностью, чтобы сохранить стиль и атмосферу оригинала, делая роман доступным для современного читателя. Книга станет настоящей находкой для тех, кто ценит классическую литературу, глубокую психологию и проницательное социальное наблюдение.
Красное и черное
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ
Эта работа была готова к выходу, когда великие июльские события дали всем умам направление, малоблагоприятное для игры воображения. Мы имеем основание полагать, что следующие за этим страницы были написаны в 1827 году.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Правда! Пусть горькая, но
только одна правда.
Дантон
I
МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
Если в клетку посадить даже тысячу, то все же клетка не станет местом веселья.
Гоббс*
Маленький город Веррьер может считаться одним из самых красивых во Франш-Контэ*. Его белые домики с островерхими крышами из красной черепицы тянутся по склону холма, малейшие извилины которого обозначаются группами высоких каштанов. Дубс течет в нескольких сотнях футов от его укреплений, построенных некогда испанцами и теперь лежащих в развалинах.
С северной стороны Веррьер защищен высокой горой, одним из отрогов Юры. Крутые вершины Веррьера покрываются снегом с самых ранних октябрьских холодов. Поток, низвергающийся с горы, протекает по Веррьеру до своего владения в Дубсе и приводит в движение множество лесопилен; эта очень простая промышленность служит источником существования главной части населения, состоящего больше из крестьян, чем из горожан. Однако не лесопильни обогатили этот городок,— фабрика набоек, известных под названием мюльгазенских; ей-то обязаны все жители своим благосостоянием, которое позволило им со времени падения Наполеона перестроить фасады почти всех домов Веррьера.
У самого въезда в город всякого новоприбывшего оглушает стук машины, на вид очень страшной. Двадцать тяжелых молотов, падающих с гулом, от которого дрожит мостовая, поднимаются колесом, приводимым в действие водою потока. Каждый из этих молотов выделывает ежедневно не знаю сколько тысяч гвоздей. Молоденькие девушки, цветущие и хорошенькие, подставляют под удары этих огромных молотов кусочки
железа, в мгновение ока превращаемые в гвозди. Эта работа, по видимости столь тяжелая, больше всего поражает путешественника, первый раз очутившегося за горами, отделяющими Францию от Гельвеции*. Если, войдя в Веррьер, путешественник спросит, кому принадлежит эта прекрасная фабрика, оглушающая людей, поднимающихся по Большой улице, ему ответят на местном наречии, с протяжным акцентом: «Э-э! Она принадлежит господину мэру».
Если путешественник хоть на несколько минут остановится на этой Большой улице Веррьера, которая тянется от берега Дубса до вершины холма, то можно держать пари на сто против одного, что он встретит высокого человека с видом озабоченным и важным.
При его появлении все шляпы поспешно приподнимаются. У него волосы с проседью, одет он во все серое. Он — кавалер нескольких орденов — имеет большой лоб, орлиный нос, и в общем лицо его не лишено некоторой правильности; даже находят с первого взгляда, что оно соединяет с достоинством деревенского мэра некоторую приятность, насколько это возможно в сорок восемь или пятьдесят лет. Но вскоре парижанина поражает самодовольный вид, соединенный с некоторой ограниченностью и глупостью. Он чувствует наконец, что все способности этого человека ограничиваются умением заставлять аккуратно уплачивать все, что ему должны, и платить как можно позже, когда он сам должен.
Таков мэр Веррьера, господин де Реналь. Степенным шагом переходит он улицу и скрывается из вида путешественника, войдя в мэрию. Но если тот продолжит прогулку вверх по Большой улице, то в ста шагах увидит прекрасный дом, а сквозь железную решетку, к нему примыкающую, великолепные сады. За ним виднеются на горизонте холмы Бургундии, словно созданные для того, чтобы любоваться ими. Этот вид заставляет путешественника забыть зараженную мелкими денежными интересами атмосферу, от которой он уже начинал задыхаться.
Ему сообщают, что этот дом принадлежит господину де Реналю. Барышам, получаемым со своей большой фабрики гвоздей, мэр обязан этим прекрасным жилищем из тесаного камня, которое он в настоящее время достраивает. Господин де Реналь происходит, как говорят, из испанской семьи, очень старинной и поселившейся в этой местности задолго до завоевания ее Людовиком XIV.
С 1815 года он краснеет за то, что сделался промышленником: 1815 год возвел его в мэры Веррьера. Стены, террасой поддерживающие различные части этого великолепного сада, постепенно спускающегося к Дубсу, были возведены тоже благодаря умению господина де Реналя вести торговлю железом.
Не надейтесь найти во Франции живописные сады, подобные тем, что окружают промышленные города Германии: Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и другие. Чем больше воздвигают стен во Франш-Контэ, чем больше унизывают свою собственность камнями, нагроможденными одни на другие, тем больше приобретают прав на уважение соседей. Если сады
господина де Реналя, разгороженные стенами, еще теперь возбуждают восторг, то это потому, что он ценой полновесного золота купил участки земли, ими занимаемые. Например, та лесопильня, странное положение которой на берегу Дубса вас поразило при въезде в Веррьер и на которой вы заметили фамилию Сорель, написанную гигантскими буквами на доске, возвышающейся над крышей, занимала шесть лет назад то самое место, где теперь строят четвертую террасу садов господина де Реналя.
Несмотря на свою гордость, господину мэру пришлось порядочно повозиться со старым Сорелем, мужиком грубым и упрямым. Ему пришлось отсчитать тому немало блестящих золотых луидоров, прежде чем добиться, чтобы он перенес свою лесопильню в другое место. Что касается общественного потока, приводящего в движение лесопильню, то господин де Реналь получил позволение отвести его благодаря своему влиянию в высших парижскиx сферах. Эта милость была дарована ему после выборов 1820 года.
Он дал Сорелю вместо одной четыре десятины в пятистах шагах ниже по берегу Дубса. И хотя это положение было гораздо выгоднее для торговли еловыми досками, но папаша Сорель, как его зовут с тех пор, как он разбогател, сумел сорвать с нетерпения и мании, обуявшей его соседа, еще круглую сумму в шесть тысяч франков.
Правда, эту сделку очень осуждали местные умники. Однажды — это было в воскресенье, четыре года назад — господин де Реналь, возвращаясь из церкви в костюме мэра, увидел издали, как Сорель, окруженный тремя сыновьями, улыбался, посматривая на него. Эта улыбка пролила роковой свет в душу господина мэра. С тех пор он думает, что мог бы совершить сделку гораздо дешевле. Для того чтобы добиться общественного уважения в Веррьере, надо стараться, строя как можно более стен, никоим образом не принимать планов, заносимых сюда из Италии каменщиками, которые пересекают горные проходы Юры весной, направляясь в Париж. Подобное нововведение создало бы неосторожному строителю прочную репутацию вздорного человека, и он бы навеки погиб во мнении людей благоразумных и умеренных, пользующихся уважением во Франш-Контэ.
В сущности эти благоразумные люди проявляют самый несносный деспотизм; благодаря этому деспотизму жизнь в маленьких городках нестерпима для всякого, кто пожил в великой республике, называемой Парижем. Тирания мнения — да еще какого мнения — так же глупа в маленьких городах Франции, как и в Соединенных Штатах Америки.
II
МЭР
Значительность! Разве это, сударь, ничто? —Уважение глупцов, изумление младенцев, за
висть богачей, презренье мудреца.
Барнав*
К счастью для репутации господина де Реналя как администратора, появилась потребность в громадной стене для укрепления общественного места для прогулок, идущего вдоль холма в ста футах над Дубсом. Выбор этого очаровательного места для общественных прогулок объясняется тем, что здесь один из самых живописных видов во всей Франции. Но каждую весну дождевые воды бороздили этот бульвар, прорывали рытвины и делали его невозможным для гулянья. Именно это неудобство, признаваемое всеми, поставило господина де Реналя в счастливую необходимость увековечить память о своем управлении стеной в двадцать футов высоты и в тридцать или сорок саженей длины.
Парапет этой стены, ради которой господину де Реналю пришлось три раза съездить в Париж, так как предпоследний министр внутренних дел оказался смертельным врагом веррьерского места для прогулок,— поднимался теперь на четыре фута над землей. И, как бы для вызова всем министрам настоящих и прошедших времен, в данный момент его украшают плитами из тесаного камня.
Сколько раз, прислонясь к этим большим глыбам прекрасного серо-голубого камня, мечтая о балах накануне покинутого Парижа, я наслаждался зрелищем этой долины Дубса. Там, на левом берегу, извиваются пять или шесть меньших долин, в глубине которых глаз прекрасно различает маленькие речки. Местами спадая каскадами, они вливаются в Дубс. Солнце сильно припекает в этих горах. Когда лучи его падают отвесно, путешественник может безопасно помечтать на этой террасе под тенью великолепных платанов. Своим быстрым ростом и своей прелестной зеленью, слегка впадающей в голубоватый тон, они обязаны наносной земле, которую господин мэр приказал насыпать за своей громадной стеной, так как, несмотря на оппозицию муниципального совета, он расширил место для прогулок больше чем на шесть футов (хотя он ультраконсерватор, а я либерал [1], я хвалю его за это); вот почему, по его мнению и по мнению господина Валено, удачливого директора дома призрения нищих, эта терраса может выдержать сравнение с террасой в Сен-Жермен-ан-Лэ.
Что касается меня, то я могу сделать только одно замечание «Проспекту верности» — таково его официальное название, которое красуется в пятнадцати или двадцати местах на мраморных досках, доставивших лишний крест господину де Реналю; итак, я упрекаю «Проспект верности» только за варварский способ подрезывания и подстригания его могучих платанов. Вместо того чтобы делать их похожими на низкие круглые огородные растения с приплюснутыми вершинами, им, конечно, лучше было бы придать форму, свойственную им в великолепных садах Англии. Но воля господина мэра деспотична, и два раза в год все деревья,
принадлежащие общине, безжалостно ампутируются. Местные либералы уверяют,— но они, конечно, преувеличивают,— что рука официального садовника сделалась значительно строже с тех пор, как господин викарий Маслон приобрел привычку брать себе результаты этой операции.
Этот молодой священник был прислан из Безансона несколько лет назад для надзора за аббатом Шеланом и за несколькими другими священниками из окрестностей. Один старый штаб-лекарь итальянской армии, поселившийся в Веррьере и бывший при жизни, по мнению господина мэра, якобинцем и бонапартистом, осмелился раз пожаловаться ему на периодическое уродование этих прекрасных деревьев.
— Я люблю тень,— отвечал господин де Реналь с оттенком высокомерия, подобающим при разговоре с хирургом, кавалером ордена Почетного легиона,— я люблю тень, приказываю подстригать мои деревья, чтобы они давали больше тени, и не считаю, что дерево было создано для чего-либо другого, если только оно, как, например, полезный орешник, не приносит прибыли.
Вот великий лозунг, определяющий все в Веррьере: приносить прибыль; он выражает привычную мысль больше чем трех четвертей всех жителей.
Приносить прибыль — вот мысль, решающая все в этом городке, вот основная пружина Веррьера, который вам показался таким красивым. Приезжающий сюда иностранец, очарованный красотой свежих и глубоких долин, окружающих город, представляет себе вначале, что его жители восприимчивы к красоте, так как в столице они слишком много распространяются о красоте своей родины: нельзя сказать, чтобы они ею не дорожили, но дорожат только потому, что эта красота привлекает сюда иностранцев, деньги которых обогащают содержателей гостиниц, и при посредстве механизма пошлины на припасы приносит прибыль городу.
В один прекрасный осенний день господин де Реналь прохаживался по «Проспекту верности» под руку со своей женой. Слушая мужа, рассуждавшего с важностью, госпожа де Реналь беспокойно следила за всеми движениями трех маленьких мальчиков. Старший, по-видимому лет одиннадцати, слишком часто подходил к парапету и, казалось, собирался взобраться на него. Тогда мягкий голос произносил имя Адольфа, и мальчик отказывался от своего смелого плана. Госпожа де Реналь имела вид женщины лет тридцати, еще довольно красивой.
— Ему, пожалуй, придется очень раскаяться, этому милейшему господину из Парижа,— говорил господин де Реналь с оскорбленным видом, и щеки его были бледнее обыкновенного.— Я ведь тоже не лишен друзей-приятелей во дворце.
Хотя я и намереваюсь рассказать вам о провинции на протяжении двухсот страниц, но я не подвергну вас жестокости и не заставлю вы
слушивать все длинноты, все мудрые выверты провинциального диалога.
Этот «милейший господин из Парижа», столь ненавистный веррьерскому мэру, был не кто иной, как господин Аппер, нашедший возможность два дня назад не только проникнуть в тюрьму и в дом призрения нищих, но даже в больницу, безвозмездно управляемую мэром и главными местными домовладельцами.
— Но,— робко заметила госпожа де Реналь,— какой вред может принести вам этот господин из Парижа, если вы управляете имуществом бедных с самой строгой честностью?
— Он приезжал только для того, чтобы подкопаться, а потом станет писать о нас статьи, да еще в либеральных газетах.
— Ведь вы их никогда не читаете, мой господин.
— Но нам говорят об этих якобинских статьях: все это нас отвлекает и мешает нам делать добро [1]. Что касается меня, то я никогда не прощу этого визита нашему священнику.
III
ИМУЩЕСТВО БЕДНЫХ
Добродетельный священник и не интриган — да это Провидение для деревни.
Флери*
Надо сказать, что веррьерский священник, восьмидесятилетний старец, но с железным здоровьем и характером, имел право во всякое время входить в тюрьму, в больницу и в дом призрения нищих. Господин Аппер, рекомендованный священнику из Парижа, имел благоразумие приехать ровно в шесть часов утра в маленький забавный городок и сейчас же отправился в дом священника.
Читая письмо маркиза Ла Моля, пэра Франции и самого богатого собственника этой провинции, священник Шелан призадумался. «Я стар, и меня все здесь любят,— сказал он себе,— они не посмеют».
И он тут же обратился к приезжему из Парижа, вскинув глаза, в которых, несмотря на преклонные годы, сверкал священный огонь, свидетельствующий о радости при совершении прекрасного, но несколько опасного поступка.
— Пойдемте со мною, сударь, и в присутствии тюремщика, а особенно надзирателей дома призрения нищих, будьте добры высказать ваше искреннее мнение обо всем, что мы увидим.
Господин Аппер понял, что имел дело с благородным человеком; он последовал за почтенным священником, осмотрел тюрьму, больницу, дом призрения нищих, предлагал много вопросов и, несмотря на странные ответы, не позволил себе выразить ни малейшего порицания.
Этот осмотр продолжался несколько часов. Священник пригласил господина Аппера обедать, но тот отказался под предлогом, что ему необходимо писать письма: он не хотел больше компрометировать своего великодушного спутника. Около трех часов пополудни эти господа закончили осмотр дома призрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях они увидели тюремщика, великана в шесть футов с дугообразными ногами; его отвратительное лицо сделалось еще более омерзительным от страха.
— Ах, сударь,— сказал он священнику, как только заметил его,— этот господин, которого я вижу с вами, не господин ли Аппер?
— Ну так что же,— отвечал священник.
— А то, что я еще вчера получил самый точный приказ насчет него; господин префект прислал жандарма, которому пришлось мчаться сюда всю ночь с приказом не допускать господина Аппера в тюрьму.
— Я вам объявляю, господин Нуар,— сказал священник,— что этот путешественник, пришедший со мной, действительно господин Аппер. Признаете ли вы за мною право входить в тюрьму во всякое время дня и ночи и вводить с собою кого мне вздумается?
— Конечно,— отвечал тюремщик тихим голосом, наклонив голову, точно бульдог, которого страх перед палкой заставляет повиноваться.— Только, господин кюре, у меня есть жена и дети. Если на меня донесут, я потеряю место, а оно одно меня кормит.
— Мне тоже будет неприятно лишиться своего,—возразил добрый священник голосом все более и более взволнованным.
— Но ведь какая разница! — с живостью воскликнул тюремщик.— Кому же не известно, что у вас восемьсот ливров ренты, а это недурное состояньице...
Таковы факты, раздутые и комментированные на двадцать ладов, которые уже два дня волновали всe злобные страсти города Веррьepa. В данный момент они служили предметом небольшого спора между господином де Реналем и его женой. Утром этого дня мэр вместе с господином Валено, директором дома призрения нищих, ходил к священнику для выражения ему своего живейшего неудовольствия. У господина Шелана не было никаких покровителей; он понял всю важность их слов.
— Ну что же, господа, буду третьим восьмидесятилетним священником, которого отставят от должности в этом приходе. Вот уже пятьдесят шесть лет, как я здесь; я крестил почти всех жителей города, бывшего простым местечком, когда я сюда приехал. Каждый день я венчаю молодых людей, как венчал некогда их дедов. Веррьер — моя семья. Но я сказал себе, увидев этого незнакомца: «Этот парижанин, может быть, и в самом деле либерал, но какое зло может он сделать нашим бедным и нашим заключенным?»
Но упреки господина де Реналя и в особенности директора дома призрения господина Валено делались все настойчивее.
— Ладно, господа, добивайтесь моей отставки! — воскликнул старый
священник дрожащим голосом.— Я все-таки останусь в этой местности. Вы знаете, что сорок восемь лет назад мне достался в наследство клочок земли, приносящий восемьсот франков ренты; я буду на это жить. Я не делаю никаких сбережений на своем месте, господа, и, быть может, поэтому я не так пугаюсь, когда мне говорят, что я его потеряю.
Господин де Реналь жил в полном согласии с женой, но, не зная, что ответить на вопрос, робко повторяемый ею: «Какой вред может принести заключенным этот парижанин?» — он готов был рассердиться, как вдруг она вскрикнула. Второй из ее сыновей вскочил на парапет стены и бегал по нему, хотя стена возвышалась больше чем на двадцать футов над виноградником, находившимся по другую сторону стены. Боязнь испугать мальчика и тем вызвать его падение мешала госпоже де Реналь позвать его. Наконец ребенок, радовавшийся своей удали, взглянул на мать и, увидя ее бледность, соскочил на землю и подбежал к ней. Ему сильно досталось.
Это маленькое происшествие изменило направление разговора.
— Я непременно хочу взять к себе Сореля, сына плотника,— сказал господин де Реналь,— он будет следить за детьми, а то они становятся слишком резвыми для нас. Этот молодой священник, или что-то в этом роде, хороший латинист, даст необходимый толчок воспитанию наших детей, так как у него твердый характер, как мне говорил кюре. Я дам ему триста франков и питание. Я несколько сомневался насчет его нравственности, потому что он был любимчиком того старого хирурга, кавалера ордена Почетного легиона, который под предлогом родства поселился на пансионе у Сорелей. Очень вероятно, что этот господин, в сущности, был тайным агентом либералов; правда, он уверял, что наш горный воздух благодетелен для его астмы, но это далеко не доказано. Он проделал все итальянские кампании Буонапарте, и говорят, что даже голосовал против империи. Этот либерал обучал латинскому языку меньшего Сореля и завещал ему ту массу книг, которую привез с собою. Поэтому мне бы никогда не пришло в голову взять его к нашим детям, но священник накануне сцены, навсегда нас поссорившей, говорил мне, что этот юноша уже три года изучает богословие, намереваясь поступить в семинарию; значит, он не либерал, а латинист.
Это будет выгодно во многих отношениях,— продолжал господин де Реналь, дипломатически посматривая на жену.— Валено очень гордится парой нормандских лошадок, купленной им для своей коляски. Но у его детей нет наставника.
— Он, пожалуй, у нас отнимет этого.
— Ты, значит, одобряешь мой проект? — сказал господин де Реналь, благодаря жену улыбкой за ее прекрасную мысль.— Итак, это решено.
— Ах, господи, как ты, мой друг, все быстро решаешь!
— Оттого, что у меня есть характер. Это отлично видел и священник. Сказать по правде, мы здесь окружены либералами. Все эти торговцы полотнами завидуют мне, я в этом уверен, двое или трое из них становятся
богачами. И вот мне приятно, чтобы они видели, как дети господина де Реналя ходят на прогулку со своим наставником. Это еще более возбудит уважение ко мне. Мой дед часто рассказывал мне, что в юности у него был наставник. Вероятно, этот учитель обойдется мне всего в сто экю, но и на это надо смотреть как на необходимый расход для поддержания нашего положения.
Это внезапное решение заставило госпожу де Реналь глубоко задуматься. Она была женщина высокая, хорошо сложенная и считалась в молодости «красой всего края», как выражаются в этих горах. Движения ее отличались какой-то особой простотой и молодостью, и во взорах парижанина ее наивная грация, полная невинности и живости, могла бы вызвать вспышку легкого сладострастия. Если бы госпожа де Реналь узнала об успехе такого рода, она бы сильно сконфузилась. Сердце ее никогда не знало ни кокетства, ни притворства. Поговаривали, что господин Валено, богатый директор дома призрения нищих, ухаживал за нею, но безуспешно, что придало особый блеск ее добродетели, потому что этот господин Валено, высокий молодой человек, статный, с полным лицом и большими черными бакенбардами, был один из тех грубых, нахальных и шумливых людей, которых в провинции называют красавцами.
Госпожу де Реналь, очень застенчивую и с характером, по-видимому, очень неровным, больше всего шокировали страшная подвижность и громкий голос господина Валено. Ее удаление от всего, что в Веррьере называлось весельем, заслужило ей репутацию женщины, очень гордившейся своим происхождением. На самом деле она о нем даже не думала, но была очень довольна, что городские жители стали меньше беспокоить ее своими посещениями. Не скроем, что она слыла глупой в глазах местных дам за то, что относилась к мужу искренне, без всякого лукавства и упускала даже наиудобнейшие случаи заставить его купить себе нарядную шляпу в Париже или Безансоне*. Она никогда и ни на что не жаловалась, лишь бы ей была предоставлена свобода бродить одной по своему чудесному саду.
Это была душа наивная; ей даже никогда не приходило в голову разбираться в поступках мужа и признаться самой себе, что он надоедает ей. Она считала, хотя и не сознавалась себе в этом, что между мужем и женой не может существовать лучших отношений. Она в особенности любила господина де Реналя, когда он говорил ей о своих планах относительно детей, из которых старшего он предназначал для военной службы, второго — для магистратуры, а меньшего — для духовного звания. Вообще она считала господина де Реналя гораздо менее скучным, чем всех остальных мужчин из числа знакомых.
Такая супружеская оценка была разумна. Веррьерский мэр заслужил репутацию умного и особенно воспитанного человека благодаря десятку шуток, унаследованных им от родного дяди. Старый капитан де Реналь служил еще до революции в пехоте герцога Орлеанского и, когда бывал в Париже, допускался в салоны принца. Там он видал госпожу
де Монтессон*, знаменитую госпожу де Жанлис*, господина Дюкре*, палерояльского изобретателя. Все эти лица слишком часто фигурировали в анекдотах господина де Реналя. Но мало-помалу ему становилось все труднее и труднее припоминать и рассказывать все эти щекотливые вещи, а с некоторого времени он только в важных случаях повторял анекдоты об Орлеанском доме. Кроме того, он был всегда очень вежлив, за исключением тех случаев, когда разговор касался денег, и поэтому вполне основательно считался самой аристократической особой в Веррьере.
IV
ОТЕЦ И СЫН
Если это так, то моя ли эта вина?
Макиавелли*
«Жена моя, несомненно, очень умна,— говорил себе на другой день, в шесть часов утра, веррьерский мэр, направляясь к лесопильне отца Сореля.— Хотя я сказал ей о своем плане, придуманном для поддержания присущего мне авторитета, но мне в голову не пришло, что если я сам не возьму к себе этого юного аббата Сореля, знающего, как говорят, латынь, «словно ангел», то директор дома призрения, эта беспокойная душа, может возыметь ту же мысль и забрать его у меня. С каким хвастливым самодовольством он стал бы тогда говорить о наставнике своих детей!.. Не будет ли этот наставник носить сутану, когда поступит ко мне?»
Господин де Реналь был поглощен этими сомнениями, когда издали увидел крестьянина, ростом почти в шесть футов, который с самой зари занимался вымериванием бревен, сложенных вдоль Дубса, на дороге к базару. Этот крестьянин, по-видимому, не особенно был доволен, увидя господина мэра, потому что его бревна загромождали дорогу и лежали на ней вопреки правилам.
Отец Сорель, так как это был он, очень удивился и еще более обрадовался странному предложению господина де Реналя насчет его сына Жюльена. Тем не менее он выслушал его с недовольным и равнодушным видом, под которым так хорошо умеет прятаться хитрость обитателей этих гор. Рабы времен испанского владычества, они еще не утратили этой черты египетского феллаха.
Ответ Сореля выразился сперва в перечислении всех почтительных слов, выученных им наизусть.
Пока он повторял их с неловкой улыбкой, еще усиливавшей обманчивое и почти мошенническое выражение, свойственное его лицу, деятельный ум старого крестьянина старался раскрыть, какая причина могла заставить такого значительного человека брать к себе его негодяя сына. Он сам был очень недоволен Жюльеном, а теперь именно за него господин де Реналь предлагал неожиданную сумму в триста франков в
год, с содержанием и даже с одеждой. Это последнее требование, которое отец Сорель внезапно вздумал предъявить, было уже принято господином де Реналем.
Такая претензия поразила мэра. Если отец Сорель не обрадован и не восхищен его предложением, как полагалось, то ясно, сказал он ceбе, что ему уже было сделано подобное предложение, и от кого же могло оно исходить, если не от Валено? Напрасно господин де Реналь настаивал на немедленном окончании дела,— лукавый старик упорно отказывался; он уверял, что желает посоветоваться с сыном, точно в провинции богатый отец станет не для проформы советоваться с сыном, у которого нет ни гроша.
Водяная лесопильня — это сарай на берегу ручья. Крыша поддерживается срубом, лежащим на четырех толстых столбах. На восемь или десять футов над полом, посредине сарая, находится поднимающаяся и опускающаяся пила, между тем как весьма простой механизм подталкивает к ней бревна. Колесо, приводимое в движение водой, управляет двойным механизмом: тем, что поднимает и опускает пилу, и тем, что подталкивает бревна к пиле, которая их распиливает на доски.
Отец Сорель, подходя к своей лесопильне, громко звал Жюльена,— никто не откликался. Он увидел только старших сыновей, похожих на великанов: с тяжелыми топорами в руках, они обтесывали еловые бревна, прежде чем нести их для пилки. Поглощенные старанием попадать точно в черный значок, проведенный по дереву, они не слышали голоса отца. Он направился к сараю, напрасно поискал Жюльена возле пилы, где ему следовало бы находиться, и наконец увидел его в пяти или шести футах выше, верхом на одной из балок кровли. Жюльен читал, вместо того чтобы внимательно следить за работой всего механизма. Ничто не могло быть неприятнее для старого Сореля; он, пожалуй, простил бы Жюльену его маленький рост, мало подходивший для физической работы и столь отличавшийся от роста его старших братьев, но эта мания читать была для него отвратительна: он сам не знал грамоты.
Напрасно два или три раза он окликал Жюльена. Не столько шум пилы, сколько внимание, с каким юноша читал книгу, мешало ему услышать грозный голос отца. Наконец, несмотря на свои годы, старик проворно вскочил на дерево, лежавшее под пилой, а с него на поперечную балку, поддерживавшую крышу. От сильного удара книга Жюльена полетела в ручей; другой, не менее сильный удар в голову заставил его потерять равновесие. Он бы свалился на двенадцать или пятнадцать футов вниз на рычаги машины, бывшей в полном ходу, которые раздавили бы его, но тут отец на лету схватил его левой рукой.
— Так что же, лентяй, ты вечно будешь читать свои проклятые книги, вместо того чтобы следить за пилой! Читай их вовсю вечером, когда ходишь к попу даром терять время.
Жюльен, хотя он был оглушен ударом, весь в крови, подошел к своему
посту близ пилы. На глазах у него были слезы, вызванные не столько физическою болью, сколько потерей любимой книги.
— Спускайся, скотина, мне надо поговорить с тобою!
Шум машины опять помешал Жюльену услышать этот приказ. Его отец, уже сошедший вниз, не желая доставлять себе труд вновь подниматься на механизм, взял длинную жердь, служившую для сбивания орехов, и хлопнул ею по плечу сына. Едва Жюльен опустился, как старый Сорель, грубо погоняя его перед собою, толкнул по направлению к дому. «Бог знает, что он теперь со мной сделает»,— говорил себе юноша. Дорогой он грустно взглянул на ручей, куда упала его книга: то была его самая любимая: «Мемориал Святой Елены»*.
Щеки его пылали, глаза были опущены. Это был юноша маленького роста, восемнадцати-девятнадцати лет, на вид слабый, с чертами хотя неправильными, но изящными, с орлиным носом. Большие черные глаза его, в спокойные минуты выражавшие вдумчивость и страсть, теперь пылали самой ярой ненавистью. Темно-каштановые волосы, росшие очень низко, делали лоб маленьким, а в минуту гнева придавали юноше злое выражение. Среди бесчисленного разнообразия человеческих лиц нет, быть может, ни одного, которое бы отличалось более поразительной особенностью. Тонкая стройная талия указывала больше на легкомыслие, чем на твердость характера. Чрезвычайно задумчивый вид и большая бледность с самого детства внушали его отцу мысль, что он долго не проживет, а если проживет, то будет вечной обузой для семьи. Презираемый всеми в доме, он ненавидел и братьев, и отца. Во время воскресных игр на городской площади на его долю всегда доставались побои.
Уже год, как его изящная наружность начала привлекать к себе дружеское внимание со стороны молодых девушек. Презираемый всеми как существо слабое, Жюльен обожал того старого штаб-лекаря, который осмелился однажды сделать замечание мэру относительно платанов.
Этот хирург уплачивал иногда старому Сорелю за рабочий день его сына и учил мальчика латинскому языку и истории, то есть тому, что сам знал из истории, значит, итальянскую кампанию 1796 года. Умирая, он завещал ему свой крест Почетного легиона, все, что у него осталось из его пенсии, и тридцать или сорок томов книг, самая драгоценная из которых только что попала в общественный ручей, отведенный в сторону благодаря влиянию господина мэра.
Едва Жюльен вошел в дом, как почувствовал, что на плечо его легла тяжелая рука отца; он задрожал, ожидая побоев.
— Отвечай мне без лжи,— крикнул ему старик грубым голосом, между тем как рука его переворачивала сына, словно детская ручка — оловянного солдатика. Черные глаза Жюльена, полные слез, очутились перед маленькими серыми глазами старого плотника, желавшего, по-видимому, выведать все его сокровенные мысли.
V
ПЕРЕГОВОРЫ
Промедление спасает дело.
Энний*
— Отвечай мне без лжи, если можешь, собачий чтец, каким образом ты познакомился с госпожой де Реналь? Когда ты говорил с нею?
— Я никогда с нею не говорил,— отвечал Жюльен,— я видал эту даму только в церкви.
— Но ты, верно, смотрел на нее, негодный нахал?
— Никогда. Вы ведь знаете, что в церкви я вижу только одного Бога,— прибавил Жюльен с лицемерным видом, полагая, что этим он всего скорее может отвратить от себя побои.
— А между тем тут что-нибудь да есть,— возразил хитрый крестьянин и замолчал на минуту,— но от тебя ничего не добьешься, проклятый лицемер! Правда, я скоро избавлюсь от тебя, и моя пила от этого только выиграет. Ты поладил с господином кюре или с кем-то другим, кто нашел тебе прекрасное место. Иди собирать свои вещи, я отведу тебя к господину де Реналю, где ты будешь наставником его детей.
— Что мне за это дадут?
— Содержание, одежду и триста франков жалованья.
— Я не хочу быть лакеем!
— Скотина, кто говорит тебе о лакействе? Разве я потерпел бы, чтобы мой сын был лакеем?
— Но с кем я буду обедать?
Этот вопрос озадачил старого Сореля. Он почувствовал, что может проговориться, сказать чего не следует, рассердился на Жюльена, осыпал его бранью, обвиняя его в жадности, и пошел советоваться с другими сыновьями.
Жюльен вскоре увидел, как они совещались, облокотясь на топоры. Он долго смотрел на них и, видя, что не может догадаться, о чем они говорят, вышел из дому и спрятался за сарай, чтобы его не могли застать врасплох. Ему хотелось на свободе подумать об этом неожиданном предложении, изменявшем его судьбу, но он почувствовал, что не может быть осторожным; его воображение было полно тем, что он увидит в прекрасном доме господина де Реналя.
«Лучше отказаться от всего этого,— решил он,— чем допустить, чтобы меня заставили обедать с прислугой. Отец захочет меня к этому принудить, но я предпочту умереть. У меня накоплено пятнадцать франков восемь су. Я ночью убегу; через два дня окольными дорогами, где я не боюсь встретить ни одного жандарма, попаду в Безансон; там поступлю в солдаты и, в случае нужды, перейду в Швейцарию. Но тогда уже придется отказаться от развития и от прекрасного звания священника,
которое ведет ко всему».
Эта боязнь обедать с прислугой не была врожденной у Жюльена. Для достижения карьеры он готов был на вещи гораздо более мучительные. Он почерпнул ее из «Исповеди» Руссо, единственной книги, которая давала ему представление о свете. «Бюллетени великой армии» и «Мемориал Святой Елены» дополняли его коран. Он готов был умереть за эти три произведения. Никогда он не верил ни во что другое. Под влиянием одного словечка старого штаб-лекаря Жюльен смотрел на все остальные книги на свете как на лживые, написанные пройдохами из желания сделать карьеру.
При пылкой душе Жюльен обладал удивительной памятью, так часто неразлучной с глупостью. Чтобы задобрить престарелого священника Шелана, от которого, как он видел, зависела его судьба, он выучил наизусть Новый Завет по-латыни; он тоже знал книгу «Du Раре»1 господина де Местра* и так же мало верил одной, как и другой... Как бы по взаимному соглашению, Сорель и его сын избегали говорить в тот день друг с другом. Вечером Жюльен пошел к священнику на урок богословия; он не счел удобным сообщить ему о странном предложении, сделанном его отцу. «Быть может, это простая ловушка,— сказал он себе.— Надо притвориться, что я забыл о нем».
На другой день рано утром господин де Реналь послал за старым Сорелем, и тот, заставив прождать себя час или два, явился наконец с сотней извинений, которые начал сыпать с самого порога, сопровождая их столькими же поклонами. После всевозможных возражений Сорель понял, что его сын будет обедать за одним столом с хозяевами дома, а при гостях — в другой комнате, вместе с детьми. Он делался все требовательнее, по мере того как замечал у мэра подлинное желание иметь у себя его сына, что приводило его в недоумение и даже возбуждало его подозрительность. Он пожелал видеть помещение сына. Ему показали большую комнату, меблированную очень опрятно, куда уже перенесли кроватки трех мальчиков. Это обстоятельство было лучом света для старого крестьянина. Он сейчас же выразил желание увидеть одежду, которую дадут его сыну. Господин де Реналь открыл конторку и вынул сто франков.
— С этими деньгами пусть сын ваш пойдет к господину Дюрану, суконщику, и возьмет черную пару.
— А если я заберу сына от вас,— сказал Сорель, вдруг забыв весь свой почтительный тон,— эта черная пара останется у него?
— Конечно.
— А, очень хорошо! — сказал Сорель, растягивая слова.— Теперь нам осталось только сговориться насчет одного: как велико будет его жалованье?
— Как? — вскричал с негодованием господин де Реналь.— Ведь мы вчера условились: я даю триста франков. Полагаю, что этого довольно и даже слишком много.
— Таково было ваше предложение, я этого не отрицаю,— проговорил старый Сорель, еще более растягивая слова, и вдруг, по какому-то вдохновению, совсем неудивительному для того, кто знает крестьян из Франш-Контэ, он прибавил, пристально смотря на господина де Реналя: — В другом месте мы найдем и получше.
При этих словах лицо мэра передернулось. Однако он скоро оправился, и после искусного разговора, длившегося целых два часа, в котором не было брошено на ветер ни одного слова, хитрость крестьянина одержала верх над хитростью богача, не имевшего в ней надобности. Все многочисленные статьи, определявшие новую жизнь Жюльена, были установлены; не только жалованье его было определено в четыреста франков, но оно должно было выплачиваться вперед, каждое первое число месяца.
— Итак, я выдам ему тридцать пять франков,— сказал господин де Реналь.
— Чтобы округлить сумму, такой богатый и щедрый человек, как господин мэр,— сказал крестьянин льстивым голосом,— не пожалеет дать тридцать шесть франков.
— Хорошо,— проговорил господин де Реналь,— но покончим на этом.
Гнев придал ему твердость. Крестьянин увидел, что надо прекратить нажим. Тогда господин де Реналь повел наступление в свою очередь. Он ни за что не согласился выдать деньги за месяц старому Сорелю, желавшему получить их за сына. Господин де Реналь вспомнил, что ему придется рассказывать жене, какую роль он играл в этих переговорах.
— Отдайте мне мои сто франков, которые вы получили от меня,— сказал он с досадой.— Господин Дюран мне кое-что должен. Я пойду к нему с вашим сыном за черным сукном.
После этого энергичного поступка Сорель благоразумно вернулся к своим почтительным фразам: они заняли добрых четверть часа. Наконец видя, что уже ничего больше ему не выиграть, он ушел и при последнем поклоне объявил:
— Я сейчас же пошлю моего сына в замок.
Так подвластные господину мэру называли его дом, если желали ему угодить.
Придя на лесопильню, Сорель напрасно искал сына. Заподозрив то, что должно было случиться, Жюльен еще ночью ушел из дома. Ему хотелось запрятать в безопасное место свои книги, свой крест Почетного легиона, и он перенес эти сокровища к молодому торговцу лесом, cвоему другу Фуке, жившему на верхушке горы, господствовавшей над Веррьером.
Когда он появился, отец сказал ему:
— Бог знает, проклятый лентяй, хватит ли у тебя чести и совести выплатить мне все то, что я истратил на твое содержание во все эти годы! Бери свое тряпье и убирайся к господину де Реналю.
Жюльен, удивленный, что его не побили, поспешил уйти. Но едва он скрылся с глаз грозного отца, как замедлил шаг. Он решил, что ему, с
его ханжеством, было бы небесполезно зайти в церковь.
Это слово вас удивляет. Душе этого юного крестьянина пришлось проделать немалый путь, прежде чем дойти до этого ужасного слова. С самого его младенчества вид нескольких драгун 6-го полка возбудил его любопытство [1]. Он любовался этими щеголями, когда они в длинных белых плащах и в касках с длинными черными султанами заехали в их городок, возвращаясь из Италии, и привязали коней у оконных наличников отцовского дома. Внешность этих драгун внушила Жюльену страстное влечение к военной службе. Позже он с восторгом слушал рассказы старого хирурга о сражениях на мосту Лоди, о битвах при Арколе и Риволи* и замечал пламенные взгляды, бросаемые стариком на свой крест.
Но когда Жюльену было четырнадцать лет, в Веррьере начали строить церковь, которую можно назвать великолепной для такого маленького городка. В особенности поразили Жюльена четыре мраморные колонны; они сделались известны всему краю по причине смертельной ненависти, возбужденной ими между мировым судьей и молодым викарием, присланным из Безансона и считавшимся шпионом конгрегации. Мировой судья чуть не потерял место, по крайней мере таково было общее мнение. Разве он не осмелился вступить в разногласия со священником, который каждые две недели ездит в Безансон, где видит, по его словам, самого монсеньора епископа?
При этом случае мировой судья, отец многочисленного семейства, произнес несколько приговоров, показавшихся несправедливыми. Все они были направлены против тех, кто читает «Constitutionnel»*. Благомыслящая партия восторжествовала. Правда, потерпевшим приходилось заплатить всего от трех до пяти франков; но один из этих штрафов выпал на долю кузнеца, крестного отца Жюльена. В сильном порыве гнева он вскричал: «Какая перемена! А ведь больше двадцати лет мировой судья слыл таким честным человеком!» Хирурга, друга Жюльена, тогда в живых уже не было.
Вдруг Жюльен перестал говорить о Наполеоне; он объявил о своем намерении вступить в духовное звание, и на лесопильне отца его постоянно видели заучивающим наизусть латинскую Библию, которую подарил ему священник. Этот добрый старик, пораженный его успехами, целые вечера посвящал обучению его богословию. Жюльен проявлял перед ним крайнюю небрежность. Кто бы мог угадать, что это женственное лицо, такое бледное и кроткое, скрывало непоколебимое решение скорее подвергнуться тысяче смертей, чем не завоевать счастья?
Для Жюльена завоевать счастье значило прежде всего уехать из Веррьера. Он ненавидел свою родину. Все, что он в ней видел, леденило его воображение.
С детства на него находили минуты восторженности. Иногда он с наслаждением думал о том, как, представленный красивым женщинам
в Париже, он сумеет привлечь их внимание каким-нибудь подвигом. Почему бы одной из них не полюбить его подобно тому, как еще бедный Бонапарт был любим блестящей мадам де Богарне? В продолжение уже многих лет не проходило ни одного дня, чтобы Жюльен не говорил себе, что Бонапарт, неизвестный и бедный подпоручик, сделался властелином мира только благодаря своей шпаге. Эта мысль утешала его в несчастьях, казавшихся ему громадными, увеличивала его радость, если таковой случалось выпадать на его долю.
Постройка церкви и приговоры мирового судьи вдруг озарили его: он точно помешался на несколько дней от новой мысли, пришедшей ему в голову, и наконец она овладела всем его существом с силой первой идеи, которую человек страстный считает своим изобретением.
«Когда Бонапарт заставил говорить о себе, Франция боялась иноземного нашествия; тогда военные способности были необходимы и потому в моде. Теперь случается, что сорокалетний священник получает сто тысяч франков жалованья, то есть втрое больше знаменитых дивизионных генералов Наполеона; им нужны помощники. Вот этот мировой судья, такой умный, до сих пор такой честный, на старости лет позорит себя из боязни не понравиться молодому тридцатилетнему викарию. Надо сделаться священником».
Один раз его выдал взрыв пламени, которое пожирало его душу. У него вырвалось страстное восхваление Наполеона на обеде для священников у господина Шелана, когда добрый старик представил его своим гостям как чудо просвещения. Жюльен привязал свою правую руку к груди, сказав, что вывихнул ее, переворачивая еловые бревна, и два месяца проносил ее в таком неловком положении. После такого телесного наказания он простил себя. Таков был восемнадцатилетний юноша, слабый на вид и которому едва можно было дать семнадцать, входивший в великолепную веррьерскую церковь со свертком под мышкой.
Он нашел церковь темной и пустынной; по случаю праздника все окна были завешены пунцовой материей, отчего лучи солнца, проникая в церковь, наполняли ее ослепительным светом, внушавшим благочестие. Жюльен вздрогнул. Будучи в церкви совсем один, он уселся на самую нарядную скамью. На ней был герб господина де Реналя. На молитвенной подножке он увидел клочок печатной бумаги, точно нарочно для него брошенный. Он взглянул на него и прочел: «Подробности о казни и последних минутах Луи Жанреля, казненного в Безансоне в...»
Эта бумажка была разорвана. На другой стороне остались два первых слова строчки: «Первый шаг...»
«Кто мог бросить сюда эту бумажку? — сказал себе Жюльен.— Бедняга,— прибавил он со вздохом,— его имя оканчивается, как и мое...» — И он смял бумажку.
При выходе Жюльену показалось, что он видит кровь подле кропильницы: то была пролитая святая вода; отблеск от пунцовых занавесок на окнах делал ее похожей на кровь.
Наконец Жюльену стало стыдно за свой тайный страх. «Неужели я трус? — сказал он себе.— К оружию!» Эти слова, так часто повторявшиеся в бравых рассказах старого лекаря, казались Жюльену героическими. Он встал и быстро пошел к дому господина де Реналя.
Несмотря на прекрасные решения, на него напала непобедимая робость, как только он увидел этот дом в двадцати шагах от себя. Железная решетка была отперта: она показалась ему великолепной. Надо было войти.
Не одного Жюльена волновало его поступление в этот дом. Крайняя застенчивость госпожи де Реналь усиливалась при мысли о постороннем человеке, который в силу своей должности будет постоянно находиться между нею и ее детьми. Она привыкла, чтобы мальчики спали в ее спальне. Утром того дня немало было пролито слез, когда она смотрела, как переносили их кроватки в комнату, назначенную для наставника. Напрасно просила она мужа, чтобы кровать Станислава-Ксавье, самого младшего, была снова отнесена к ней.
У госпожи де Реналь женская щепетильность была доведена до крайности. В ее воображении носился весьма непривлекательный образ существа, грубо и дурно причесанного, которому будет поручено бранить ее детей только потому, что он знает латынь, варварский язык, за который будут сечь ее мальчиков.
VI
СКУКА
Я не ведаю, кто я и что делаю.
Моцарт. «Фигаро»
Госпожа де Реналь выходила из дверей гостиной с живостью и грацией, свойственными ей, когда она находилась вдали от посторонних взглядов. У входной двери она увидела молодого крестьянина, еще почти мальчика, чрезвычайно бледного и заплаканного. На нем была чистая белая рубашка, а под мышкой он держал весьма опрятную куртку из лилового ратина.
Цвет лица этого крестьянина был такой белый, глаза так кротки, что госпожа де Реналь при несколько романическом направлении своего ума вообразила, что это была молодая переодетая девушка, пришедшая с какой-нибудь просьбой к мэру. Ей стало жаль бедное создание, остановившееся у входной двери и, очевидно, не решавшееся поднять руку к звонку, и она подошла, на минуту забыв о своем горе. Жюльен вздрогнул, услышав у самого уха мягкий голос, спрашивавший его:
— Что вам здесь надо, дитя мое?
Жюльен проворно обернулся и, пораженный полным доброты взглядом госпожи де Реналь, забыл значительную часть своей робости. Потом, удивленный ее красотой, он забыл даже, зачем пришел сюда. Госпожа де Реналь повторила свой вопрос.
— Я пришел, сударыня, чтобы быть наставником,— проговорил он, конфузясь своих слез и стараясь скорее вытереть их. Госпожа де Реналь стояла в недоумении. Они оба смотрели друг другу в глаза. Жюльен еще никогда не думал, чтобы столь хорошо одетая дама, с таким ослепительным цветом лица, могла так любезно разговаривать с ним. Госпожа де Реналь смотрела на крупные слезы на щеках юноши, прежде бледных, а теперь покрасневших. Вскоре она засмеялась с искренней веселостью молодой девушки: она смеялась сама над собой и не могла поверить своему счастью. Как, так вот это страшный наставник! А она-то представляла его себе в образе грязного и неопрятного священника, который будет бранить и бить ее детей.
— Как, сударь,— проговорила она наконец,— неужели вы знаете латынь?
Это слово «сударь» так удивило Жюльена, что он на минуту задумался.
— Да, сударыня,— отвечал он робко.
Госпожа де Реналь так ободрилась, что осмелилась спросить Жюльена:
— Вы не очень будете бранить этих бедных детей?
— Мне бранить их? — сказал удивленный Жюльен.— Да за что же?
— Не правда ли, сударь,— прибавила она после маленькой паузы голосом, дрожавшим от возраставшего волнения,— вы будете добры к ним, вы мне это обещаете?
То, что его всерьез называет «сударем» такая хорошо одетая дама, превосходило все ожидания Жюльена. В мечтах своей юности он говорил себе, что ни одна порядочная женщина не удостоит его разговором, пока у него не будет прекрасного мундира. Госпожа де Реналь, со своей стороны, была поражена ярким цветом лица, большими черными глазами Жюльена и его красивыми волосами, вьющимися больше, чем обычно, что она заметила, когда для освежения головы он окунул ее в городской фонтан. К ее великой радости, оказалось, что этот странный наставник, грубости и ворчливости которого она так боялась, имел застенчивый вид молодой девушки. Для спокойной души госпожи де Реналь контраст между ее опасениями и действительностью явился большим событием. Наконец она пришла в себя и удивилась, что стоит на пороге своего дома с молодым человеком, одетым в простую рубашку, да еще так близко от него.
— Войдемте, сударь,— сказала она ему довольно сконфуженным тоном.
Еще никогда в жизни более приятное ощущение так глубоко не волновало госпожу де Реналь; еще ни разу ее гибкое существо не уступало это
му чувству неясной тревоги. Значит, ее хорошенькие мальчики, которых она так лелеяла, не попадут в руки грязного и ворчливого патера. Войдя в переднюю, она обернулась к Жюльену, робко следовавшему за ней. Его удивление при виде такого красивого дома увеличивало благосклонность к нему госпожи де Реналь. Она не верила своим глазам; в особенности ей всегда казалось, что наставник должен быть одет во все черное.
— Да неужели это правда, сударь,— сказала она, снова останавливаясь и смертельно боясь ошибиться, до того она была теперь довольна,— неужели правда, что вы знаете латынь?
Эти слова задели за живое гордость Жюльена и рассеяли очарование, в котором он жил эти несколько минут.
— Да, сударыня,— отвечал он, стараясь принять холодный вид,— я знаю латынь не хуже священника, и даже иногда он, по доброте своей, признает мое превосходство.
Госпожа де Реналь нашла, что у Жюльена очень злой вид. Он остановился в двух шагах от нее, она подошла и сказала ему вполголоса:
— Не правда ли, хоть в первые дни вы не станете сечь моих детей, даже если они не будут знать уроков?
Этот кроткий и почти умоляющий тон такой красивой дамы заставил Жюльена внезапно забыть все, чем он обязан был своей peпутации латиниста. Лицо госпожи де Реналь находилось близко от его лица, он вдыхал аромат ее летнего платья, что было совсем необычно для юного крестьянина. Жюльен сильно покраснел и сказал со вздохом и едва слышно:
— Ничего не бойтесь, сударыня, я во всем буду вам повиноваться.
Только в эту минуту, когда окончательно рассеялся ее страх за детей, госпожа де Реналь была поражена удивительной красотой Жюльена. Его почти женственные черты, его смущение не казались смешными женщине, тоже чрезвычайно застенчивой. Мужественный вид, который все считают необходимым для красоты мужчины, испугал бы ее.
— Сколько вам лет, сударь? — спросила она.
— Скоро будет девятнадцать.
— Моему старшему сыну одиннадцать,— говорила госпожа де Реналь, совсем успокоенная.— Он будет почти вашим товарищем, вы будете благоразумны с ним. Раз отец ударил его. Ребенок проболел от этого целую неделю, хотя удар был очень легкий.
«Какая разница со мною,— подумал Жюльен.— Еще вчера отец отколотил меня. Как счастливы эти богачи».
Госпожа де Реналь уже научилась схватывать малейшие оттенки того, что происходило в душе наставника; она приняла этот мимолетный наплыв грусти за робость и захотела ободрить его.
— Как вас зовут, сударь? — спросила она с выражением такой простой ласковости, что Жюльен инстинктивно почувствовал все ее очарование, хотя и не мог дать себе в этом отчета.
— Меня зовут Жюльен Сорель. Я трепещу, входя в первый раз в жизни в чужой дом; мне необходимо ваше покровительство и ваша
снисходительность к моим многочисленным промахам в первые дни. Я никогда не был в школе, для этого я слишком беден; я никогда не говорил ни с кем, кроме моего кузена, штаб-лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, и священника Шелана. Он вам даст общий отзыв обо мне. Мои братья всегда били меня; не верьте им, если они станут дурно говорить вам обо мне, будьте снисходительны к моим ошибкам, сударыня: у меня никогда не будет дурного умысла.
Жюльен ободрился во время этой длинной речи; он рассматривал госпожу де Реналь. Таково действие настоящей грации, когда особа, обладающая ею, не заботится о ней,— Жюльен, отлично понимавший толк в женской красоте, готов был побожиться, что ей не более двадцати лет. У него сейчас же явилась смелая мысль поцеловать у нее руку. Вскоре он испугался своей мысли, но потом сказал себе: «Было бы подло с моей стороны не выполнить то, что мне может оказаться полезным и уменьшить весьма вероятное презрение этой прекрасной дамы ко мне, бедному работнику, едва оторванному от пилы». Быть может, Жюльену придало бодрость выражение «красивый малый», которое последние шесть месяцев он часто слыхал по воскресеньям от некоторых девушек. Во время его внутренней борьбы госпожа де Реналь давала ему наставления насчет того, как ему следовало подойти к детям. Усилие над собою снова заставило его побледнеть; он сказал с принужденным видом:
— Я никогда не стану сечь ваших детей, сударыня, клянусь в том перед Богом.
С этими словами он осмелился взять руку госпожи де Реналь и поднести ее к своим губам. Этот поступок удивил ее, а после некоторого размышления и шокировал. Так как в этот день было очень жарко, то рука ее была обнажена под шалью, а Жюльен, поднося ее к губам, совсем раскрыл ее. Через несколько секунд она сама побранила себя; ей показалось, что она недостаточно скоро возмутилась этим.
Господин де Реналь, услышав голоса в передней, вышел из своего кабинета с тем величественным и отеческим видом, который он принимал, когда совершал браки в мэрии. Он сказал Жюльену:
— Мне необходимо переговорить с вами, прежде чем дети увидят вас.
Он ввел Жюльена в комнату и удержал жену, предпочитавшую оставить их одних. Затворив дверь, господин де Реналь уселся с самым серьезным видом.
— Господин Шелан мне хорошо отзывался о вас; здесь все будут обращаться с вами вежливо, и если я буду вами доволен, то со временем помогу вам устроиться. Я хочу, чтоб вы не виделись ни с вашими друзьями, ни с родными: их тон не может годиться для моих детей. Вот тридцать шесть франков за первый месяц; но я требую от вас честного слова, что вы не дадите вашему отцу ни гроша из этих денег.
Господин де Реналь сердился на старика за то, что в этом деле он перехитрил его.
— Теперь, сударь, так как я приказал всем так называть вас и вы
почувствуете все преимущества пребывания в порядочном доме, теперь, сударь, неприлично, чтобы дети видели вас в куртке. Прислуга видела его? — спросил господин де Реналь у жены.
— Нет, мой друг,— отвечала она с глубоко задумчивым видом.
— Тем лучше. Наденьте это,— сказал он удивленному юноше, подавая ему свой сюртук.— Теперь пойдемте к господину Дюрану, торговцу сукнами.
Через час с лишним, когда господин де Реналь вернулся с новым наставником, одетым во все черное, он нашел жену на том же месте. Присутствие Жюльена успокоило ее; рассматривая его, она забывала, что боялась его. Жюльен совсем не думал о ней; несмотря на свое недоверие к жизни и к людям, его душа в эту минуту была наивна, как у ребенка; ему казалось, что он пережил целые годы с той минуты, когда, три часа назад, дрожал в церкви. Он заметил холодный вид госпожи де Реналь и понял, что она сердится за то, что он осмелился поцеловать ее руку. Но чувство гордости, возбуждаемое в нем новым платьем, так мало похожим на то, какое он привык носить, до такой степени выбивало его из колеи и ему так хотелось скрыть его радость, что все его движения были резки и почти безумны. Госпожа де Реналь с удивлением смотрела на него.
— Побольше важности, сударь, — сказал ему господин де Реналь,— если вы хотите, чтоб вас уважали мои дети и мои слуги.
— Сударь, — отвечал Жюльен, — меня стесняет новое платье. До сих пор я, бедный крестьянин, носил только куртки. С вашего позволения я пойду и уединюсь. B своей комнате.
— Как ты находишь наше новое приобретение? — спросил господин де Реналь у жены.
Почти инстинктивно и не давая себе в том отчета, госпожа де Реналь скрыла истину от мужа.
— Я совсем не так очарована этим маленьким крестьянином, как вы; ваши ухаживания превратят его в нахала, и вам придется выгнать его еще до конца месяца.
— Ну что же такое, и выгоним; он будет мне стоить всего сотню франков, а Веррьер научится видеть детей господина де Реналя с наставником. Эта цель не была бы достигнута, если бы я оставил Жюльена в крестьянском платье. Отправив его, я удержу, само собой разумеется, черную пару, только что мною заказанную, у него останется то, что я нашел готовым и что я надел на него.
Час, проведенный Жюльеном в его комнате, показался минутой госпоже де Реналь. Дети, которым объявили о прибытии нового наставника, осыпали мать вопросами. Наконец Жюльен появился. Он совсем преобразился. Недостаточно было сказать, что он важен: это была воплощенная важность. Его представили детям, и он заговорил с ними тоном, удивившим самого господина де Реналя.
— Я приглашен к вам, господа,— говорил он, оканчивая свою речь,—
чтобы научить вас латинскому языку. Вы знаете, что значит отвечать урок. Вот Библия,— прибавил он, подавая им маленькую книгу в черном переплете.— Это, собственно, история Господа нашего Иисуса Христа, часть, называемая Новым Заветом. Я часто буду спрашивать вас ваши уроки, заставьте теперь меня ответить мой.
Адольф, старший из мальчиков, взял книгу.
— Откройте где попало и скажите мне первое слово какого-нибудь стиха. Я буду отвечать Священное Писание, пока вы меня не остановите.
Адольф открыл книгу, прочел первое слово, и Жюльен повторил всю страницу на память с такою легкостью, как если бы говорил по-французски. Господин де Реналь с торжеством посматривал на жену. Дети, видя удивление родителей, таращили глаза. Лакей подошел к дверям гостиной. Жюльен продолжал говорить по-латыни. Лакей постоял неподвижно и потом исчез. Вскоре явились горничная госпожи и кухарка. Адольф открывал книгу в восьми местах, и Жюльен отвечал все с той же легкостью.
— Ах, боже мой, что за хорошенький священник! — громко заявила кухарка, добрая и очень набожная девушка.
Самолюбие господина де Реналя было сильно задето: он не только не пожелал экзаменовать наставника своих детей, но погрузился в припоминание латинских слов. Наконец он смог привести один стих из Горация. Жюльен знал по-латыни только свою Библию. Он отвечал, нахмуря брови:
— Священный сан, к которому я себя готовлю, запрещает мне читать такого нечестивого поэта.
Господин де Реналь привел довольно много предполагаемых стихов Горация и объяснил детям, кто такой был автор; но дети, полные восхищения, не обращали внимания на то, что говорил отец. Они смотрели на Жюльена.
Слуги все еще стояли у дверей; Жюльен счел нужным продолжать испытание.
— Пусть,— сказал он самому младшему,— Станислав-Ксавье укажет мне место из Священной Книги.
Маленький Станислав, исполнившийся гордости, прочел с грехом пополам первое слово стиха, и Жюльен ответил всю страницу. Для полноты торжества господина де Реналя в это самое время вошли господин Валено, владелец прекрасных нормандских лошадей, и господин Шарко де Можирон, супрефект департамента. Эта сцена утвердила за Жюльеном титул «сударя»; сами слуги не осмеливались больше отказывать ему в нем.
Вечером весь Веррьер бросился к господину де Реналю, чтобы посмотреть на новое чудо. Жюльен отвечал на вопросы с мрачным видом, что удерживало всех на известном расстоянии. Слава о нем так распространилась по городу, что господин де Реналь из опасения, чтобы его не отняли у него, предложил ему подписать договор на два года.
— Нет, сударь,— холодно отвечал Жюльен,— если вам вздумается меня уволить, я принужден буду уйти. Договор, связывающий меня, но не обязательный для вас, не равносилен, а потому я отказываюсь.
Жюльен так хорошо сумел себя поставить, что не прошло и месяца после его поступления в дом, как сам господин де Реналь начал уважать его. Так как священник был в ссоре с господином де Реналем и Валено, то никто не мог выдать старинную страсть Жюльена к Наполеону, а он сам произносил теперь это имя с очевидным ужасом.
VII
СРОДСТВО ДУШ
Они умеют трогать сердце, лишь оскорбляя его.
Современный автор
Дети обожали его, но он совершенно не любил их. Мысль его была далеко. Что бы ни делали эти ребятишки, он никогда не выходил из себя. Холодный, справедливый, невозмутимый, а между тем любимый, потому что его появление до некоторой степени изгнало cкуку из дома,— он был хорошим наставником. Что касается его самого, то он чувствовал лишь ненависть и отвращение к высшему обществу, куда был допущен, по правде сказать, на самый крайний конец стола, чем и объяснялись, быть может, его ненависть и отвращение. Во время некоторых парадных обедов он только с большим усилием скрывал свое отвращение ко всему, что его окружало. Между прочим, раз, когда в День св. Людовика господин Валено овладел всем разговором, Жюльен едва не выдал себя; он убежал в сад, сказав, что идет посмотреть, что делают дети. «Какие хвалы честности! — говорил он себе.— Можно подумать, что это единственная добродетель; а между тем какое уважение, какое низкопоклонство все оказывают человеку, который, очевидно, удвоил и даже утроил свое состояние с тех пор, как управляет имуществом бедных! Я готов держать пари, что он даже спекулирует суммами, предназначенными для этих беспризорных детей бедняков, нищета которых еще священнее нищеты всех других. Эх, чудовища! Чудовища! А ведь я тоже в некотором роде найденыш, ненавидимый отцом, братьями, всей семьей».
За несколько дней до Дня св. Людовика Жюльен с молитвенником в руках прогуливался один в лесочке, называвшемся Бельведером и возвышавшемся над «Проспектом верности». Еще издали увидел он своих братьев на уединенной тропинке и, как ни старался, не мог избежать встречи с ними. Черная пара, чрезвычайно опрятный вид брата и его подлинное презрение к ним до того возбудили их зависть, что они набросились на него и избили его чуть ли не до полусмерти, оставив его в обмороке и всего окровавленного. Госпожа де Реналь, гуляя с господином Валено и супрефектом, зашла случайно в этот лесок. Увидя Жюльена лежащим на земле, она подумала, что он мертв. Ее отчаяние было так велико, что внушило господину Валено ревность к Жюльену.
Он начал тревожиться слишком рано, Жюльен находил госпожу Реналь очень красивой, но именно за это ненавидел ее: ее красота была первым препятствием, едва не ставшим преградой для его карьеры. Он почти не говорил с нею, чтобы заставить себя забыть восторг первого дня, побудивший его поцеловать ей руку.
Элиза, горничная госпожи де Реналь, не замедлила влюбиться в нового наставника; она часто говорила о нем своей госпоже. Любовь Элизы навлекла на Жюльена ненависть одного из слуг. Раз он слыхал, как тот говорил Элизе:
— Вы не хотите со мной говорить с тех пор, как этот грязный учитель вступил в наш дом.
Жюльен не заслуживал этого оскорбления, но по инстинкту красивого юноши он еще усиленнее стал заниматься собою. Ненависть господина Валено тоже удвоилась. Он сказал публично, что подобное кокетство неприлично для молодого аббата.
Госпожа де Реналь заметила, что он чаще прежнего стал говорить с Элизой. Оказалось, что эти разговоры вызывались крайней скудостью гардероба Жюльена. У него было так мало белья, что он принужден был очень часто отдавать мыть его вне дома, и для этого Элиза была ему очень полезна. Такая бедность, которой госпожа де Реналь и не подозревала, глубоко ее тронула; ей захотелось сделать ему подарок, но она не смела. Эта внутренняя борьба была первым тяжелым чувством, доставленным ей Жюльеном. До сих пор одно имя Жюльена вызывало в ней чистую и духовную радость, и мысль о его бедности так мучила госпожу де Реналь, что она предложила мужу подарить ему белья.
— Что за глупости! — отвечал он.— Как можно делать ему подарки, когда мы им так довольны и он нам так хорошо служит? К этому следовало бы прибегнуть, если бы он стал проявлять небрежность и явилась бы надобность поощрить его усердие.
Госпожа де Реналь была возмущена такой точкой зрения; до прибытия Жюльена она не замечала ее. Постоянно видя, что молодой аббат одет чрезвычайно опрятно, хотя и очень просто, она говорила себе: «Бедный малый, как же он достигает этого?»
Мало-помалу все, чего был лишен Жюльен, не только не вызывало ее неудовольствия, но даже увеличивало ее сострадание к нему.
Госпожа де Реналь принадлежала к тем провинциалкам, которых в первые две недели знакомства можно принять за глупеньких. С душой чуткой, пренебрегающей многими впечатлениями, она по свойственному всем людям инстинктивному стремлению к счастью почти не обращала внимания на поступки тех грубых лиц, в среду которых забросил ее случай.
Она бы могла выделяться остротой и живостью своего ума, если бы получила хоть какое-нибудь образование, но в качестве богатой наследницы она воспитывалась у монахинь, страстных поклонниц «Священного