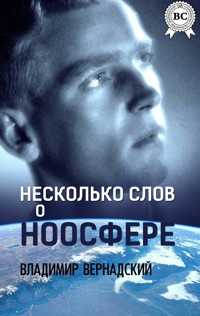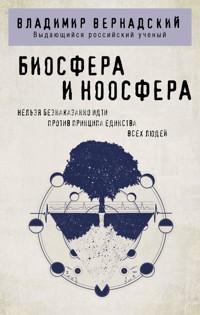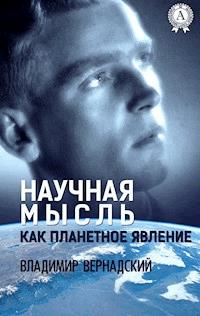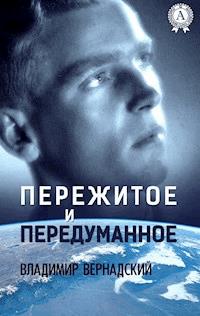
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Russisch
В книгу "Пережитое и передуманное" великого ученого, философа и педагога Владимира Вернадского включены материалы, помогающие постичь масштаб этой поистине уникальной личности: выдержки из дневников, статьи, переписка с выдающимися современниками.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Владимир Вернадский
Пережитое и передуманное
В книгу «Пережитое и передуманное» великого ученого, философа и педагога Владимира Вернадского включены материалы, помогающие постичь масштаб этой поистине уникальной личности: выдержки из дневников, статьи, переписка с выдающимися современниками.
«Научные достижения могут быть едиными для всех»
Когда мы говорим о В. И. Вернадском, мы говорим не об истории, а почти всегда о проблемах современности. В чем причина этой удивительной современности В. И. Вернадского?
В. И. Вернадский сочетал в себе свойства исследователя и мыслителя. Он строго держался фактов, требовал экспериментальной или расчетной проверки каждого суждения. Он всегда называл свои обобщения «эмпирическими». Для него обычной была ремарка: «мы не можем выходить за пределы известных фактов». В то же время именно обобщение было его стилем, он выстраивал и сочетал факты в форме концепции, из которой следовал прогноз. Поэтому выводы его работ были обращены в будущее. Именно отсюда наше ощущение их современности.
Причем очень часто В. И. Вернадский поднимал проблемы, которые не казались актуальными в его время.
Сегодня, когда мы старательно выявляем приоритетные направления в науке и хотим определить ее развитие, по нашему сегодняшнему логическому разумению, полезно иметь в виду одно высказывание В. И. Вернадского. Он писал: «Новые науки, которые постоянно создаются вокруг нас, создаются по своим собственным законам, эти законы не стоят ни в какой связи ни с нашей волей, ни с нашей логикой. Наоборот, когда мы всматриваемся в процесс зарождения какой-нибудь новой науки, мы видим, что этот процесс не отвечает нашей логике. Ход истории и развития науки, ход выяснения научной истины совершенно не отвечают тому ее ходу, который, казалось бы, должен был бы осуществляться по нашему логическому разумению».
Широко известны великие научные свершения В. И. Вернадского: создание им учения о роли «живого вещества» в геологических процессах, основ современной геохимии, учения о ноосфере и др. Я еще скажу о них. Но хотел бы начать с одного важного, хотя и менее известного направления научной мысли В. И. Вернадского.
В. И. Вернадский впервые начал рассматривать геологию Земли как производное от ее истории в качестве планеты солнечной системы. Он говорил о том, что нельзя рассматривать Землю вне ее связи с космосом.
Я напомню, что в то время геология была преимущественно региональной, геологическая съемка охватывала лишь верхний структурный этаж земной коры. Не было данных о глубинном строении Земли, составе мантии и ядра. Не было данных о строении океанической коры. Поэтому подход к глобальному изучению Земли в сравнительном анализе с другими планетами солнечной системы был абсолютно необычным.
В ноябре 1930 года в дневнике он записывает: «Мы видим сейчас как ясную и исполнимую задачу ближайшего будущего захват человеком Луны и планет».
В. И. Вернадский, конечно, понимает, что вещество с других планет, необходимое для сравнительного планетного анализа, окажется в руках исследователей еще не скоро. Но есть другой доступный способ — это широкое изучение метеоритного вещества. Метеориты — фрагменты тел солнечной системы, попавшие на Землю. И В. И. Вернадский организует сбор и описание метеоритов, предпринимает усилия для расширения коллекции. В 1920–1930–х годах проводятся регулярные научные экспедиции на места падений метеоритов. В 1935 году организуется Метеоритная комиссия, преобразованная в 1939 году в Комитет по метеоритам АН СССР (КМЕТ). Председателем Комитета по метеоритам стал В. И. Вернадский. С 1941 года начал издаваться журнал «Метеоритика».
В. И. Вернадский придавал большое значение изучению природы Тунгусского метеорита. Поддерживал организацию экспедиций в район падения. В результате были собраны обширные фактические данные. В. И. Вернадский дал в то время интерпретацию Тунгусского падения, близкую к современной. Он писал: «…проникшие в земную атмосферу массы космического вещества не упали на твердую землю, оставив лишь остатки вещества в виде тончайшей пыли». Возможно, это было «проникновением в область земного притяжения не метеорита, а огромного облака или облаков космической пыли, шедших с космической скоростью».
Лишь лет 20 назад, благодаря открытию изотопных аномалий, стало ясно, что метеориты содержат частицы космической пыли досолнечного происхождения. В. И. Вернадский же писал еще в 30–е годы:
«Космические облака, по-видимому, состоят из частиц как будто бы схожих с теми, что мы находим в метеоритах… Очень может быть, что космические облака имеют какое-то отношение к кометам. В случаях, когда эти облака падают на Землю с космической скоростью под влиянием поля нашего тяготения, а может быть, и магнитного, они могут образовать кратеры или воронки…»
Идея единства вещества метеоритов — хондритов и Земли была в дальнейшем развита у нас продолжателем дела В. И. Вернадского академиком А. П. Виноградовым, который возглавил Институт геохимии и аналитической химии в 1947 году. Эта идея оказалась в высшей степени плодотворной. Она позволила понять природу оболочечного строения Земли и достаточно точно прогнозировать состав земной мантии и ядра. Позже, когда были получены образцы Лунного вещества советскими космическими станциями «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» и американскими аппаратами серии «Аполлон», выяснилось, что базальты Луны мало отличаются от земных базальтов и химическое строение Луны подчиняется закономерностям, вытекающим из хондритовой модели, справедливой для Земли.
В. И. Вернадский считал, что Земля находится в энергетическом и метеоритном обмене с космосом и телами Солнечной системы, и геологическая история должна реконструироваться с учетом этого фактора.
Любопытно, что мы сегодня можем находить и изучать попавшие на Землю фрагменты Луны и Марса. Когда говорят о химическом и минералогическом составе марсианских пород, иногда спрашивают, откуда эти данные — ведь грунт с поверхности Марса не доставлялся. Дело в том, что на Земле имеется около десятка метеоритов, которые по ряду признаков отнесены к фрагментам вещества Марса. Это так называемые SNC — метеориты. Они имеют характерные соотношения трех изотопов кислорода 160, 170,180, отличающиеся от земных пород и других типов метеоритов. Для того чтобы окончательно удостовериться в том, что это породы с Марса, нужно действительно доставить с Марса хотя бы один образец. Если он попадет в ту же область трехизотопной кислородной диаграммы, что и SNC — метеориты, можно будет считать, что в нашем музее в ГЕОХИ мы располагаем веществом Марса.
В Антарктиде были найдены Лунные метеориты, которые по составу отвечают изученным породам Луны. Более того, предполагается, что следует поискать на поверхности Луны древние образцы Земли. Удары крупных метеоритов о земную поверхность могли выбить куски пород и забросить их на Луну. Как известно, на Земле не сохранились породы старше 4 млрд лет. Летопись первых 500 млн лет истории Земли полностью утрачена. Но, возможно, фрагменты древних пород, несущих бесценную информацию о ранней догеологической истории Земли, можно будет найти на Луне.
Кстати, по инициативе В. И. Вернадского впервые был организован сбор и исследование космической пыли в арктических снегах и морских осадках.
Концепция В. И. Вернадского по изучению Земли в контексте изучения планет солнечной системы, которая когда-то могла казаться экзотической, теперь вполне принята, осознана и является рабочей концепцией международного научного сообщества. Очевидно, что проблемы происхождения планетных атмосфер, происхождения океана на Земле, механизм образования планетных ядер — проблемы, которые принципиально нельзя решить путем изучения только Земли.
Это в особенности касается проблемы происхождения жизни. После пятидесяти лет триумфального развития молекулярной биологии вдруг стало очевидно, что решающее слово в решении этой проблемы должны внести биогеохимики и планетологи. Поиск внеземных форм жизни, получение доказательств присутствия жизни в настоящее время или в прошлом на других планетах является официально объявленной целью планетно-космической программы США. Американская программа включает массированное исследование Марса, предусматривающее запуск одного-двух аппаратов каждые два года. В 2011 году предполагается привезти образцы грунта Марса, отобранные так, чтобы максимализировать вероятность захвата проявлений микроорганической жизни, если она там существует или существовала.
К сожалению, наши возможности здесь намного скромнее. Имеется проект запуска аппарата на Фобос — спутник Марса. Замысел состоит в том, чтобы привезти грунт с Фобоса на Землю, исследовать характерные органические соединения, определить изотопный состав кислорода. Последнее позволит вынести, как было сказано выше, решающее суждение в отношении родства SNC — метеоритов и Марса и одновременно решить важную проблему происхождения Фобоса в качестве спутника Марса.
В. И. Вернадский обращался к проблеме происхождения жизни неоднократно, но подходил к ней очень осторожно, так как здесь, как в никакой другой области, генерируются многочисленные спекуляции и сталкиваются разные мировоззрения. Некоторое время он поддерживал идею панспермии. Она ближе всего была к его пониманию жизни как космического явления, вечного по своему существу. Лучше и точнее вслед за В. И. Вернадским говорить не о происхождении жизни, а о зарождении и эволюции биосферы.
Условия, механизм и время зарождения биосферы на планете не зависят от концепции происхождения жизни как явления. Но, тем не менее, важно отметить, что В. И. Вернадский рассматривал эту проблему как проблему космическую, тесно увязанную с пониманием механизма формирования планет. Именно так ставится эта проблема и сегодня.
Говоря о вкладе В. И. Вернадского в мировую науку, конечно, нельзя еще раз не подчеркнуть введение им в науку понимания роли живого вещества в геологических процессах, в том числе планетарного масштаба.
Сам термин «живое вещество» был неожидан и непревычен и вызывал споры. В. И. Вернадский в этой связи писал: «В виде живого вещества мы изучаем не биологический процесс, а геохимический… нам важно охватить по возможности целиком вещество, которое изменяется жизненными процессами, хотя бы оно было случайным с точки зрения функций и морфологии организма. Но мы изучаем массовое явление, идем статистическим методом, при этом все настоящие случайности компенсируются, и мы получаем представление о среднем явлении».
«Употребляя термин “живое вещество” в указанном смысле и сводя его на массу, состав и энергию, мы увидим, что этот термин совершенно достаточен для целого ряда основных научных вопросов… “Живое вещество” так же, как и биосфера, обладает своей особой организованностью и может быть рассматриваемо как закономерно выражаемая функция биосферы».
Из цитированных строк видно, что для В. И. Вернадского жизнь была не только фактором количественным, что само по себе важно. Огромная роль жизни в планетарных процессах поражает воображение. Фактор жизни определил возникновение гранитных масс в земной коре, кислородный состав земной атмосферы, жизнь через фотосинтез и производство восстановленного углерода заводит окислительно-восстановительный цикл в земной коре. Последний контролирует глобальные процессы рудообразования. Собственно биосфера — не просто геологическая оболочка, являющаяся вместилищем жизни. Биосфера преобразует геологическую среду таким образом, что она приобретает свойства, которые она не имела бы в отсутствие жизни. Живое вещество порождает процессы, которые идут с необычно высокой скоростью, в необычном направлении.
Венцом учения о биосфере, делающим это учение подлинно философской концепцией, является представление о переходе биосферы в ноосферу. До появления человека эволюция была стихийным процессом. С появлением разума возник новый организующий фактор в биосфере. Деятельность человека приобрела геологические масштабы, и он в состоянии отныне направлять эволюцию биосферы и, если угодно, геологическую эволюцию.
Эта идея В. И. Вернадского была осознана не сразу. Загрязнение окружающей среды, изменение климата, экологические катастрофы в течение какого-то времени рассматривались как отдельные, не связанные между собой следствия техногенеза. Но со временем стало очевидным, что все дело в том, что мы вошли в ноосферу, с ее новыми, еще неизвестными нам законами.
Циклопическая сила, которую приобрел человек, вызывает не столько удовлетворение, сколько тревогу. Но надо сказать, что В. И. Вернадский рассматривал переход биосферы в ноосферу оптимистически.
Вот несколько из его суждений:
«Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие возможности…
Мы живем в исключительное время в истории нашей биосферы, в психозойскую эру, когда создается новое ее состояние — ноосфера, и когда геологическая роль человека начинает господствовать в биосфере и открываются широкие горизонты его будущего развития…
Наука есть создание жизни. Из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ею в форму научной истины материал …Это есть стихийное отражение жизни человека в окружающей человека среде — в ноосфере. Наука есть проявление действия в человеческом обществе совокупности человеческой мысли…»
Прав ли В. И. Вернадский в своем оптимизме? Существует и другой прогноз, рассматривающий ноосферу как завершающую стадию развития биосферы на планете. По-человечески хочется верить, что В. И. Вернадский прав.
В. И. Вернадский был философом в науке. То, что он называл эмпирическим обобщением, было, в сущности, философским осмыслением известных фактов.
Философы-ученые в гораздо большей степени оказывают влияние на развитие собственной нации, чем ученые-специалисты. В их понимании и изложении научные факты приобретают значение, выходящее за пределы специальной области знания. Они увязываются с социальным историческим фоном.
Культурный, социальный и исторический контекст всегда национален. У самого В. И. Вернадского мы находим слова: «Научные достижения могут достигать общеобязательности и быть едиными для всех. Могут ли философские? Думаю — нет».
Возможно, именно это объясняет, что В. И. Вернадский сравнительно мало известен на Западе. Для Западной научной школы вообще характерен более прагматичный и конкретный подход.
Западный научный мир воспринимает работы, идущие с Востока или из России, только в том случае, если они содержат конкретные факты, расчеты и пр., носящие, словами В. И. Вернадского, характер «общеобязательности». Что касается обобщений, философского осмысления фактов, даже просто их интерпретации, тут они больше доверяют своим.
Впрочем, нам вовсе нет нужды добиваться международного сертификата признания наших великих соотечественников. Нам важно самим уметь оценить вклад тех, кто формировал наше мировоззрение, наш национальный характер, определил наш стиль в науке и культуре.
Э. Галимов,
академик РАН, директор Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского, председатель Комиссии по разработке научного наследия академика В. И. Вернадского при Президиуме РАН.
Пророк атомного века
«Это путь упорного труда и яркой творческой мысли…»
Владимир Иванович Вернадский всю свою творческую жизнь стремился понять суть мира в целом, «объять природу единым исполинским объятием».
С конца 1930–х годов Владимир Иванович приступил к сбору и систематизации материалов для задуманной им автобиографической книги «Пережитое и передуманное». «Книгу жизни» он начал писать в 73 года, но вплотную приступил к ней лишь в 1941 году во время эвакуации в Боровом. Работал над ней до последних дней своей жизни, но закончить не успел.
Название нашей книги — это дань памяти первооткрывателю Эры разума, создавшему учение о БИОСФЕРЕ и ее переходе в сферу разума — в НООСФЕРУ, учения, заложившего фундамент для практического решения проблем устойчивого развития цивилизации.
Академик А. Е. Ферсман так писал о своем учителе и друге В. И. Вернадском: «Весь долгий жизненный путь крупнейшего естествоиспытателя последнего столетия академика Владимира Ивановича Вернадского — это путь упорного труда и яркой творческой мысли, путь, открывающий целые новые области в науке и наметивший новые направления в естествознании в нашей стране.
Десятками лет, целыми столетиями будут углубляться и изучаться его гениальные идеи, а в трудах его — открываться новые страницы, служащие источником новых исканий; многим исследователям придется учиться его острой, упорной и отчеканенной, всегда гениальной, но иногда трудно понимаемой творческой мысли; молодым же поколениям всегда он будет служить учителем в науке и ярким образцом плодотворно прожитой жизни».
* * *
12 марта 1863 г. в Санкт-Петербурге в семье профессора политической экономии и статистики, редактора и издателя журналов «Экономический указатель» и «Экономист» Ивана Васильевича Вернадского родился сын Владимир. В связи с болезнью отца семья переезжает в Харьков по месту его новой службы.
Уже в пять лет Володя прочитал фундаментальную книгу В. Н. Татищева «История Российская с самых древнейших времен». Его любимым местом в доме была библиотека, а лучшими часами — беседы с отцом и дядей Е. М. Короленко об истории и политике, о строении Вселенной, образовании Земли и происхождении человека. Это общение способствовало формированию интересов мальчика и рано пробудило в нем способность к самостоятельному мышлению. Будучи взрослым, он неоднократно вспоминал, что в семье был культ декабристов и чрезвычайно отрицательное отношение к самодержавию.
В 1876 г. семья Вернадских возвращается в Санкт-Петербург, где Володя и окончил гимназию в 1881 г. В этом году он с большим увлечением изучал книги А. Гумбольдта «Космос» и «Картины природы» на немецком языке. Иностранные языки легко давались любознательному юноше. Впоследствии многие поражались его хорошему знанию украинского и всех других славянских языков, а также французского, английского, немецкого и скандинавских языков.
После окончания гимназии Владимир Иванович сомневался в выборе дальнейшего пути: его одинаково влекли как естественные науки, так и исторические, но он был уверен, что его будущее обязательно будет научным.
В 1881 г. он поступает на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, причем посещает лекции и на других факультетах.
Университет в эти годы был средоточием цвета русской мысли: Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев, Н. А. Меншуткин, А. Н. Бекетов, А. С. Фаминцын, Н. П. Вагнер, И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров, А. И. Воейков и др.
Особый след в душе Владимира Ивановича оставили Д. И. Менделеев и В. В. Докучаев, ставший его научным руководителем.
С большим интересом он относился к теоретическим познаниям и к полевым исследованиям, проходившим под руководством В. В. Докучаева. Участвуя в Нижегородской экспедиции, Вернадский обследует не только почвы, но и геологические обнажения. Статья о них явилась первой из более 700 научных публикаций ученого.
В университете Вернадский и его товарищи, придерживающиеся одинаковых прогрессивных взглядов, создали кружок, который впоследствии возвели в ранг «братства». Его правила были:
1. Работай как можно больше;
2. Потребляй (на себя) как можно меньше;
3. На чужие беды смотри как на свои.
Единомышленники «братства» — Андрей Краснов, Федор и Сергей Ольденбурги, Дмитрий Шаховской, Александр Корнилов — стали друзьями с Владимиром Ивановичем навсегда, весь их жизненный путь был пройден в тесном общении, взаимной помощи и участии. Члены «братства» не замкнулись в своих профессиональных интересах, а занимались и общественно полезными делами: помогали созданию сельских библиотек, участвовали в работе Петербургского комитета грамотности, оказывали помощь голодающим Тамбовской губернии и др.
Владимир Иванович активно участвовал в деятельности студенческого Научно-литературного общества. Здесь его окружали не только студенты умеренно-либеральных взглядов, но также и радикально настроенная молодежь, например А. И. Ульянов — старший брат Владимира Ульянова-Ленина, который был секретарем общества. Его казнь в связи с покушением на жизнь Александра III глубоко потрясла Вернадского.
Зимой 1885 г. в группе по изучению и распространению народной литературы Владимир Иванович познакомился с Наташей Старицкой (1860–1943), девушкой скромной, доброй и широко образованной. 3 сентября 1886 г. состоялась церемония их бракосочетания. Владимир Иванович и Наталья Егоровна прожили вместе более 56 лет, по его выражению, «душа в душу и мысль в мысль». В личном фонде ученого сохранилось 1586 писем объемом более 2000 страниц за 1886–1940 годы. Через год у молодых супругов родился сын Георгий, а спустя двенадцать лет — дочь Нина.
В 1885 г. В. И. Вернадский окончил университет со степенью кандидата естественных наук, защитив диссертацию «Оптические свойства изоморфных смесей». А в марте 1886 г. его утвердили в должности хранителя (или, как тогда говорили, консерватора) Минералогического кабинета. Его статьи и доклады по проблемам кристаллографии и минералогии регулярно печатаются в издательстве Московского университета и Московского общества испытателей природы.
2 июля 1887 г. Владимир Иванович пишет Наталье Егоровне: «Нет ничего сильнее желания познания, силы сомнения… Когда при знании фактов доходишь до вопросов «почему, отчего» — их непременно надо разъяснить, разъяснить во что бы то ни стало, найти решение их, каково бы оно ни было. И это искание, это стремление есть основа всякой ученой деятельности… Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти и если не найти, то стремиться найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была».
Молодого ученого университет посылает в 1888 г. на стажировку в Европу на два года. Занимаясь проблемами минералогии и кристаллографии, он работает во многих крупнейших лабораториях в Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Австрии; принимает участие в IV Международном геологическом Конгрессе в Лондоне; изучает коллекции Британского музея; совершает много научных экскурсий. Европейских ученых заинтересовала его теория о том, что географическое распределение минералов, их генезис необходимо исследовать для понимания единства происходящих на Земле эволюционных процессов, развития Земли как космического тела. Его избрали членом Французского минералогического общества, а статьи публикуют в «Докладах Парижской Академии наук» и в «Бюллетене Минералогического общества».
Летом 1889 г. в Париже открылась Всемирная выставка, и В. В. Докучаев поручил своему ученику быть его представителем. Коллекция русских почв получила на ней золотую медаль. Для Вернадского эта выставка имела большое значение. Он не только тщательно ознакомился с достижениями в науке и технике многих стран, но и приобрел немало новых знакомых среди европейских ученых и русских эмигрантов.
* * *
Через два года Владимир Иванович вернулся на родину. С осени 1890 г. — он приват-доцент Московского университета, где преподавал и вел научную деятельность в течение 20 лет (1890–1911).
Кроме обширных курсов по минералогии и кристаллографии, работы в лабораториях и устройства Минералогического кабинета, летом он продолжал с В. В. Докучаевым почвенную экспедицию в Кременчугском уезде, а затем обрабатывал материалы полевых исследований. В университете в совместной работе преподавателей и студентов сложилась «школа» Вернадского, их статьи регулярно печатались в «Бюллетене Московского общества испытателей природы».
27 октября 1891 г. в Петербургском университете состоялась защита Вернадским диссертации на звание магистра, посвященной проблеме строения соединений кремния. На обсуждении была особо отмечена новизна проблем, поставленных молодым ученым. После защиты Владимир Иванович отнес диссертацию в подарок Д. И. Менделееву — великому ученому, оказавшему на него в студенческие годы большое влияние. На всю жизнь он запомнил слова Дмитрия Ивановича: «Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно». Основные положения диссертации отразились в статье «Генезис минералов», опубликованной в Энциклопедическом словаре.
Проходит всего шесть лет напряженной работы, и уже в 1897 г. он успешно защищает докторскую диссертацию «О явлениях скольжения кристаллического вещества». В марте 1906 г. профессор В. И. Вернадский был избран членом-адъюнктом Академии наук, а в 1912 г. он стал ординарным (действительным) академиком.
За эти годы Владимир Иванович сделал много новых научных открытий, но в короткой вступительной статье невозможно даже перечислить их, поэтому остановимся лишь на некоторых.
* * *
В 1909 г. на съезде русских естествоиспытателей и врачей Вернадский выступил с докладом «Парагенезис химических элементов в земной коре». Все химические элементы, слагающие Землю, он разбил на 18 групп — на так называемые природные изоморфные ряды. В каждый ряд он поместил те элементы, которые могут заменять друг друга при образовании общих для них минералов. При этом он установил, что эти ряды не постоянны, а беспрерывно перемещаются и изменяются под влиянием изменения температуры и давления. Исследования были завершены в работах «Опыт описательной минералогии» и «История минералов в земной коре». Эта так называемая генетическая минералогия дала В. И. Вернадскому возможность сформировать основы новой науки — геохимии. Представилась возможность предсказывать, где и какие элементы можно встретить вместе, что для геологов имеет огромное практическое значение.
1909–1911 годы ознаменовались выступлениями В. И. Вернадского по вопросам, связанным с проблемами радиоактивности.
В строении земного шара он различал отдельные оболочки, или геосферы, отличающиеся друг от друга физико-химическими свойствами и термодинамическими условиями. Геосферы — области особых подвижных физико-химических равновесий. Между ними происходит постоянный обмен химическими элементами. Всю внутреннюю энергию Земли, которая вызывает тектонические и вулканические явления, определяет миграция химических элементов за счет энергии радиоактивного распада.
Специальные полевые исследования (например, в Фергане в 1908 г.) и затем обработка радиоактивных минералов сотрудниками Минералогической лаборатории и лично Вернадским, а также многолетнее изучение этих проблем представили ему возможность выступить на общем собрании Академии наук 26 декабря 1910 г. с докладом «Задача дня в области радия», которая произвела в научных кругах столицы настоящую сенсацию. Он сказал: «Перед нами открываются в явлениях радиоактивности источники атомной энергии, в миллионы раз превышающие все те источники сил, которые рисовались человеческому воображению». Научные открытия такого масштаба, подчеркнул ученый, неизбежно изменят весь строй мировоззрения человечества. Ни одно государство, называющее себя цивилизованным, не может быть равнодушно к новым источникам могущества, которые дает ему наука. Академия наук должна прежде всего направить свои усилия на выяснение местонахождения радиоактивных минералов на территории страны.
В Академию наук В. И. Вернадский представил развернутую записку «О необходимости исследования радиоактивных минералов Российской Империи». Однако Академия наук нужными средствами не располагала, и поэтому темпы исследований замедлились. Но Владимиру Ивановичу все-таки удается создать Радиевую комиссию, а затем в 1911 г. при Геологическом музее — и радиохимическую лабораторию для изучения радиевых руд, которые, как он был уверен, «есть на Урале, Фергане, Сибири, может быть, и на Кавказе». Пройдет еще много лет, и лишь в январе 1922 г., уже при советской власти, будет основан Государственный Радиевый институт, директором которого станет В. И. Вернадский (1922–1938).
«Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет… Но сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?»
Хорошо, что Владимир Иванович не дожил в 1945 г. всего несколько месяцев до первых атомных бомб, сброшенных американцами на мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.
* * *
В 1911 г. исполнилось 25 лет научной деятельности В. И. Вернадского. Ученики и сотрудники подготовили юбилейный сборник его статей, но… Именно в эти дни происходит в его жизни важное событие. В знак протеста против антидемократических действий правительства он вместе с другими профессорами (К. А. Тимирязевым, Н. Д. Зелинским, П. Н. Лебедевым, Н. А. Умовым и др.) — всего 21 человек, а затем еще 100 преподавателей Московского университета, — подал в отставку, считая, что произвол властей ущемляет их представления о человеческом достоинстве и чести. Университет лишился почти трети преподавательского состава — случай неслыханный в истории высших школ.
В. И. Вернадский переходит на работу в Академию наук и, переехав в Петербург, приступает к реорганизации Минералогического музея. С 1912 г. по инициативе Владимира Ивановича и под его руководством организуется постоянно действующая Радиевая экспедиция и начинают издаваться «Труды Радиевой экспедиции». Кроме напряженной работы в музее, ученый постоянно выезжает из Петербурга на полевые исследования.
В 1913 г. Вернадский участвует в XXIII сессии Международного Геологического конгресса в Торонто. После окончания заседаний для участников были организованы геологические экскурсии, а затем поездка в США. Будучи в Торонто, Монреале, Чикаго, Вашингтоне, Нью-Йорке, а на обратном пути в Париже и Берлине, он изучал минералогические коллекции и материалы по радиоактивным элементам, знакомился с постановкой высшего образования.
В письмах Наталье Егоровне 17 и 23 августа 1913 г. он пишет: «…в Штатах поражает энергия достижения своей цели. Та новая техника — американская техника, которая так много дала человечеству, имеет и свою тяжелую сторону. Здесь мы ее видели вовсю. Красивая страна обезображена. Леса выжжены, часть на десятки верст страны превращена в пустыню: растительность отравлена и выжжена, и все для достижения одной цели — быстрой добычи никеля… Любопытное зрелище представляет это вхождение цивилизации. С одной стороны, перед входящим в нетронутый лес человеком бежит зверь, гибнут деревья, нетронутая природа теряет свою угрюмую красоту. Но, с другой стороны, область, пропадавшая для человека, делается источником его силы и богатства».
* * *
Находясь в геологической экспедиции в Забайкалье, Вернадский узнает о начале Первой мировой войны. Он возвращается в Петербург и несмотря на тяжелое военное время добивается создания Комиссии по изучению естественных производительных сил России Академии Наук (КЕПС). Владимир Иванович подсчитал, что потери природных ресурсов России составляют до трети, и потому кажущиеся несметными богатства страны не ведут к обеспечению ее населения. Необходимо как изучение их природного состояния, так и правильный контроль за их расходованием. Комиссия начала систематические поиски новых месторождений полезных ископаемых, изучение энергетических ресурсов России. Необходимо отметить, что, изучая проблемы геохимии, В. И. Вернадский первым обратил внимание на огромную роль в земной коре живого вещества — совокупности всех растительных и животных организмов и микроорганизмов на Земле — в процессах перемещения, концентрации и рассеяния химических элементов в земной коре, в биосфере. Под биосферой он понимал самую верхнюю оболочку Земли, в которой происходят жизненные процессы. Эта оболочка простирается в атмосферу до высоты свыше 10 км, на суше идет на глубину не менее 3 км и захватывает весь океан. Вследствие излучений, идущих от Солнца и из более отдаленных частей космоса, земная поверхность есть столько же произведение вещества и энергии нашей планеты, сколько и создание внешних сил космоса. Вернадский утверждал: «Можно сказать, что главным, может быть, единственным трансформатором солнечной энергии в химическую является в биосфере живое вещество, и оно же разносит ее по всей нашей планете. Без него химические явления планеты, а следовательно, и все вопросы, связанные с естественными производительными силами, получили бы совершенно иное освещение и были бы совсем иными, чем они являются ныне». Особую роль в этих процессах ученый отводил растительным организмам.
Почти тридцать лет жизни Владимир Иванович посвятил изучению химического состава и распространенности растительных и животных организмов. Он проводил постоянные экспериментальные исследования по выявлению роли организмов в перемещении химических элементов в земной коре — биосфере, обосновав новую науку — биогеохимию. «Связь состава организмов с химией земной коры и то огромное — первенствующее — значение, которое имеет живое вещество в механизме земной коры, указывает нам, что разгадка жизни не может быть получена только путем изучения живого организма. Для ее разрешения надо обратиться к его первоисточнику — к земной коре», — писал он в книге «Биохимические очерки».
Даже указанных выше работ было бы достаточно, чтобы войти в плеяду выдающихся ученых, однако главным своим достижением В. И. Вернадский считал созданное им учение о ноосфере. Какие бы события в его жизни ни происходили, в голове его постоянно шел бесконечный, непрерываемый процесс подготовки главной книги жизни: «Научная мысль как планетное явление» — выдающегося достижения мировой естественнонаучной и философской литературы, которая только в 1991 г. была издана без купюр, хотя до этого не раз печаталась. Этот труд — своеобразный итог творческих исканий замечательного ученого, его глубокие размышления о взаимоотношениях науки и философии, оптимистическая уверенность в будущем человечества, освобожденном от войн, социального и расового неравенства, нищеты, голода, болезней.
В. И. Вернадский был не только великим ученым и мыслителем, но и общественным и политическим деятелем. Он всегда близко к сердцу принимал все несчастья, выпадавшие на долю русского народа. В 1891 г. он вместе с друзьями по «братству» оказывал помощь голодающим в Тамбовской губернии, потом его избирают там земским гласным, почетным мировым судьей и членом многих земских комиссий. Начало 90–х годов в России было тяжелым во всех отношениях периодом — неурожаи, жестокий голод, холера, антидемократические действия правительства. Однако даже тогда, давая оценку событий, Владимир Иванович предсказывает, что именно с этих страшных «голодных лет» в России начался подъем оппозиционного движения.
С расстрела мирной демонстрации на Дворцовой площади в Петербурге 9 января 1905 г. началась первая русская революция. Эта расправа до глубины души потрясла Вернадского. Живейшее сочувствие вызывает у него и оппозиционное студенческое движение, активное участие он принимает в съездах профессоров и преподавателей высших учебных заведений — так называемых Всероссийских делегатских съездах, заложивших основы Академического союза. С 1905 г. Владимир Иванович стал одним из самых влиятельных и видных членов кадетской партии, а в начале 1906 г. от Академической курии (Академии наук и университетов) его избирают членом Государственного совета, где он вынужден заседать и в 1907–1908 годах. «Академическая» оппозиция оказалась бессильной в борьбе против реакционного большинства. В эти годы он очень много выступал в печати на злободневные темы. Публицистическая деятельность с одной стороны отражала его историко-научные взгляды, с другой — убеждение в необходимости для России стать вровень с европейскими демократиями того времени.
Во время Февральской революции 1917 г. Вернадский — заместитель министра просвещения во Временном правительстве Керенского.
После Октябрьской революции в декабре 1917 г., с трудом поддавшись на уговоры друзей, ученый, спасаясь от физической расправы со стороны большевиков, уезжает из Петрограда на Украину. Здесь ему удается сплотить вокруг себя самых выдающихся ученых, и в феврале 1919 г. была создана Украинская Академия наук, а он избран ее президентом. Это дает ему повод сделать важный политический шаг — навсегда порвать с партией кадетов.
Проведя огромную организационную работу в сложных политических условиях, Владимир Иванович считал, что «Академия должна способствовать быстрому развитию производительных сил, материальной и духовной культуры украинского народа». Удалось создать университет в Екатеринославле и некоторые другие вузы, преобразовать Киевский университет в Государственный, спасти огромные книжные сокровища Национальной библиотеки и др. Планировалось открывать новые институты, заводы по изготовлению научных приборов, ботанические сады, образовать Комиссии по изучению природных ресурсов, по изучению памятников словесности и языка. Была разработана обширная программа по деятельности Академии наук Украины.
Тяжелое заболевание тифом на некоторое время не дает Вернадскому возможность вести активный образ жизни. После выздоровления он едет читать курс лекций по геохимии в Симферополь, где весной 1920 г. обосновался Таврический университет. Вскоре его единодушно избирают ректором университета. С установлением в Крыму Советской власти он начинает сотрудничать с Революционным комитетом Крыма и его председателем известным революционером, руководителем Советской республики в Венгрии в 1919 г. Бела Куном. На заседании съезда Крымского общества естествоиспытателей — Владимир Иванович выступил с яркой программной речью «Организация народного образования в новой России».
* * *
В середине февраля 1921 г. семья Вернадских возвращается в Москву, а затем в Петроград. Будучи всемирно известным ученым, Владимир Иванович получает приглашение работать в ведущих научных учреждениях ряда стран. Но он остался в России. Почему? Вернувшись из Крыма, он встретился со многими знакомыми, увидел, что в стране еще остались большие интеллектуальные силы, готовые работать и сотрудничать с властью. Такое же положение дел было и в Академии наук. Даже большевистскому перевороту нельзя было остановить тот размах, какой приобрела в России научная жизнь. В. И. Вернадский нужен, его здесь ждали, слишком много людей и организаций с ним связано. Он решил остаться на Родине, хотя и не разделял политику большевистского правительства, отрицательно относился к тоталитарному режиму, о чем ярко свидетельствуют его дневниковые записи.
14 июля 1921 г. его арестовали по обвинению в шпионаже и увезли в Петроградскую ЧК, а затем в тюрьму на Шпалерную. Вернадский вернулся домой, полный возмущения и сострадания за несчастных, безвинно томящихся в тюрьмах в ужасающих условиях. На следующий день после освобождения он с дочерью Ниной, которая была студенткой Военно-медицинской академии, едет на опытные работы на Муромскую биостанцию в Александровскую гавань. В эти годы ученый получает широкую возможность публиковать в Петрограде результаты своих исследований. В печати появляется серия его работ, посвященных биохимическим проблемам, радиологии, различным аспектам учения о живом веществе, о радиоактивных минералах и др.
Не ослабевает и его организационная и общественная деятельность. По инициативе Вернадского начали создаваться многие научные учреждения: Радиевый институт, Институт минералогии и геохимии, Институт географии, Керамический и Оптический институты, Метеоритный комитет, Совет по изучению производительных сил России, Комиссии по изучению вечной мерзлоты, по минеральным водам, по изотопам, по истории знаний.
* * *
В декабре 1921 г. из Франции в Академию наук пришло официальное письмо, подписанное известным математиком Аппелем, ректором Сорбонны, с просьбой предоставить академику В. И. Вернадскому возможность прочитать в университете курс лекций по геохимии.
В мае 1922 г. вместе с женой и дочерью Владимир Иванович выезжает во Францию. В этой командировке он пробыл три с половиной года. Он привез в Париж два больших чемодана рукописей, накопленных за время Гражданской войны. Теперь он использует их, не только читая лекции в Сорбонне, но и проводя многочисленные эксперименты в лабораториях. Именно здесь он работал над проблемой размножения живого вещества и пришел к выводу, что живое не подчиняется таким же строгим законам, как неживое. Оказалось, что эти законы столь же строги, но абсолютно другие, и связаны они с размножением, с движением умножающихся масс, что напоминает инерцию в механике. Результаты этих исследований вошли в монографию «Биосфера», которая вышла в мае 1926 г., и в «La Geochimie», напечатанную по-русски в 1927 г. под названием «Очерки геохимии».
После публикации этих трудов авторитет и признание новаторских концепций В. И. Вернадского значительно выросли не только в России, но и в кругах научной мировой среды. Его работы получили большое распространение в США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Норвегии, Польше и других странах Европы, а также в Индии и Японии. Владимир Иванович мечтал об использовании атомной энергии на 18 лет раньше, чем это произошло в истории.
В Париже, работая в лаборатории Жолио-Кюри, он слышал высказывания всемирно известного физика: «Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, превращается в колонию». Как эти слова перекликались с тем, что когда-то в России говорил ему хорошо знакомый физиолог И. П. Павлов: «Моя вера — это вера в то, что счастье человечеству даст прогресс науки»!
Научные интересы Вернадского естественным путем подвели его к фундаментальным научным, философским и науковедческим проблемам, которые волновали самых крупных ученых и философов тех лет — А. Эйнштейна, Н. Бора, Д. Бернала, Б. Рассела и др. Они и В. И. Вернадский заставили задуматься исследователей о всепланетных последствиях общественного прогресса, совершенно по-новому взглянуть на весь процесс развития природы, социальной жизни, науки и техники. Причем под таким углом зрения, который как раз был необходим для раскрытия неизвестных прежде глобальных черт этого гигантского цивилизационного процесса.
* * *
После командировки во Францию В. И. Вернадский еще неоднократно выезжал в разные страны Европы читать лекции, доклады, проводить лабораторные эксперименты. В 1932 г. он работал в Германии. С избранием Гитлера множество знакомых ученых В. И. Вернадского покинули страну.
В 1933 г. выходит книга ученого «Природные воды», которая поразила современников охватом явлений и глубиной обобщений, доказывающая, что для изучения природных явлений нельзя быть узким специалистом в одной отрасли науки, а нужно научиться мыслить исторически и философски.
С 1934 г. семья Вернадских переезжает в Москву, где любимым местом отдыха и напряженной работы в течение следующих лет становится академический дом отдыха «Узкое».
С первого дня основания (1922 г.) и по 1938 г. он — директор Радиевого института и руководитель БИОГЕЛ — Биогеохимической лаборатории. В Академии наук он продолжает заниматься большой организационной деятельностью. Невозможно перечислить все научно-исследовательские учреждения, созданные по инициативе и при непосредственном участии Владимира Ивановича. Кроме упомянутых ранее, был создан Институт истории науки и техники, Комиссии по проблемам урана, по использованию и охране подземных вод, по определению геологического возраста пород, по тяжелой воде и др.
В 1937 г. в Москве состоялась очередная сессия Международного Геологического конгресса, где Вернадский выступил с очень интересным докладом «О значении радиологии для современной геологии». На конгресс, к сожалению, отказались приехать многие зарубежные ученые. Они не хотели ехать в страну, где страдали невинные люди, а многих ученых клеймили как «врагов народа». В лагеря ГУЛАГа бросили сотни и тысячи ученых. Среди них были люди, которыми гордилась не только отечественная, но и мировая наука. Достаточно вспомнить Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, А. Л. Чижевского и др. Были арестованы друзья, ученики и сотрудники Вернадского: П. А. Флоренский, Д. И. Шаховской, А. М. Симарин, Н. М. Лукин, Б. Л. Личков и др.
Требовалось большое мужество, чтобы неоднократно обращаться к руководству страны с просьбой об их освобождении. Однако, несмотря на постоянные угрозы, Владимир Иванович делал это много раз.
12 марта 1938 г. он записал в дневнике: «Впечатление неустойчивости существующего становится все сильнее. Политика террора становится еще более безумной, чем я думал еще недавно. Волевая и умственная слабость руководящих кругов партии и более низкий уровень партийцев, резко проявляющийся в среде, мне доступной, заставляют меня оценивать (все) как преходящее, а не достигнутое — не как тот, по существу, великий опыт, который мне пришлось пережить».
* * *
Нападение Германии на СССР не было для Вернадского неожиданным. Анализ его дневниковых записей подтверждает это. Большую тревогу у него вызывало ослабление страны, армии, отсутствие должного руководства, нехватка всего, недовольство народа. Еще до начала войны, 19 мая 1941 г., он пишет: «…Большинство думают, что мы и наша армия не могут бороться с немцами. Я думаю, что в конце концов немцы не справятся». Даже в самые тяжелые дни войны он не раз говорил о том, что Гитлер находится в еще худшем положении, чем наше руководство, поэтому он обречен и победа будет за нами. В это В. И. Вернадский твердо верил с самого начала войны.
В годы Великой Отечественной войны академические институты были эвакуированы в Среднюю Азию и Казань, а ряд академиков, и среди них В. И. Вернадский, — в Казахстан, в Боровое. Здесь неожиданно, почти внезапно, 3 февраля 1943 г. уходит из жизни Наталья Егоровна, его жена, верный друг и соратник, которой он посвящает книгу «О состояниях пространства в геологических явлениях на фоне роста науки XX столетия». Эта работа была напечатана только через 35 лет после смерти ученого и весьма незначительным тиражом.
Стоически перенес Владимир Иванович эту тяжелую утрату, но внешне его жизнь остается прежней. Он продолжал напряженно работать, как будто конца жизни вовсе не существует.
12 марта 1943 г. ему исполнилось 80 лет. Он категорически отказался от торжественных чествований, которые хотели организовать его коллеги. В приветствии от академического коллектива есть такие слова: «Ваше научное творчество охватывает почти целую Академию: кристаллограф, минералог, почвовед, химик, биолог, историк науки — Вы в каждой из этих дисциплин создали нечто новое, своеобразное, возбуждающее пытливость исследователя…
Мы преклоняемся перед Вашим непоколебимым оптимизмом. В самые тяжелые дни Отечественной войны Вы, Владимир Иванович, утверждали, что в XX веке проповедующий дикие идеи средневековья никогда не может иметь успеха, что фашизм обречен на гибель, что разум, добро и справедливость должны победить и восторжествовать. И в эту зиму предвидение Ваше начало осуществляться. Будем, как и Вы, Владимир Иванович, верить, что с уничтожением фашизма человечество начнет жить в ноосфере, в области разума».
За многолетние выдающиеся работы в области науки и техники ему была присуждена Государственная премия 1 степени в размере 200 000 рублей. За выдающиеся заслуги в развитии геохимии и генетической минералогии он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Биогеохимическая лаборатория была переименована в Лабораторию геохимических проблем им. В. И. Вернадского. Владимир Иванович направил деньги в фонд обороны. В ответной телеграмме И. В. Сталин от имени Красной Армии благодарил Вернадского за сделанное пожертвование.
30 августа 1943 г. В. И. Вернадский возвращается в Москву. Осень и зиму 1943 г. Владимир Иванович работает над книгой «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», подбирает материалы к «Пережитому и передуманному», составляет план работы Академии наук в послевоенный период для восстановления последствий фашистского нашествия.
В 1943–1944 годах научно-организационная деятельность Вернадского сосредоточена в основном в двух академических учреждениях — в Лаборатории геохимических проблем и Комитете по метеоритам. «Когда окончательная победа над фашизмом уже совсем недалека, — говорил Владимир Иванович, — следует готовиться к мирной жизни, в частности, следует энергично заняться выявлением ресурсов радиоактивных элементов — вероятного и важнейшего источника энергии недалекого будущего».
Академик А. П. Виноградов, вспоминая о последнем свидании с Вернадским 24 декабря 1944 г., отмечает, что Владимир Иванович страшно волновался, рассказывая о немецких зверствах. «Во что превратилась Германия… Какой ужас и позор… Да, возмездие близко и неотвратимо».
Однако на следующий день его здоровье резко ухудшилось.
6 января 1945 г. в 5 часов дня, не приходя в сознание, на исходе 82–го года жизни Владимир Иванович Вернадский скончался.
* * *
Прошли годы с того трагического дня, когда ушел из жизни великий ученый-энциклопедист академик В. И. Вернадский, но, как он пророчески предвидел, и сегодня, в XXI веке, и в будущем его открытия, идеи, гипотезы являются источником вдохновения для огромного количества ученых в России и мире. Невозможно сосчитать, сколько съездов, конференций, совещаний, симпозиумов состоялось за это время. Они были посвящены не только изучению его гигантского творческого наследия, но и результатам его исследований, уже претворенным на практике.
Комиссия по разработке научного наследия В. И. Вернадского, созданная в Академии наук, выполняет громадную работу по подготовке к публикации трудов, публичных выступлений, дневников и писем этого замечательного ученого. Осуществляется 17–томное издание «Библиотеки трудов академика Вернадского», многие книги, статьи, лекции и доклады выпускаются отдельными изданиями.
За выдающиеся научные труды в области наук о Земле российским ученым присуждается Золотая медаль имени В. И. Вернадского; за лучшие работы по геохимии, биогеохимии и космохимии учреждена премия имени В. И. Вернадского. Аналогичные премии вручает и Национальная Академия наук Украины.
Имя В. И. Вернадского с гордостью носят Институт геохимии и аналитической химии, Мемориальный кабинет-музей, Российская академия естественных наук, Государственный геологический музей РАН, Неправительственный экологический фонд, Национальный университет в Симферополе, украинская научная станция в Антарктиде и другие научные учреждения. В его честь названы вновь открытые минералы вернадскит и вернардит, диатомовая водоросль, кратер на обратной стороне Луны, гора на Курилах и пик в районе Подкаменной Тунгуски, горы и полуостров в Восточной Антарктиде и др.
В Москве и Киеве есть проспекты Вернадского, ему установлены памятники, а одна из станций Московского метрополитена даже носит его имя.
Мемориальные доски великому ученому установлены в старом здании МГУ, на здании Академии наук Украины, на университете в Симферополе.
В 1984 г. на экраны страны вышел документальный фильм «Закон Вернадского» (режиссер Р. П. Сергиенко).
* * *
Академик Александр Павлович Виноградов писал о своем учителе, друге и соратнике:
«Он видел в науке на много лет вперед. Создавая новые отрасли науки о Земле, он предвидел их огромное значение и связь с практической деятельностью человека».
В заключение этой вступительной статьи хочется привести слова великого ученого и мыслителя XX века Владимира Ивановича Вернадского, который так сказал о прожитой им жизни, жизни во благо России:
«Жизнь святая — есть жизнь по правде. Это такая жизнь, чтобы слово не расходилось с убеждением, чтобы возможно больше, по силам, помогал я своим братьям, всем людям, чтобы возможно больше хорошего, честного, высокого я сделал, чтобы причинил возможно меньше, совсем, совсем мало горя, страданий, болезни, смерти. Это такая жизнь, чтобы, умирая, я мог сказать: я сделал все, что мог сделать.
Я не сделал никого несчастным, я постарался, чтобы после моей смерти к той же цели и идее на мое место стало таких же, нет, лучших работников, чем каким был я».
С. Капелуш
«Я не могу уйти в одну науку»
(дневники, письма, статьи)
Дневники
Из дневника 1882 г.
Павловск, 8 июля
Прежде я не понимал того наслаждения, какое чувствует человек в настоящее время, искать объяснения того, что из сущего, из природы воспроизводится его чувствами, не из книг, а из нее самой. Какое наслаждение «вопрошать природу», «пытать ее»! Какой рой вопросов, мыслей, соображений! Сколько причин для удивления, сколько ощущений приятного при попытке обнять своим умом, воспроизвести в себе ту работу, какая длилась века в бесконечных ее областях! И тут он, человек, подымается из праха, из грязненьких животных отношений, он яснее сознает те стремления, какие создались у него самого под влиянием этой самой природы в течение тысячелетий. Здесь он понимает, что он сделал и что может сделать. Много неверного он сперва выведет в уме своем, много ложно поймет он, но опыт и наблюдение, рассуждение и размышление дадут ему силу познать правильность или вероятность ее в отношении его выводов. Много перечувствовал я в 4–5 часов, проведенных мною в Поповке, много понял яснее, чем понимал прежде, а многое, вероятно, понял неверно. Я ожил и оживился. Оживлены мои стремления, и новые силы имею я без надежды стремиться к ним. Тут сливаются и эстетические, и умственные наслаждения, тут возрождается стремление достичь того идеала, какой до сих пор выработался у человека и понятен ему…
Из дневника 1884 г.
Петербург, 11 мая
Необходимость народной литературы чувствуется всеми нами. Только тогда, когда то, что добыто трудом немногих, станет добычею всех, только тогда возможно наилучшее развитие масс. Приступая к составлению кружка по инициативе К.[1] для улучшения и изучения народной литературы, надо подумать, как повести себя к этому кружку. К. хочет прямо приступить к действию. Ш. бьет на изучение.
Для того чтобы судить о положении какого-нибудь дела, необходимо, бесспорно, с ним ознакомиться, необходимо более или менее разобраться в обстоятельствах, его окружающих. Я лично не имею особенно основательных сведений о положении народной школы и народного образования у нас в России в настоящее время. Но необходимо выяснить себе и то, что знаю.
Школ у нас меньше, чем требуется; огромное большинство детей школьного возраста не имеют где учиться; выходят из школ с разным запасом знаний, и многие, даже, может быть, большинство, за неимением книг забывают грамоту или бывает из нее только употребление в случаях обыденной жизни (не имеет в грамоте одного из орудий — улучшения своего положения, усиления своего ума). Школы поставлены разно, но самая важная прореха… недостаток в них библиотек — нет отчасти вследствие стеснений правительства, отчасти вследствие недостатка книг и дурной организации их распространения. Ввиду того, что школа, кроме грамотности, цифири и т. п., должна приготовлять человека к вполне гражданской жизни, необходимо пополнение ее хорошо организованными библиотеками. Только тогда, когда и по выходе из школ бывшие ученики будут собираться в них и находить звено в библиотеке, только тогда не будет рецедивизма безграмотности и будет большая осмысленность поступков. Это pia desideria[2]. Но мало-помалу этого можно достичь. Необходимо: 1) издавать и писать необходимые книги; 2) пополнять библиотеки и 3) устраивать их. Выбор книг должен быть осмысленный: народ имеет свои исторически сложившиеся привычки и обычаи, есть предметы, его интересующие, и есть такие, к которым ему, по-видимому, нет ни малейшего интереса; связывать себя одним этим и давать только то, что интересует, не стараться обратить его внимание на те стороны, которые важны для него, но упущены, нельзя; и не всякая книга, которая найдет сбыт среди него, — полезная книга. Надо только стараться, чтобы книга пришлась ему по вкусу.
Я полагаю, что наш кружок должен:
1. Ознакомиться и следить в общих чертах за тем, что сделано и делается для народного образования у нас на Руси.
2. Ознакомиться с народной литературой.
3. Ознакомиться с главными чертами народного образования в Западной Европе, каковы школы масс во Франции, читальни в Галиции и т. п.
4. Быть au courant[3] правительственных мероприятий о школах.
5. Ознакомиться с тем, что больше всего нравится народу, и организацией продажи и народными библиотеками (кажется, есть в царстве Польском).
Но кроме этого должно попытаться устроить библиотеку книг по этому предмету, а также рано или поздно приступить как к писанию, так и пополнению библиотек. Я более склоняюсь на сторону Ш.
…Спор с В. А. Тюриным о том, что ученый одними трудами приносит пользу обществу, а для этого ничего не должен знать (даже забыть) о том обществе, которому приносит пользу (тезис В. А. Тюрина). Я держусь совсем другого мнения. Постараюсь высказать его.
Чем больше и больше в последнее время я углублялся в себя, тем более вижу свое малознайство, пустоту и недостаточность своей мысли; во мне мало последовательности, и я чувствую, что не разбираюсь, а теряюсь в тех обстоятельствах, в каких нахожусь. Несистематичность и неполнота знаний, неясность и невыработанность общественных идеалов, слабость и непоследовательность характера, кажется, гнездятся во мне, завладели моим больным умом. Я знаю, что меня многие считают чрезвычайно умным, развитым и т. п.; ожидают, что из меня выйдет что-нибудь замечательное…
12 мая, Петербург
Задача человека заключается в доставлении наивозможно большей пользы окружающим. (Я написал «задача», но понимаю под этим словом не то, что предначертано каким-то «вседержителем неба и земли», явившимся из человеческой фантазии и никогда de facto[4] не существовавшим, а то, что выработает каждый человек из более или менее продуманного и сознательного отношения к окружающему.) Наряду с этим нельзя забывать, что жизнь человека кончается с тем, что называют иногда «временной, земной», и что здесь, в этой жизни, он должен достигнуть возможно большего счастья. Такое состоит как в умственном и художественном кругозоре, так и в материальной обеспеченности; умственный кругозор — наука; художественный — изящные искусства, поэзия, музыка, живопись, скульптура и даже религия — мир человеческой фантазии, мир идеалов и самых приятных снов; материальная обеспеченность необходима в меньшей степени, так как ее удовольствия, по грубости, отходят на второй план, но необходимость их слишком чувствительна и без нее обойтись нельзя и незачем. Всего этого достигает человек — только благодаря крови, страданию поколений до нас и сотен тысяч людей в наше время. Как для того, чтобы это не отравляло радостей, так и для того, чтобы достигнуть наивысшего удовольствия, так и для того, чтобы другие, плоть от плоти и кровь от крови нашей, могли достигнуть удовольствия после нас, — необходимо работать над поднятием и улучшением, над развитием человечества. Есть еще одна сторона: вдумываясь в происходящее, вырабатывая в себе мировоззрение, познавая то, что существует, — истину, человек невольно оценивает все и из этой оценки путем фантазии соображает, что нужно. Такой идеал человечества у всех различен, но все должны стремиться к его осуществлению, должны стремиться и стремятся прямо в силу необходимости, по природе.