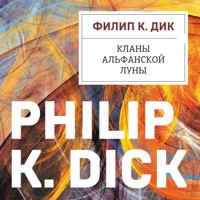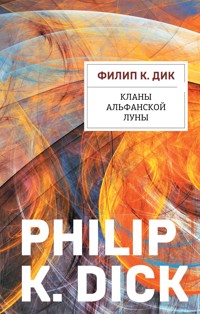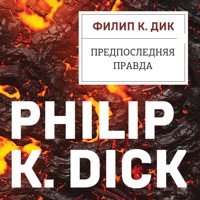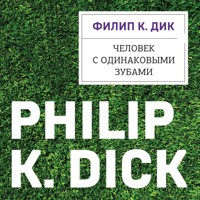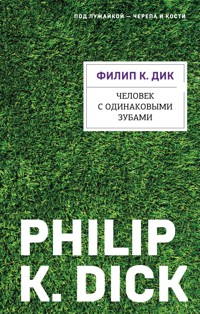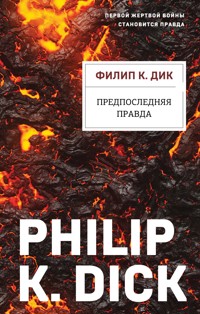
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ЭКСМО
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
Что бы вы сделали, обнаружив, что все ваши знания о мире — ложь? Вот уже пятнадцать лет идет Третья мировая война, воздух заражен смертоносными патогенами и токсинами. Ради выживания людям пришлось спуститься в подземные убежища. Переселенцы конструируют металлических роботов — лиди, и те ведут войну на поверхности вместе с обычными солдатами. С больших экранов жителям бункеров рассказывают о трудностях войны и показывают руины знакомых городов. И они верят. Однажды в одном из бункеров умирает талантливый конструктор, чье тело тут же замораживают, но его еще можно спасти — нужно лишь раздобыть артифорг, бионический орган для трансплантации, а для этого придется подняться наверх. Житель бункера Николас Сент-Джеймс решается на опасную вылазку. Но что он обнаружит? Смерть или правду, которую очень тщательно скрывают?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Филип Дик Предпоследняя правда
Philip K. Dick
The Penultimate Truth
Copyright © 1964, Philip K. Dick
Copyright renewed © 1992, Laura Coelho, Christopher Dick and Isa Hackett. All rights reserved
© В. Кумок, перевод на русский, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
1
Туман может пробраться внутрь и достать тебя; да, он это умеет. У длинного и высокого окна своей библиотеки – озимандийского здания, сложенного из бетонных блоков, что раньше, в прежнюю эпоху, составляли выезд на Бэйшор Фривэй, – Джозеф Адамс застыл в раздумьях, наблюдая за туманом, пришедшим с Тихого океана. И, поскольку был вечер и мир понемногу погружался во тьму, этот туман пугал его столь же сильно, как и другой туман – тот, что был внутри, что не вторгался извне, а просто ширился, шевелился и заполнял пустые пространства тела. И обычно назывался одиночеством.
– Сделай мне коктейль, – жалобно попросила Колин сзади.
– Руки отсохли? – осведомился он. – Лимон себе выжать не можешь?
Он отвернулся от окна, от вида на мертвые деревья и океан за ними и отражения океана в небе, от висящей и наползающей темноты – и на секунду действительно задумался, не сделать ли ей коктейль. Но потом он понял, что должен сделать и где должен быть.
Он уселся за стол с мраморной столешницей, что удалось вынести из разбомбленного дома на Рашн-Хилл в бывшем городе Сан-Франциско, и включил риторизатор.
Недовольно буркнув, Колин удалилась в поисках кого-нибудь, кто сделает ей коктейль. Джозеф Адамс со своего рабочего места услышал, как она ушла, – и обрадовался этому. По какой-то причине – но здесь он очень уж не хотел заниматься особенным самокопанием – Колин Хаккетт не спасала от одиночества, а скорей как раз наоборот. Да и все равно воскресными вечерами коктейли у него никогда не получались; всегда выходили слишком сладкими, словно бы кто-то из его лиди откопал бутылку токайского, а он использовал ее в коктейле вместо сухого мартини. Забавно, но лиди, оставленные без контроля, сами по себе никогда не допускали такой ошибки… уж не дурной ли это знак, задумался Джо Адамс. Уж не становятся ли они умнее нас?
Он аккуратно набрал на клавиатуре риторизатора основное слово. Белка. Затем, через добрых две минуты тяжелого, медленного раздумья, – ограничивающий эпитет умная.
– Окей, – сказал он вслух и откинулся, нажимая кнопку ввода.
Колин вошла обратно в библиотеку, уже с бокалом джин-тоника, а риторизатор тем временем начал для него выдачу в аудиоформате.
– Это старая мудрая белка, – механическим голосом заговорил он (колонка была всего лишь двухдюймовая), – и все же мудрость этой крохи не принадлежит только ей; природа одарила ее…
– О гос-споди! – злобно рявкнул Джо Адамс, шлепком выключая изящный аппарат из стали и пластика; тот смолк. Тут он заметил Колин. – Извини. Я просто устал. Отчего бы им, Броузу, или генералу Хольту, или маршалу Харензани, ну хоть кому-нибудь на высоких ответственных должностях, не перенести воскресный вечер куда-нибудь между днем пятницы и…
– Дорогой, – со вздохом сказала Колин. – Я ведь слышала, ты ввел только две семантические единицы. Дай машине больше.
– Сейчас дам, мало не покажется. – Он нажал кнопку возврата и набрал целую фразу, а Колин стояла у него за плечом, потягивая коктейль и наблюдая. – Так годится?
– Знаешь, я иногда не могу понять, – сказала Колин. – То ли ты страстно любишь свою работу, то ли ненавидишь ее. – Она прочла вслух то, что он написал: – Хорошо информированная дохлая крыса возилась под онемевшим розовым бревном.
– Слушай, – сказал он хмуро. – Я хотел бы посмотреть, что эта дурацкая приблуда, которая влетела мне в пятнадцать тысяч ЗапДем-долларов, с этим сейчас сделает. Я совершенно серьезно, и я жду. – Он резко ткнул в кнопку ввода.
– А когда должна быть готова речь? – спросила она.
– Завтра.
– Просто встань пораньше.
– Ну нет. – С утра я ненавижу все это еще больше, подумал он.
Риторизатор подбавил певучей народности в свой стрекочущий голосок.
– Всем известно, крыс мы считаем недругами. Но гляньте, сколько от них пользы хотя бы при одном только изучении рака. Скромная крыса внесла свою лепту и сослужила неоценимую службу человечест…
И вновь раздраженный жест заставил машину замолчать.
– …ву, – равнодушно закончила Колин; она рассматривала настоящий бюст Эпштейна, откопанный когда-то давно и теперь занимающий место в нише, что разделяла полки с книгами у западной стены, на которых Джозеф Адамс хранил свои справочные материалы по телерекламе прошлого, ушедшего великого двадцатого века, в особенности творения Стэна Фреберга, вдохновленные религией и батончиками «Марс».
– Жалкая метафора, – промурлыкала она. – Лепта… «лепта» – значит «легкая» по-гречески, это мелкая монета, сотая часть драхмы, но я могу поспорить, что даже такой профессионал, как ты, этого не знал. – Она кивнула явившемуся на ее вызов лиди. – Принеси мой плащ, и пусть мой флэппл подгонят к главному входу. – Она продолжила, обращаясь уже к Джо: – Я возвращаюсь на свою виллу.
Когда он не отреагировал, она спокойно сказала:
– Джо, попробуй без этого приспособления, напиши всю речь своими словами. И тогда тебе не придется злиться на крыс с лептами.
Искренне сомневаюсь, что получится своими словами, без помощи машины, подумал он. Я уже подсел, уже без нее не могу.
На улице туман одержал сокрушительную победу; один лишь взгляд вскользь, и стало ясно, что туман заселил весь мир целиком, вплоть до окна его библиотеки. Ну и хорошо, решил он, зато обойдемся без очередного сияющего от радиоактивной-пыли-на-веки-вечные заката.
– Ваш флэппл, мисс Хаккетт, – объявил лиди, – у главного входа; и по удаленной связи я слышу, что ваш шофер, лиди тип два, придерживает дверь открытой для вас. Ввиду вечерней сырости один из служителей мистера Адамса будет обдувать вас теплым воздухом, пока вы благополучно не окажетесь внутри.
– Господи, – сказал Джозеф Адамс и покачал головой.
– Это ты обучал их, дорогой, – заметила Колин. – Это создание восприняло свои драгоценно-жаргонные лингвистические привычки прямиком от тебя.
– Потому что, – сказал он с горечью, – я люблю стиль, пафос и ритуалы. – И, оправдываясь перед ней, продолжил: – Броуз написал мне в служебной записке – она поступила в Агентство прямиком из его бюро в Женеве, – что эта речь должна использовать белку в качестве понятия-оператора. Ну что можно сказать о белках такого, что никто до тебя не говорил? Они делают запасы; они скряги. Это мы знаем. Но делают ли они еще хоть что-то доброе, о чем мы знаем, – такое, на что можно нацепить эту проклятущую мораль?
А еще, подумал он, они все мертвы. Эта форма жизни больше не существует. Но мы все еще превозносим их достоинства… истребив их полностью как класс.
И он быстро и точно набрал на клавиатуре риторизатора две новые семантические единицы. Белка. И – геноцид.
Вскоре машина начала рассказ.
– Удивительно смешное происшествие стряслось со мной вчера по пути в банк. Я случайно проходил через Центральный парк, а вы знаете, как…
Не веря собственным ушам, Джо злобно взглянул на машину.
– Ты вчера проходил через Центральный парк? Четырнадцать лет, как нет никакого Центрального парка.
– Джо, это же просто машина. – Уже в плаще, Колин забежала на минутку, чтобы поцеловать его на прощание.
– Но эта штука сошла с ума, – возразил он. – И она сказала «смешное», когда я задал геноцид. Ты…
– Она вспоминает, – попыталась объяснить ему Колин; на мгновение присев, она коснулась его лица пальцами и заглянула ему прямо в глаза.
– Я люблю тебя, – сказала она, – но ты так умрешь; взорвешься от перенапряжения. Я отправлю Броузу формальный запрос через свой офис в Агентстве, попрошу дать тебе две недели отпуска. У меня есть кое-что для тебя, подарок; один из моих лиди выкопал это близ моей виллы; в законных границах моего поместья, после того небольшого обмена, что мои лиди устроили с соседями с севера.
– Книга. – Он почувствовал внутри себя проблеск, вспыхнувшее пламя жизни.
– И притом исключительно хорошая, настоящая довоенная, не ксерокопия. И знаешь о чем?
– «Алиса в Стране чудес». – Он так много о ней слышал; всегда хотел прочесть ее, иметь у себя.
– Еще лучше. Одна из тех невероятно смешных книжек из шестидесятых годов – и в хорошем состоянии, целы передняя и задняя обложки. Книжка по самосовершенствованию; «Как я привел себя в норму при помощи лукового сока» или что-то подобное. «Как я заработал миллион долларов, ведя для ФБР двойную с половиной жизнь».
Или…
Он сказал:
– Колин, я как-то выглянул в окно и увидел белку.
Она уставилась на него.
– Не может быть.
– Этот хвост; ты ни с чем его не спутаешь. Круглый, и толстый, и серый, как ершик для бутылок. И они прыгают – вот так. – Он постучал пальцами о ладонь, показывая ей, но и сам пытаясь заново это увидеть. – Я завопил; я погнал четверых своих лиди туда с… – Он пожал плечами. – И все равно в итоге они вернулись и доложили: – Там нет такой вещи, доминус, или еще как-то, черт бы помнил.
Он помолчал. Конечно, это была гипногаллюцинация – слишком много спиртного, слишком мало сна. Он это знал. И лиди знали. А теперь и Колин тоже узнала.
– И все же только представь, – упрямо закончил он.
– Вот и напиши своими словами, что ты почувствовал. Вручную, на бумаге – не диктуй на магнитофон. Что означало для тебя увидеть живую и здоровую белку. – Она пренебрежительно махнула в сторону его дорогущего риторизатора. – Не то, что он думает. И тогда…
– И тогда Броуз самолично вычеркнет это, – сказал он. – Может, я и пробью это через компьютер, в симулякр, а потом и на пленку; да, это может пройти так далеко. Но это никогда не пройдет Женеву. Потому что по факту мои слова не будут значить «Давайте, ребята; двигаем дальше». А будут они значить… – Он задумался над тем, чтобы для разнообразия успокоиться. – Хорошо, я попробую, – решил он и встал, оттолкнув свое старинное плетеное кресло. – Ладно, я даже запишу это от руки; найду… как они называются?
– Шариковую ручку. Посмотри на свою руку, ты можешь ею задать кому-то взбучку. Рука и взбучка: вот и получится ручка.
Он кивнул.
– И запрограммировать компьютер напрямую через рукопись. Может быть, ты и права; это загонит меня в депрессию, но хотя бы тошнить так не будет; ненавижу эти желудочные спазмы. – Он начал искать по библиотеке – как бишь она это назвала?
Все еще выполняющий программу риторизатор пищал сам для себя:
– …и вот эта маленькая зверюшка; в крохотной головке умища запаковано жутко много. Может быть, мы с вами и представить не сможем, насколько много. И я думаю, мы можем у нее поучиться.
И так далее и тому подобное. Внутри машины тысячи мельчайших деталей раскручивали проблему, пользуясь дюжиной инфобарабанов; это могло тянуться буквально без конца, но Джо Адамс был занят; он уже нашел ручку, и теперь оставалось найти чистый лист белой бумаги. Черт, ну это-то у него точно должно было быть; он подозвал лиди, который ждал Колин, чтобы проводить ее в свой флэппл.
– Подними весь персонал, – приказал он, – на поиски писчей бумаги для меня. Прочешите все комнаты виллы, включая спальни, даже неиспользуемые. Я отчетливо помню, что видел том или пакет бумаги, или в чем она там выпускалась. Его точно откопали.
По прямой радиосвязи лиди передал команду дальше, и Джо Адамс почувствовал, как здание зашевелилось, все пятьдесят с лишним комнат, как его персонал бросился выполнять команду с того места, на котором она его застала. Он, доминус, буквально собственными ступнями почувствовал кипящую в этом его доме жизнь, и даже внутренний туман отчасти рассеялся, пусть они все и были лишь теми, кого чехи называли роботами, странным славянским словом, означающим рабочие.
Но снаружи туман по-прежнему скребся в стекло.
А когда Колин уедет – знал он, – туман станет царапаться и скрестись еще упорнее, пытаясь попасть внутрь.
Он страстно захотел, чтобы уже настал понедельник, чтобы он уже был в Агентстве, в своем офисе в Нью-Йорке, чтобы его окружали коллеги. И тогда жизнь вокруг не была бы движением мертвых – ну хорошо, неживых – вещей. А самой реальностью.
– А я отвечу тебе, – сказал он неожиданно. – Я люблю свою работу. Собственно говоря, я должен работать; кроме нее, ничего ведь и нет. Не это же все… – Он обвел жестом комнату, в которой они стояли, потом указал на серое, затянутое туманом окно.
– Как наркотик, – сказала Колин проницательно.
– Окей, – кивнул он. – Используя старинное выражение, могу сказать, что ты прям в девятку.
– Эх ты, лингвист, – мягко сказала она. – Правильно – в десятку. Может быть, тебе все же стоит использовать эту машину?
– Нет, – тут же сказал он. – Ты была права; я собираюсь пройти назад до самого начала и попробовать напрямую, лично от себя.
Уже вот-вот кто-то из его персонала должен был, цокая, подойти с чистой белой бумагой; он был уверен, что где-то у него она хранится. А если и нет, то всегда можно поменяться на что-нибудь с соседом, совершить путешествие – безусловно, в окружении и под защитой своей свиты – на юг, в усадьбу и виллу Ферриса Грэнвилла. А уж у Ферриса бумага точно есть; он на прошлой неделе рассказывал им всем на видеоконференции о том, что, господи прости, пишет мемуары.
Что бы, черт продери – или подери, или раздери, – ни значило слово «мемуары».
2
Пора ложиться спать. Так говорили часы, но что, если электричество снова отключалось, как почти на целый день на прошлой неделе; тогда часы могли ошибаться хоть на полдня. И на самом деле, болезненно подумал Николас Сент-Джеймс, вполне могло быть время вставать. А метаболизм его тела, даже после всех этих лет под землей, ни о чем ему не сообщал.
В совмещенном санузле их ячейки, 67-B комплекса «Том Микс», бежала вода; его жена принимала душ. Так что Николас отыскал ее часики на туалетном столике; сравнив время, он обнаружил, что оно совпадает. Ну, значит, так тому и быть. И все же ему абсолютно не хотелось спать. Это дело Мори Соузы, понял он; именно оно терзало его, как орел Прометея, но выклевывало не печень, а мозг. Наверное, так и чувствовали себя заразившиеся Пакетной чумой, подумал он. Проникшие вирусы раздували голову до тех пор, пока она не лопалась, как надутый бумажный пакет. Да, может, я и болен, подумал он. На самом деле. Еще и потяжелее, чем Соуза. А Мори Соуза, главный механик их убежища, «танка», возрастом уже за семьдесят, – сейчас как раз умирал.
– Я выхожу, – крикнула Рита из душа. Вода, однако же, все еще лилась; она еще не выходила. – Я имею в виду, ты можешь зайти почистить зубы, или положить их в стаканчик, или что с ними ты там делаешь.
Что я делаю, подумал он. Болею Пакетной чумой… возможно, тот последний поврежденный лиди, которого они посылали вниз, не был обеззаражен как следует.
А может, я подхватил Вонючее иссыхание – эта мысль заставила Николаса физически содрогнуться всем телом; он представил, как его голова уменьшается в размерах, сохраняя пропорции черт лица, до размеров алебастрового шарика.
– Окей, – ответил он задумчиво и принялся расшнуровывать свои рабочие ботинки. Он чувствовал потребность в чистоте; он тоже примет душ, несмотря на жестокие водные ограничения, действующие сейчас в комплексе по его же собственному указу. Не чувствуешь себя чистым, осознал он, – и ты обречен. Особенно с учетом того, что именно может сделать нас нечистыми, этих микроскопических штук, падающих на нас, которых какой-то разгильдяйский самоходный металлический комплект запчастей поленился вычистить как следует перед тем, как нажать тумблер «вниз» и отправить к нам триста фунтов зараженной материи, горячей и грязной одновременно… горячей от радиации и грязной от микробов. Отличная комбинация, подумал он.
Но на фоне всех этих невеселых раздумий, где-то на заднем плане, все время всплывала одна и та же мысль: Соуза умирает. Что может быть важнее? Просто потому что – ну сколько мы продержимся без этого старого ворчуна?
Примерно две недели. Потому что через две недели их квота поступит на аудит. И на этот раз – а он знал свою и своего танка удачу – это будет один из агентов министра внутренних дел, Стэнтона Броуза, а не генерала Хольта. Ротация. Как однажды сказало изображение Янси на большом экране, это предотвращает коррупцию.
Он набрал на аудиофоне номер клиники танка.
– Как он?
На другом конце линии доктор Кэрол Тай, их терапевт, возглавляющая маленькую клинику, ответила:
– Без изменений. Он в сознании. Спустись к нам; он сказал мне, что хотел бы с тобой поговорить.
– Окей.
Николас прервал связь, крикнул – сквозь шум льющейся воды – Рите о том, что уходит, и вышел из ячейки; в общем коридоре он проталкивался мимо людей, возвращающихся из магазинов и комнат отдыха в свои ячейки, чтобы лечь спать: часы действительно не врали, ибо он видел на многих купальные халаты и стандартного образца шлепанцы из синтетического меха вуба. Да, понял он, и в самом деле пора ложиться. Вот только он точно знал, что все равно не сможет уснуть.
Тремя этажами ниже, в клинике, он прошел через пустые приемные покои – клиника была закрыта, действовал лишь стационар, – а затем мимо сестринского поста; медсестра почтительно встала, приветствуя его, как-никак Николас был их избранным президентом; и, наконец, оказался перед дверью палаты Мори Соузы с закрепленной на ней табличкой «Тихо! Не беспокоить!». Он вошел внутрь.
На широкой белой кровати лежало нечто настолько плоское, настолько раздавленное, что оно могло лишь глядеть строго вверх, словно было отражением, чем-то смутно видимым в пруду, что поглощал свет, а не отражал его. Пруд, в котором лежал старик, был поглотителем всех видов энергии, понял Николас, когда подошел к кровати. Перед ним была одна лишь оболочка; высохшая, словно до нее добрался паук; паук всего мира, или для нас, точнее, подземный паук подземного мира. Но все равно пьющий человеческую жизнь. Даже так глубоко под землей.
Из своей опрокинутой навзничь неподвижности старик сумел шевельнуть губами:
– Привет.
– Привет, старый ты дурачина. – Николас подвинул стул поближе к кровати. – Как ты себя чувствуешь?
Спустя немалое время, словно слова Николаса шли к нему через огромные бездны космоса, старый механик ответил:
– Не слишком хорошо, Ник.
Ты даже не знаешь, подумал Николас, что у тебя. Разве что Кэрол сказала, после того как мы с ней в последний раз говорили о тебе. Он глядел на старика и задумывался, существует ли инстинкт. Он знал, панкреатит смертелен почти в ста процентах случаев, Кэрол сказала ему. Но, конечно, никто не сказал и не скажет об этом Соузе, потому что чудеса случаются.
– Да ты прорвешься, – неловко сказал Николас.
– Послушай, Ник. Сколько лиди мы сделали в этом месяце?
Он прикинул, солгать ли ему или же сказать правду. Соуза не сходил с этой кровати вот уже восемь дней, так что наверняка уже потерял все контакты и не смог бы проверить и уличить его. Поэтому он солгал:
– Пятнадцать.
– Тогда… – Повисла пауза; старик явно прикидывал. Он смотрел вертикально вверх, не переводя взгляд на Николаса, словно бы пряча глаза от стыда. – Мы все еще можем выполнить квоту.
– Мне без разницы, – сказал Николас, – выполним ли мы нашу квоту. – Он знал Соузу, был заперт вместе с ним тут, в «Том Микс», все время войны – пятнадцать лет. – Мне важно понимать, выйдешь ли… – О боже, он проговорился, и уже ничего нельзя было сделать.
– Выйду ли я отсюда, – тихо сказал Соуза.
– Само собой, я имел в виду когда. – Он был дьявольски зол на себя самого. Вдобавок он заметил у дверей Кэрол, выглядящую чертовски профессионально в своем белом халате, туфлях на низком каблуке, держащую папку, в которой, без сомнения, была карта Соузы. Не говоря более ни слова, Николас встал, прошел мимо Кэрол и вышел в коридор.
Она последовала за ним. Они стояли вдвоем в пустом коридоре, и Кэрол сказала:
– Он проживет еще неделю, а потом умрет. Ты случайно это ляпнул или…
– Я сказал ему, что наши мастерские в этом месяце уже выпустили пятнадцать лиди; проследи, чтоб никто не сказал ему иного.
– Я слышала, что скорее пять.
– Семь. – Он сказал ей не потому, что она была их врачом и на ней многое держалось, а из-за Отношений. Он всегда рассказывал Кэрол все; это был один из тех эмоциональных крючков, что крепко зацепил его, удерживал его рядом с ней: она, как никто, замечала любую ложь, даже повседневную, мелкую и невинную. Так чего ради врать сейчас? Кэрол никогда не были нужны сладкие слова; она жила правдой. И вот здесь и сейчас она получила правду еще раз.
– Это значит, что мы не выполним квоту, – сказала она. Констатировала факт.
Он кивнул.
– Отчасти из-за того, что нам заказали три типа семь, а это тяжело; это очень напрягает наши мастерские. Если бы весь заказ состоял только из типов три и четыре… – Но он не состоял; так никогда не было и не будет впредь. Никогда.
Пока существует поверхность.
– Ты знаешь, – помолчав, сказала Кэрол, – что на поверхности существуют искусственные поджелудочные железы, артифорги. Ты, безусловно, рассматривал эту возможность со стороны своей официальной должности.
– Это нелегально, – ответил Николас. – Только военные госпитали. Приоритет. Рейтинг 2-А. Нам не положено.
– Говорят, что можно попробовать…
– И быть пойманным. – Торговля на черном рынке однозначно влекла за собой пародию на суд в виде сессии военного трибунала – а затем расстрел. И это еще в том случае, если тебя не поленятся и возьмут живым.
– Ты боишься выбраться наверх? – спросила Кэрол в своей резкой и алмазно-твердой манере вести допрос.
– Угу. – Он кивнул; так оно и было. Две недели – и смерть от радиационного поражения костного мозга, разрушения его кроветворных тканей. Одна неделя – Пакетная чума, или Вонючее иссыхание, или еще что-нибудь, а он уже чувствовал вирусофобию; вот только что его буквально трясло при одной мысли о заражении – как, в общем, и любого другого танкера, даром что в реальности в «Том Микс» не было ни единой вспышки инфекций.
– Ты можешь, – сказала Кэрол, – собрать людей – ну ты знаешь, тех, кому можешь доверять. И спросить, нет ли добровольцев.
– Провались оно все, если уж кому и идти, так мне. – Но он не хотел никого посылать, потому что знал, каково оно там, наверху. Не вернется никто, потому что если и не трибунал, то какое-нибудь гомотропное, нацеленное на человека оружие выгонит его из убежища и станет преследовать его до конца жизни. Возможно, целых несколько минут.
А охотники на людей, гомотропы, были на редкость поганым изобретением. И расправлялись с людьми они тоже на редкость поганым способом.
– Я знаю, как сильно ты хочешь спасти старика Соузу, – сказала Кэрол.
– Я люблю его, – сказал он. – Вне зависимости от мастерских, квоты и всего прочего. Вспомни, за все то время, что мы провели здесь, внизу, взаперти – он хотя бы раз кому-то в чем-то отказал? В любое время дня и ночи – протечка водопровода, перебои в энергии, забившийся пищепровод – он каждый раз приходил, и стучал молотком, и ставил заплаты, и сшивал обратно, и перематывал по новой, и возвращал все в строй. – И ведь Соуза был официально главным механиком и мог легко послать любого из полусотни подчиненных и храпеть себе дальше. Именно от старика Николас научился правилу – сделай работу сам, не сбрасывай на подчиненного.
Как все эти военные заказы, подумал он, сброшенные на нас. Строительство металлических бойцов восьми базовых типов и тому подобного; и притом правительство Эстес-парка, функционеры ЗапДема и лично Броуза дышат нам прямо в спину.
И, словно бы эти непроизнесенные слова магическим образом заставили проявиться нечто из незримого присутствия, к нему с Кэрол через холл заспешила чья-то серая хрупкая фигурка. Ну точно, комиссар Дэйл Нуньес, весь такой пылкий, занятый, вечно по уши в собственных делах.
– Ник! – Задыхаясь, Нуньес прочел прямо с листка бумаги: – Через десять минут большая речь; включить передачу по всем ячейкам и собрать всех в Колесном зале; мы будем смотреть все вместе, потому что потом будут вопросы. Это серьезно. – Его быстрые птичьи глаза взлетели в тревожной судороге. – Как бог свят, Ник, по тому, что до меня дошло, – это конец Детройту; пробили последнее кольцо.
– Иисусе, – ахнул Николас. И рефлекторно двинулся к ближайшему аудиовводу сети, которая покрывала своими динамиками каждый этаж и каждое помещение в «Том Микс». – Но ведь сейчас время сна, – сказал он комиссару Нуньесу. – Большинство раздевается или уже в постели; разве они не могут посмотреть речь на собственных приемниках в ячейках?
– Все дело в вопросах, – возбужденно сказал Нуньес. – Из-за падения Детройта неизбежно поднимутся квоты – вот чего я боюсь. И если это будет так, то я бы хотел, чтобы каждый точно знал почему. – Он выглядел откровенно несчастным.
– Но, Дэйл, ты же знаешь нашу ситуацию. Мы не можем даже…
– Просто собери их в Колесном зале. Окей? Мы можем поговорить и позже.
Николас поднял микрофон и сказал, адресуясь каждой ячейке в танке:
– Люди, это президент Сент-Джеймс, и мне очень жаль, но через десять минут всем надо быть в Колесном зале. Приходите в чем вы есть, не беспокойтесь насчет этого – купальный халат вполне сойдет. У нас дурные новости.
– Говорить будет Янси. Это точно; мне сообщили, – тихо сказал Нуньес.
– Как я понимаю, Протектор обратится к нам, – сказал Николас в микрофон и услышал, как его голос грохочет из обоих концов пустынного коридора клиники – точно так же, как и везде в огромном подземном антисептическом танке на полторы тысячи душ. – И он примет ваши вопросы.
Он повесил трубку, ощущая себя разбитым. Это было неподходящее время, чтобы сообщать им плохие новости. А еще Соуза, и квота, и предстоящий аудит…
– Я не могу оставить своего пациента, – сказала Кэрол.
– Но мне приказано собрать всех, доктор, – расстроенно сказал Нуньес.
– Тогда, – ответила Кэрол с той несравненной быстротой ума, что одновременно пугала Николаса и заставляла обожать ее, – мистеру Соузе придется тоже встать и прийти. Если указ должен быть исполнен в точности.
И это достигло цели; Нуньес, при всей его бюрократической закостенелости, его почти невротической решимости до последней буквы исполнять каждый спущенный им всем – через него – приказ, кивнул:
– Окей, оставайтесь тут. – Николасу же он сказал: – Пойдем. – И он отправился в путь, отягощенный их общей совестью; основной его задачей было обеспечивать их лояльность: Нуньес был политкомиссаром танка.
Пять минут спустя Николас Сент-Джеймс уже сидел с официальным застывшим видом в своем президентском кресле – на небольшом возвышении в первом ряду Колесного зала; позади него собрались они все, и ворочались в креслах, и шуршали, и переговаривались, и шевелились, и все, включая и его, не отрывали взгляд от огромного, во всю стену, видеоэкрана. Это было их окно – их единственное окно – в мир наверху, и они довольно серьезно относились к тому, что появлялось на его гигантской поверхности.
Он задумался, слышала ли Рита объявление или же до сих пор блаженно плескалась в душе, время от времени отпуская в его адрес какие-то реплики.
– Нет улучшений? – шепнул Нуньес Николасу. – Ну, у старика Соузы?
– При панкреатите? Да ты шутишь, что ли? – Политкомиссар был просто идиот.
– Я послал им наверх пятнадцать служебных записок, – сказал Нуньес.
– И ни в одной из пятнадцати, – заметил Николас, – не содержалось формального запроса на искусственную поджелудочную, которую Кэрол могла бы ему имплантировать.
– Я всего лишь клянчил отсрочку аудита. Ник, – умоляюще продолжил Нуньес, – политика есть искусство возможного; нам могут дать отсрочку, но точно не дадут искусственную поджелудочную; их просто не достать. Вместо этого нам просто придется списать Соузу и выдвинуть на его место кого-то из младших механиков, Уинтона, или Боббса, или…
Внезапно гигантский общий экран из невыразительно-серого стал ослепительно-белым. И из динамиков донеслось: «Добрый вечер!»
Полуторатысячная аудитория в Колесном зале нестройно откликнулась: «Добрый вечер!» Это была просто привычная формальность, поскольку приемников все равно не было и трансляция шла всегда только вниз. С самого верха до самого низа.
«Сводка новостей», – продолжал голос ведущего. На экране появился стоп-кадр: здания, пойманные и застывшие в момент обрушения. С этого же кадра начался сам видеоролик. И здания с гулом, подобным стуку далеких и враждебных барабанов, сложились в пыль и обрушились; обломки словно растворились в занявшем их место дыму, а населявшие Детройт бесчисленные лиди выплеснулись и побежали, словно муравьи из опрокинутой склянки. Невидимые силы то и дело давили их.
Аудиотрек прибавил в громкости; барабаны стали ближе, а камера, наверняка с разведспутника ЗапДема, сфокусировалась на одном из общественных зданий – может быть, библиотеке, а может быть, церкви, школе или банке; а может быть, и всем этом сразу. Было видно в несколько замедленном воспроизведении, как крепкое здание рассыпалось на молекулы. Все объекты в поле зрения превратились в пыль, «возвратились в прах», по библейскому выражению. И ведь это могли быть мы, а не лиди, подумал он, вспомнив, что сам, будучи ребенком, провел в Детройте целый год.
Благодарение господу от всех, и от комми, и от американцев, за то, что война сперва разразилась на колониальном мире – свара за то, кто именно, ЗапДем или НарБлок, отхватит львиную долю в нем. Потому что именно за этот первый год войны на Марсе население Земли удалось увести в подземелья. И, подумал он, хоть мы и тут до сих пор, но так в любом случае лучше, нежели это; он завороженно смотрел в экран и заметил, как группка лиди расплавляется – словно и впрямь сделанная из свинца[1], – но все еще пытается, о ужас, бежать, плавясь. Он отвел взгляд.
– Кошмар. – Нуньес рядом с ним посерел лицом.
Неожиданно на пустом стуле справа от Николаса обнаружилась Рита, в халате и шлепанцах; с ней пришел и младший брат Николаса Стю. Оба напряженно вглядывались в экран, словно бы Николаса и не было рядом. И каждый человек в Колесном зале чувствовал себя в одиночестве, лично воспринимая катастрофу на гигантском телеэкране, и ведущий тогда сказал – за них и для них:
– Это – был – Детройт. Девятнадцатое мая. Год господень 2025-й. Аминь.
Лишь только защитный экран вокруг города был взломан, потребовалось всего несколько секунд, чтобы проникнуть внутрь и совершить все это.
Пятнадцать лет Детройт оставался невредимым. Ну что же, маршал Харензани, встречаясь в надежно защищенном Кремле с Верховным Советом, мог теперь заплатить художнику за изображение еще одного шпиля на дверях их кабинета. Как символа прямого попадания. Записать на свой счет еще один американский город.
Но в разум Николаса, пробиваясь сквозь ужас увиденного, уничтожения одного из немногих оставшихся центров западной цивилизации – в которую он искренне верил и которую любил, – стучалась все та же мелочная, эгоистичная и недостойная мысль. Это будет означать повышение квоты. Все больше придется производить под землей, поскольку с каждым днем наверху оставалось все меньше.
Нуньес прошептал:
– Янси объяснит сейчас. Как это могло случиться. Будь готов. – И Нуньес, конечно же, был прав, потому что Протектор никогда не сдавался; Николаса восхищало в этом человеке его упорное, упрямое нежелание признать, что этот удар был смертельным. И все же…
Они все же достали нас, понял Николас… и даже ты, Тэлбот Янси, наш духовный, политический и военный лидер, достаточно смелый, чтобы жить в своей наземной крепости в Скалистых горах; даже ты, дорогой друг, не сможешь обернуть вспять произошедшее.
– Друзья мои, американцы, – раздался голос Янси – и в нем не слышалось даже усталости! Николас моргнул от неожиданности, настолько бодро это прозвучало. Казалось, Янси абсолютно не взволнован, проявляя стоицизм в лучших традициях своего родного Вест-Пойнта; он увидел все, понял и принял, но не позволил эмоциям вмешаться в свою холодную рассудительность.
– Вы все видели, – продолжал Янси своим глубоким голосом человека пожившего, опытного старого воина, бодрого телом и духом, далекого от дряхлости… столь непохожего на умирающую оболочку человека на больничной койке, у которой дежурила Кэрол, – ужасное событие. От Детройта не осталось ничего, а как вы знаете, его прекрасные автоматические фабрики вырабатывали серьезную долю военной продукции все эти годы; и сейчас все это потеряно. Но мы не потеряли ни одной человеческой жизни, той единственной ценности, от которой мы не можем отказаться и никогда не откажемся.
– Хорошо подмечено, – пробормотал Нуньес, лихорадочно записывая.
Внезапно рядом с Николасом появилась Кэрол Тай, все в том же белом халате и туфлях; он инстинктивно встал, встречая ее.
– Он скончался, – сказала Кэрол. – Соуза. Вот только что. Я немедленно заморозила его; поскольку была рядом с ним, потери времени не было вовсе. Ткани мозга не пострадают. Он просто ушел. – Она попыталась улыбнуться, и глаза ее наполнились слезами. Николас был шокирован; он ни разу не видел Кэрол плачущей, и что-то внутри него ужаснулось этому зрелищу, как дурному, опасному, недоброму знаку.
– Мы выдержим и это, – продолжалась кабельная аудиотрансляция из крепости Эстес-парк, а на экране появилось лицо Янси; картины войны, картины рушащейся или превращающейся в раскаленный газ материи постепенно поблекли на заднем плане. И вот уже на экране был только прямой и строгий человек за большим дубовым столом, в каком-то тайном месте, где Советы – даже их кошмарные новые ракеты «Сино-20» с лазерным наведением – никак не смогут его найти.
Николас усадил Кэрол и привлек ее внимание к экрану.
– С каждым днем, – сказал Янси – и сказал с гордостью, спокойной и рассудительной гордостью, – мы становимся сильнее. Не слабее. Вы становитесь сильнее. – И тут он – Николас готов был поклясться чем угодно – взглянул прямо на него. И на Кэрол, и на Дэйла Нуньеса, и на Стю с Ритой, и на всех остальных здесь, в «Том Микс», на каждого, кроме Соузы, который был мертв; а уж если ты мертв, понял Николас, то никто, даже Протектор, не может тебе сказать, что ты становишься сильнее. И еще, когда ты умер только что, мы тоже умерли. Если только мы не достанем эту поджелудочную – любой ценой, от любого гнусного барыги с черного рынка, что обкрадывает военные госпитали.
Раньше или позже, осознал Николас, несмотря на все запрещающие это законы, мне придется выйти на поверхность.
3
Когда образ «неимоверно-круче-тебя» Протектора Янси, его лицо из стали и дубленой кожи исчезли с экрана и тот обрел свою первозданную матовую серость, комиссар Дэйл Нуньес вскочил на ноги и обратился к собравшимся:
– Ну а теперь, ребята, – вопросы.
Аудитория осталась неподвижной. Настолько неподвижной, насколько могла быть – чтобы за это ей ничего не было.
Выборная должность требовала – и Николас поднялся и встал рядом с Дэйлом.
– Между нами и правительством в Эстес-парке должен быть диалог, – сказал он.
Чей-то резкий голос сзади – не разобрать, мужской или женский, – задал вопрос:
– Президент Сент-Джеймс, умер ли Мори Соуза? Я вижу, что доктор Тай здесь.
– Да, – сказал Николас. – Но он в быстрой заморозке, так что надежда еще есть. Люди, вы слышали Протектора. А перед этим вы видели вторжение в Детройт и его гибель. Вы знаете, что мы уже отстаем от нашей квоты; в этом месяце мы должны собрать двадцать пять лиди, а в следующем…
– В каком еще следующем? – выкрикнул голос из толпы, горько и отчаянно. – В следующем месяце нас здесь уже не будет.
– Мы будем, – ответил Николас. – Мы можем пережить аудит. Позвольте вам напомнить. Первый штраф – это всего лишь урезание на пять процентов пищевого рациона. И только после этого на любого из нас может прийти повестка, и даже тогда призыв не превысит уровня децимации – один человек из каждых десяти. И только если мы три месяца подряд не выполним план, только тогда мы можем – подчеркиваю, можем – столкнуться с риском закрытия. Но у нас всегда есть юридический способ бороться; мы можем отправить своего адвоката в Высокий Суд Эстес-парка, и я заверяю вас, что так мы и сделаем вместо того, чтобы покорно принять закрытие.
Еще один голос выкрикнул:
– А вы запрашивали повторно о том, чтоб нам прислали замену для главного механика?
– Да, – сказал Николас. Но во всем мире нет второго Мори Соузы, подумал он. Ну, может быть, в других танках. Но из – сколько там их было в последний раз? – из ста шестидесяти тысяч убежищ в Западном полушарии никто не станет даже обсуждать вопрос о том, чтобы отпустить действительно стоящего главного механика, даже если мы могли бы каким-то образом связаться с несколькими из них. Да буквально пять лет назад соседи с севера, «Джуди Гарланд», пробурили к нам тот горизонтальный штрек и умоляли – буквально умоляли – отпустить Соузу к ним взаймы. Всего на один месяц. И мы отказали.
– Ну хорошо, – энергично сказал комиссар Нуньес, поскольку добровольных вопросов не последовало. – Я проведу случайную проверку, чтобы выяснить, дошло ли до вас послание Протектора. – Он указал на молодую супружескую пару. – Какой была причина крушения нашего защитного экрана вокруг Детройта? Встаньте и представьтесь, пожалуйста.
Пара неохотно поднялась; мужчина сказал:
– Джек и Майра Фрэнкис. Наша неудача связана с созданием НарБлоком новой многоблочной ракеты «Галатея-3», которая способна проникать внутрь на субмолекулярном уровне. Я так полагаю. Нечто в этом роде. – Он с облегчением уселся обратно, потянув за собой и свою жену.
– Хорошо, – сказал Нуньес; это и в самом деле было приемлемо. – А как вышло, что технологии НарБлока временно опередили наши? – Он огляделся вокруг и выбрал следующую жертву для допроса. – Не промах ли это нашего руководства?
Выбранная им средних лет старая дева встала.
– Мисс Гертруда Праут. Нет, причиной этого не является промах нашего руководства.
Она тут же села обратно.
– А что же тогда является причиной? – по-прежнему обращаясь к ней, спросил Нуньес. – Не могли бы вы встать, мадам, когда отвечаете? Благодарю вас.
Мисс Праут снова встала.
– В этом наша вина? – подсказал ей Нуньес. – Не конкретно нашего танка, но всех нас, танкеров, работников оборонной промышленности, в целом?
– Да, – сказала мисс Праут своим хрупким покорным голосом. – Мы не смогли обеспечить… – Она запнулась, не в силах вспомнить, что же именно они не смогли обеспечить. Повисла неловкая, гнетущая тишина.
Николас взял дело в свои руки.
– Друзья, мы производим базовый инструмент, при помощи которого и ведется война; именно потому, что лиди могут жить на радиоактивной поверхности, среди многочисленных штаммов бактерий и нервно-паралитического газа, разрушающего хлинэстеразу…
– Холинэстеразу, – поправил Нуньес.
– …мы и живы до сих пор. Мы обязаны нашим жизням тем конструкциям, что строятся в наших мастерских. Только это и имеет в виду комиссар Нуньес. Жизненно важно понимать, почему мы должны…
– Я решу этот вопрос сам, – тихо сказал Нуньес.
– Нет, Дэйл. Я.
– Ты уже произнес одно непатриотичное утверждение. Газ, разрушающий холинэстеразу, – американское изобретение. И я могу просто приказать тебе сесть.
– И я не сяду, – сказал Николас. – Люди устали; сейчас не время давить на них. Смерть Соузы…
– Сейчас и есть подходящий момент, чтобы давить на них, и меня учили, Ник, в берлинском Институте психологического оружия, лучшие врачи миссис Морген, и я знаю. – Он повысил голос, обращаясь к аудитории: – Как все вы понимаете, наш главный механик был…
Но в ответ из рядов донесся враждебный, издевательский голос:
– Слышьте, комиссар, мы вам дадим мешок репы. Политкомиссар Нуньес, сэр. И посмотрим, как вы из нее выжмете бутыль крови. Окей? – По рядам покатился негромкий одобрительный шум.
– Что я и говорил, – сказал Николас комиссару, который вспыхнул и судорожными движениями пальцев начал комкать свои записи. – Ну теперь ты отпустишь их обратно по койкам?
Нуньес громко объявил:
– Между вашим избранным президентом и мною возникли некоторые разногласия. В качестве компромисса я задам всего один, последний вопрос. – Он сделал паузу, разглядывая их; люди ждали с усталым страхом. Единственный отчетливо враждебный голос сейчас молчал; Нуньес имел над ними власть, поскольку – единственный в убежище – был не обычным гражданином, а чиновником самого ЗапДема, и мог вызвать живых полицейских-людей сверху. Или, если агентов Броуза вдруг не оказалось бы поблизости, – группу коммандос, состоящую из вооруженных ветеранов-лиди генерала Хольта.
– Комиссар, – объявил Николас, – задаст только один вопрос. А после этого, слава богу, мы все пойдем спать. – Он уселся.
Нуньес, как бы размышляя вслух, спросил медленным и холодным голосом:
– Как мы можем компенсировать для мистера Янси наши недоработки?
Николас внутренне застонал. Но никто, даже Николас, не имел ни законной, ни какой-то иной власти, чтобы остановить человека, которого враждебный голос из аудитории только что верно назвал их политкомиссаром. И все же по Закону это было не совсем уж плохо. Потому что через комиссара Нуньеса существовала прямая и живая связь между их убежищем и правительством Эстес-парка; теоретически они могли отвечать через него, и даже сейчас, в самом сердце мировой войны, мог существовать диалог между танками и правительством.
Но танкерам было непросто подчиняться ура-патриотической линии Дэйла Нуньеса в любой момент, когда тот – а точней, его начальство с поверхности – считал нужным. Например, сейчас, во время отдыха. И все же альтернатива могла быть еще хуже.
Ему уже предлагали (и он тут же, весьма и весьма постаравшись, навсегда вычеркнул из памяти имена предлагавших) сделать так, чтобы их комиссар однажды ночью бесследно исчез. Но Николас ответил – нет. Это не поможет. Они пришлют следующего. И – Дэйл Нуньес был просто человеком. Не властью. И что, было бы лучше, если бы вы столкнулись с Эстес-парком как с властью, которую вы можете видеть и слышать на телеэкране… но до которой не можете ничего донести?
И поэтому, как ни раздражал его комиссар Нуньес, Николас признавал необходимость его присутствия в «Том Микс». Радикалов, которые пробрались к нему как-то ночью со своей идеей быстрого и легкого решения проблемы с комиссаром, удалось надежно и твердо переубедить. Николас, по крайней мере, на это надеялся.
В любом случае Нуньес был все еще жив. Так что, судя по всему, ему удалось донести до радикальных граждан свою аргументацию… а дело было уже три года назад, когда Нуньес впервые включил пылкого борца и энтузиаста.