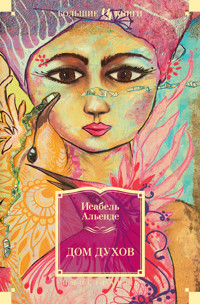Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Большой роман
- Sprache: Russisch
Вена, 1938 год. Вскоре после Ночи разбитых витрин шестилетний скрипач Самуил Адлер уезжает из страны — его мать, потеряв мужа и боясь за ребенка, отправляет сына с другими еврейскими детьми в очень относительную безопасность Англии. Своих родных он больше не увидит. Все, что остается хрупкому и отчаявшемуся Самуилу, — музыка, в которой мальчик прячется от одиночества и неутолимого горя. А также семья квакеров, которые берут его под крыло. Аризона, 2019 год. Семилетняя Анита Диас и ее мать бегут из Сальвадора, и после перехода границы Соединенных Штатов их разлучают. Увидятся ли они снова — большой вопрос. Все, что остается незрячей и растерянной Аните, — воображаемая страна Асабаар, в которой девочка прячется от одиночества и жестокого, непонятного мира. А также поддержка одного честолюбивого адвоката и одной пылкой соцработницы, которые берутся найти пропавшую мать Аниты. Эти события и этих детей разделяют восемь десятилетий. Два человека ищут семью и дом. Оба почти лишились надежды. Однако жизнь сведет Самуила и Аниту и подарит им второй шанс, потому что рядом окажутся люди, которым не все равно. Исабель Альенде — суперзвезда латиноамериканской литературы наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом, одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных премий; ее книги переведены на десятки языков, и их суммарные тиражи неуклонно приближаются к ста миллионам экземпляров. Ее новейший роман «Ветер знает мое имя» — история, вдохновленная подлинными событиями: слепая девочка из Сальвадора, которую после въезда в США разлучили с матерью, стала подопечной Фонда Исабель Альенде, помогающего женщинам и детям. Эта история реальна и притом универсальна: веками бездумная жестокость разлучает семьи, ранит детей, убивает взрослых, лишает людей последней надежды, и веками находятся люди, которые готовы помочь, не отворачиваются и не боятся. Впервые на русском!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
18+
Isabel Allende
EL VIENTO CONOCE MI NOMBRE
Copyright © Isabel Allende, 2023
All rights reserved
Перевод с испанского Анастасии Миролюбовой, Бориса Ковалева
Оформление обложки Вадима Пожидаева
Альенде И.
Ветер знает мое имя : роман / Исабель Альенде; пер. с исп. А. Миролюбовой, Б. Ковалева. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2025. — (Большой роман).
ISBN 978-5-389-28989-5
Вена, 1938 год. Вскоре после Ночи разбитых витрин шестилетний скрипач Самуил Адлер уезжает из страны — его мать, потеряв мужа и боясь за ребенка, отправляет сына с другими еврейскими детьми в очень относительную безопасность Англии. Своих родных он больше не увидит. Все, что остается хрупкому и отчаявшемуся Самуилу, — музыка, в которой мальчик прячется от одиночества и неутолимого горя. А также семья квакеров, которые берут его под крыло.
Аризона, 2019 год. Семилетняя Анита Диас и ее мать бегут из Сальвадора, и после перехода границы Соединенных Штатов их разлучают. Увидятся ли они снова — большой вопрос. Все, что остается незрячей и растерянной Аните, — воображаемая страна Асабаар, в которой девочка прячется от одиночества и жестокого, непонятного мира. А также поддержка одного честолюбивого адвоката и одной пылкой соцработницы, которые берутся найти пропавшую мать Аниты.
Эти события и этих детей разделяют восемь десятилетий. Два человека ищут семью и дом. Оба почти лишились надежды. Однако жизнь сведет Самуила и Аниту и подарит им второй шанс, потому что рядом окажутся люди, которым не все равно.
Исабель Альенде — суперзвезда латиноамериканской литературы наряду с Габриэлем Гарсиа Маркесом, одна из самых знаменитых женщин Южной Америки, обладательница многочисленных премий; ее книги переведены на десятки языков, и их суммарные тиражи неуклонно приближаются к ста миллионам экземпляров. Ее новейший роман «Ветер знает мое имя» — история, вдохновленная подлинными событиями: слепая девочка из Сальвадора, которую после въезда в США разлучили с матерью, стала подопечной Фонда Исабель Альенде, помогающего женщинам и детям. Эта история реальна и притом универсальна: веками бездумная жестокость разлучает семьи, ранит детей, убивает взрослых, лишает людей последней надежды, и веками находятся люди, которые готовы помочь, не отворачиваются и не боятся.
Впервые на русском!
© А. Ю. Миролюбова (наследник), перевод, 2025
© Б. В. Ковалев, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025 Издательство Азбука®
Лори Барра и Саре Хиллесхайм за их чуткое сердце
Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц1
Есть такая звезда, где все люди и все звери счастливы, и это лучше, чем небеса, потому что не надо умирать, чтобы там оказаться.
Анита Диас
АДЛЕРЫ
Вена, ноябрь-декабрь 1938 года
Предчувствие беды буквально ощущалось в воздухе. С самого утра шальной переменчивый ветер мел по улицам, свистел в переулках, задувал в двери и окна.
— Зима на пороге, — прошептал Рудольф Адлер, чтобы взбодриться, но ни климатом, ни календарем не мог объяснить гнетущее ощущение в груди, которое он испытывал уже несколько месяцев.
Страх оплетал ноздри запахом ржавчины и отбросов, и ни трубочный табак, ни цитрусовый запах лосьона после бритья не могли его перебить. В тот ветреный вечер от мерзкого запаха спирало в горле, кружилась голова и подкатывала тошнота. Адлер решил отправить восвояси пациентов, ждущих своей очереди, и пораньше закрыть кабинет. Удивленная ассистентка спросила, не заболел ли он. С доктором Адлером она работала одиннадцать лет, и он никогда не пренебрегал своими обязанностями, всегда был методичен и пунктуален.
— Ничего серьезного, фрау Гольдберг, небольшая простуда. Пойду домой, — ответил он.
Они прибрались в кабинете, продезинфицировали инструменты и, как в любой другой день, распрощались в дверях, не подозревая, что больше никогда не увидятся. Фрау Гольдберг направилась к трамвайной остановке, а Рудольф Адлер быстрым шагом пошел к аптеке, располагавшейся в нескольких кварталах, втянув голову в плечи, одной рукой придерживая шляпу, а в другой сжимая свой чемоданчик. Тротуар был мокрый, небо пасмурное; наверное, весь день моросило, прикинул доктор: того гляди, хлынет один из тех осенних ливней, которые всегда настигали его, стоило забыть зонтик. Тысячу раз ходил он по этим улицам, знал их до мельчайших подробностей и никогда не уставал восхищаться родным городом, одним из красивейших в мире, любоваться гармоничным сочетанием барочных дворцов и построек в стиле модерн, величественными деревьями, с которых уже понемногу опадала листва, площадью в своем квартале с конным памятником посередине, витриной кондитерской, где красовались самые разнообразные сласти, всякими редкостями, выставленными в лавке антиквара; но на этот раз он не отрывал взгляда от мостовой. Вся тяжесть мира навалилась на его плечи.
Угрожающий ропот начался в тот день с новости о покушении в Париже: молодой польский еврей тремя выстрелами убил немецкого дипломата2. Из всех динамиков Третьего рейха неслись призывы к возмездию.
С марта, когда Германия провела аннексию Австрии и войска вермахта под приветственные крики восторженной толпы гордо прошествовали парадом по центральным улицам Вены, Рудольф Адлер жил в тоске и тревоге. Страхи подступили несколько лет назад и все возрастали по мере того, как власть нацистов укреплялась — Гитлер получал финансовую поддержку и вооружался. Террор был оружием нацистов в политической борьбе, они пользовались недовольством, особенно среди молодежи, которая столкнулась с экономическими проблемами, так и не решенными со времен Великой депрессии 1929 года, и с чувством национального унижения, терзавшего немцев после разгрома в Первой мировой войне. В 1934 году в ходе неудавшегося государственного переворота был убит глава правительства Дольфус3, и с тех пор восемьсот человек пали жертвами покушений. Нацисты запугивали оппозицию, провоцировали беспорядки и угрожали гражданской войной. К началу 1938 года уровень насилия в стране стал нестерпимым, в то время как по другую сторону границы Германия давила на Австрию, стремясь превратить ее в одну из своих провинций. Правительство пошло на уступки, но Гитлер все равно отдал приказ начать вторжение. Австрийские нацисты подготовили почву, и захватчики не встретили никакого сопротивления, более того: австрийцы в своем большинстве бурно их приветствовали. Правительство зашаталось, и через два дня Гитлер триумфально вступил в Вену. Нацисты установили полный контроль над территорией. Всякая оппозиция была признана нелегальной. Немецкие законы, репрессивный аппарат гестапо и СС и ярый антисемитизм тотчас же вступили в силу.
Рудольф видел, что и Ракель, его жену, всегда такую здравомыслящую и практичную, вовсе не склонную воображать всяческие беды, почти парализовала тревога: Ракель держалась только на таблетках. Родители старались защитить детский разум их сына Самуила, но мальчик, которому как раз исполнилось шесть лет, рано созрел: он наблюдал, слушал и многое понимал, не задавая вопросов. Вначале Рудольф давал жене те же транквилизаторы, какие прописывал своим пациентам, но, поскольку таблетки с каждым разом помогали все меньше, стал применять более сильное средство — капли в темных пузырьках без этикетки. Он сам нуждался в них не меньше жены, но принимать не мог — это отразилось бы на его врачебной практике.
Капли ему тайком поставлял Петер Штайнер, владелец аптеки: они дружили многие годы. Адлер был единственным врачом, которому Штайнер доверял свое здоровье и здоровье своей семьи; никакие декреты, запрещавшие общение между арийцами и евреями, не могли разорвать эту основанную на взаимном уважении связь. Впрочем, в последние месяцы Штайнеру приходилось избегать общения с другом на публике: не хотелось нажить неприятности с нацистским комитетом квартала. В прошлом друзья сыграли тысячу партий в покер и шахматы, делились книгами и газетами, ездили в горы или на рыбалку, чтобы улизнуть от жен, как они сами говорили, посмеиваясь, а в случае Штайнера — отдохнуть от целого выводка детей. Теперь покерные партии в подсобке аптеки обходились без Адлера. Фармацевт впускал друга через заднюю дверь и давал лекарство, не занося это в расходную книгу.
До аннексии Петер Штайнер никогда не задумывался над происхождением Адлеров, считая их такими же австрийцами, как он сам. Ему было известно, что они евреи, как еще сто девяносто тысяч жителей страны, но это не имело значения. Штайнер был агностиком, и христианство, в котором его воспитали, казалось ему таким же иррациональным, как и другие религии; Рудольф Адлер, насколько он знал, придерживался тех же взглядов, хотя ради жены и совершал некоторые ритуалы. Для Ракель было важно, чтобы их сын Самуил следовал традициям и пользовался поддержкой еврейской общины. По пятницам Штайнеров обычно приглашали в дом Адлеров на Шаббат. Ракель и Лия, ее золовка, готовили ужин, не упуская ни единой детали: лучшая скатерть, новые свечи, рыба, приготовленная по бабушкиному рецепту, караваи хлеба и вино. Ракель и ее золовка были очень близки. Лия рано овдовела, не имела детей, так что прикипела к маленькому семейству своего брата Рудольфа. Она упорно жила одна — хотя Ракель умоляла ее переехать к ним, — но часто приходила в гости. Лия любила общаться с людьми, она участвовала в делах синагоги, в программах помощи нуждающимся евреям. Рудольф оставался ее единственным братом с тех пор, как младший уехал в Палестину и поселился в кибуце, а Самуил был ее единственным племянником. В Шаббат Рудольф сидел во главе стола, как полагалось отцу семейства. Возложив руки на голову Самуила, он просил, чтобы Господь благословил его и защитил, даровал ему милость, мир и покой. Ракель не раз замечала, как муж перемигивается с Петером Штайнером. Но ничего не говорила, видя в этом не насмешку над обрядом, но знак сообщничества между двумя маловерами.
Адлеры принадлежали к светской просвещенной буржуазии — как и все хорошее общество Вены, особенно еврейское. Рудольф объяснял Петеру, что его народ унижали, преследовали и изгоняли отовсюду на протяжении веков, поэтому в еврейской среде гораздо больше ценится образование, чем материальные блага. У них могли отобрать все имущество, как это постоянно случалось на протяжении истории, но никто не в силах лишить человека научной или профессиональной подготовки. Звание доктора почиталось куда больше, нежели целое состояние в банке. Рудольф происходил из семьи мастеровых, и родственники гордились, что один из них стал врачом. Это была престижная и почетная, но в его случае не столь уж денежная профессия. Рудольф Адлер не был ни модным хирургом, ни профессором старинного Венского университета — он был обыкновенным врачом в своем квартале, прилежным и бескорыстным, и половину своих пациентов принимал бесплатно.
Дружба Адлера и Штайнера покоилась на сходстве характеров и общих ценностях: оба питали ненасытный интерес к науке, любили классическую музыку, читали запоем и втайне симпатизировали коммунистической партии, которую запретили в 1934 году. Объединяло их и глубокое отвращение к национал-социализму. С тех пор как Гитлер перестал быть канцлером и провозгласил себя диктатором с неограниченной властью, они встречались в подсобке аптеки, жаловались на этот мир, на век, в который им выпало жить, и утешали себя стаканчиком бренди — напитка, способного растворять металлы: фармацевт производил этот самогон в подвале, который предназначался для самых разных надобностей; там в идеальном порядке хранилось все необходимое, чтобы готовить и помещать в упаковки лекарства, продававшиеся в его аптеке. Иногда Адлер приводил в этот подвал своего сына Самуила, «поработать» со Штайнером. Мальчик часами развлекался, смешивая и распределяя по бутылочкам порошки и разноцветные микстуры, которые ему давал аптекарь. Никто из детей Штайнера такой привилегией не пользовался.
Штайнер с болью в душе встречал каждый новый закон, призванный растоптать достоинство его друга. Он формально купил у Адлера врачебный кабинет и квартиру — чтобы их не конфисковали. Кабинет был расположен очень удачно, на первом этаже роскошного дома, Адлер и его семья жили там же, на втором этаже; в эту недвижимость медик вложил весь свой капитал, и переписать ее на имя пусть даже и лучшего друга — то была крайняя мера, на которую он пошел, не посоветовавшись с женой. Ракель никогда бы не согласилась.
Рудольф Адлер пытался убедить самого себя, что антисемитская истерия скоро утихнет, ведь она совершенно неуместна в Вене, самом утонченном городе Европы, породившем великих музыкантов, философов и ученых, многие из которых были евреями. Подстрекательская риторика Гитлера, с каждым годом все более свирепая, — всего лишь очередное проявление расизма, предки Рудольфа не раз терпели подобное, и это не мешало им жить и процветать. Из предосторожности он снял табличку со своим именем с двери кабинета; что ж, невелика беда — он занимал это помещение уже много лет, и его хорошо знали. Клиентов стало меньше, ведь пациенты-арийцы были вынуждены его покинуть, но Адлер предполагал, что, когда страсти в городе поостынут, люди к нему вернутся. Он уповал на свой профессионализм и вполне заслуженную репутацию; и все же, по мере того как проходили дни, а напряжение в городе возрастало, Адлер все чаще задумывался о том, чтобы эмигрировать, спасаясь от бури, которую нацисты принесли в город.
Дожидаясь, пока ей дадут сдачу в булочной, Ракель Адлер положила таблетку в рот и, не запивая, проглотила. Она была одета по моде, в бежевых и бордовых тонах, — жакет приталенный, шляпка чуть набекрень, шелковые чулки и туфли на высоком каблуке; этой прелестной женщине не исполнилось и тридцати, но из-за строгих манер она казалась старше. Спрятав в рукава дрожащие ладони, Ракель нарочито легкомысленным тоном пыталась ответить булочнику, затеявшему разговор о покушении в Париже.
— Чего добивался этот юный болван, застреливший дипломата? Поляк, не иначе! — восклицал булочник.
Ракель только что дала последний урок своему лучшему ученику, пятнадцатилетнему мальчику, которого учила игре на фортепиано с семи лет: он был одним из немногих, кто воспринимал музыку всерьез. «Простите, фрау Адлер, вы же понимаете...» — сказала его мать, прощаясь с учительницей. Заплатила тройную цену за последний урок и чуть было не обняла, но сдержалась, боясь обидеть. Да, Ракель понимала. И была благодарна: эта женщина предоставляла ей возможность давать уроки на несколько месяцев дольше, чем следовало бы. Ракель сделала над собой усилие, чтобы сдержать слезы и удалиться с высоко поднятой головой; она была привязана к мальчику и не судила его строго за то, что он с гордостью носил короткие черные штаны и коричневую рубашку, форму гитлерюгенда, с девизом «Кровь и честь». Вся молодежь принадлежала к движению, это практически вменялось в обязанность.
— Только подумайте, какой опасности нас всех подвергает этот поляк! Вы слышали, что говорят по радио, фрау Адлер? — продолжал разглагольствовать булочник.
— Будем надеяться, что дальше угроз дело не пойдет, — отвечала она.
— Идите скорей домой, фрау Адлер. По улицам рыскают отряды взбудораженных юнцов. Вам не стоит ходить одной. Скоро стемнеет.
— До свидания, доброй ночи, — пробормотала Ракель, кладя хлеб в сумку, а сдачу в кошелек.
Выйдя на улицу, она полной грудью вдохнула холодный воздух и постаралась отогнать мрачные предчувствия, которые начали ее преследовать с рассвета, задолго до того, как она услышала сообщения по радио и тревожные слухи, носившиеся по кварталу. Подумала, что черные тучи предвещают дождь, и сосредоточилась на том, что ей еще оставалось сделать. Нужно зайти купить вина и свечей для пятницы; золовка, как всегда, придет к ним на Шаббат, а еще будут Штайнеры с детьми. Ракель почувствовала, что, несмотря на только что принятую таблетку, нервы могут ее подвести прямо на улице — как ей не хватало капель! — и решила отложить покупки на завтра. Через два квартала она увидела свой дом — один из первых образцов чистого стиля модерн, построенный в конце девятнадцатого века. Когда Рудольф Адлер покупал помещение для кабинета и квартиру для семьи, все эти линии, подражающие живой природе, изогнутые окна и балконы, витражи со стилизованными цветами возмущали консервативное венское общество, привыкшее к элегантности барочных зданий, но стиль модерн пробил себе дорогу, и вскоре их дом превратился в городскую достопримечательность.
У Ракели возникло искушение зайти на минутку в кабинет, повидаться с мужем, но она тотчас же отказалась от этой мысли. У Рудольфа хватало собственных проблем, ни к чему добавлять к ним еще и ее страхи. Вдобавок Самуил с самого утра ждал ее в доме у тетки. Лия Адлер была учительницей, она вызвалась давать уроки нескольким детишкам. Самуил был на пару лет младше прочих, но в учебе не отставал. Многих еврейских детей обижали в школе, и некоторые матери, принадлежавшие к общине, объединились, чтобы учить малышей частным порядком, а старшие получали образование в синагоге. Это чрезвычайная мера — так думали все. Ракель спешила забрать сына и не заметила, что кабинет мужа закрыт в такой неурочный час. Обычно Рудольф принимал пациентов до шести вечера, кроме пятниц, когда они садились ужинать до захода солнца.
Квартира Лии, скромная, но удачно расположенная, состояла из двух комнат, на стенах красовались вставленные в рамки фотографии преждевременно умершего мужа, а на подержанной мебели — сувениры, привезенные из поездок, которые они совершали вместе до того, как Лия овдовела. В дни, когда она принимала учеников, здесь пахло печеньем, только что из духовки. Ракель Адлер встретила у Лии еще троих матерей — они пришли за детьми, но задержались и теперь пили чай и слушали, как Самуил играет «Оду к радости». Мальчик выглядел таким трогательным: маленький, худенький, с исцарапанными коленками, непокорной копной волос, но при этом собранный, сосредоточенный, он раскачивался в такт звукам собственной скрипки, совершенно не обращая внимания на то, как он при этом выглядит. Когда отзвучали последние ноты, раздались восхищенные возгласы и аплодисменты. Лишь через несколько секунд Самуил вышел из транса и вернулся к окружившим его женщинам и детям. Он отвесил короткий поклон, тетка бросилась его целовать, а мать постаралась скрыть довольную улыбку. Пьеса не очень сложная, мальчик выучил ее меньше чем за неделю, но Бетховен всегда производит впечатление. Ракель знала, что ее сын — маленькое чудо, но всякая форма хвастовства приводила ее в ужас, и она никогда об этом не говорила — ждала, пока скажут другие. Она помогла Самуилу надеть пальто и положить скрипку в футляр, попрощалась с золовкой и другими женщинами и поспешила домой, рассчитав, что как раз успеет приготовить жаркое к ужину. Уже пару месяцев ей никто не помогал по хозяйству: прислугу-венгерку, которую она держала несколько лет, депортировали, а нанять другую ей не хватало духу.
Мать и сын прошли, не останавливаясь, мимо дверей врачебного кабинета и ступили в просторный вестибюль. Лампы под стеклом, расписанным водяными лилиями, освещали интерьер, выдержанный в зеленых и синих тонах. Они поднялись на второй этаж по широкой, в два пролета, лестнице, поздоровавшись с консьержкой, которая круглые сутки дежурила в своей каморке. Та не ответила. Она редко отвечала.
В квартире Адлеров, просторной и удобной, стояла тяжелая мебель красного дерева, призванная служить целым поколениям, но не сочетавшаяся с причудливыми, заимствованными у природы линиями архитектуры модерна. Дед Ракели, антиквар, оставил своим потомкам в наследство картины, ковры и украшения превосходного качества, хоть и вышедшие из моды. Ракель, выросшая в утонченной среде, старалась жить изысканно, хотя доходы мужа и то, что она зарабатывала уроками музыки, не шли ни в какое сравнение с богатством деда. Элегантность этой женщины заключалась в скромности, ибо вычурность отвращала ее так же, как и хвастовство. С детства ей внушили, что рискованно возбуждать в ближнем зависть.
В углу комнаты, возле окна, выходящего на улицу, стояло фортепиано фирмы «Блютнер», принадлежавшее семье целых три поколения. То был рабочий инструмент, на котором занималось большинство учеников Ракели, и одновременно ее единственная отрада в часы одиночества. Она мастерски играла с самого детства, но в ранней юности, поняв, что для сольных концертов ей недостает таланта, примирилась с тем, что станет преподавать. Преподавала она хорошо. Зато ее сын был музыкальным гением, какие встречаются редко. Уже в три года Самуил садился за фортепиано и наигрывал со слуха любую мелодию, даже если слышал ее всего однажды, но предпочитал скрипку, потому что, как он сам говорил, ее можно носить с собой повсюду. Ракель не могла больше иметь детей и всю материнскую любовь изливала на Самуила. Она обожала сына и не могла не баловать, ведь ребенок не создавал проблем, был вежливым, послушным и прилежным.
Через полчаса Ракель услышала с улицы какой-то нестройный шум и выглянула в окно. Увидела с полдюжины юнцов, похоже пьяных: они шли, выкрикивая нацистские лозунги и оскорбляя евреев. Кровососы! Гады! Убийцы! Это она уже слышала и читала в газетах и немецких брошюрах. Один нес факел, другие вооружились палками, молотками и обрезками металлических труб. Ракель отвела Самуила от окна, задернула шторы и собиралась уже спуститься и позвать мужа, но мальчик вцепился в ее юбку. Самуил привык оставаться один, но теперь так испугался, что мать решила немного подождать. Гомон на улице стихал, и она предположила, что шествие удаляется. Вынула жаркое из духовки и стала накрывать на стол. Радио включать не захотела. По радио всегда передавали скверные новости.
Петер Штайнер принял друга в подсобке своей аптеки, где их ждала партия в шахматы, начатая накануне вечером, и бутылка бренди, уже наполовину опорожненная. Знаменитая «Аптека Штайнера» принадлежала семье с прадедовских времен, с 1830 года, и каждое следующее поколение заботилось о том, чтобы поддерживать ее в превосходном состоянии. Там еще сохранились полки и прилавки резного красного дерева, бронзовые аптечные принадлежности, привезенные из Франции, и дюжина старинных хрустальных флаконов: не один коллекционер зарился на них и хотел купить; владелец уверял, что они стоят целое состояние. Витрины, смотрящие на улицу, были по краям расписаны гирляндами цветов, пол выложен португальской плиткой, несколько исхоженной за столетие с лишним, а клиенты возвещали о своем приходе звоном серебряных колокольчиков, подвешенных к двери. «Аптека Штайнера» выглядела так живописно, что привлекала туристов, о ней писали в прессе, ее фотографии помещали в альбомы как символ города.
От Петера не укрылось, что Рудольф Адлер пришел так рано в рабочий день.
— Что с тобой? — спросил он.
— Сам не знаю: трудно дышать. Похоже на сердечный приступ.
— Нет, дружище, для этого ты слишком молод. Это нервы, у тебя стресс. Выпей рюмочку — лечит от всех болезней, — возразил Штайнер, наливая ему двойную порцию.
— В этой стране уже невозможно жить, Петер. Нацисты нас обложили со всех сторон. Кольцо репрессий сжимается все теснее, захватывает всех. Нам нельзя заходить во многие рестораны и магазины, нашим детям угрожают в школах, нас лишают работы в государственных учреждениях, конфискуют наш бизнес, наше имущество, запрещают заниматься нашей профессией или любить человека другой крови.
— Такая ситуация неприемлема, скоро все наладится, вот увидишь, — проговорил Петер, не слишком-то веря собственным словам.
— Ты ошибаешься. Дела хуже с каждым днем. Нужно страдать избирательной слепотой, чтобы думать, будто мы, евреи, еще можем как-то нормально существовать. Мы под угрозой, насилия не избежать. Каждый день издаются новые законы.
— Мне так жаль, дружище, так жаль! Как я могу тебе помочь?
— Ты и так сделал для меня много, но теперь тебе нас не защитить. Фашисты считают нас злокачественной опухолью и хотят вырвать из тела нации. Шесть поколений моей семьи жили в Австрии! Унижения множатся. Что еще могут у нас отнять? Только жизнь, больше ничего не осталось.
— Никто не может отнять твое звание врача и твое имущество. Это была хорошая мысль — переписать кабинет и квартиру на мое имя.
— Спасибо тебе, Петер. Ты мне как брат... Самые низменные инстинкты вырвались на свободу. Гитлер уже давно у власти, и он попытается завладеть Европой. Я думаю, он втянет нас в войну. Ты представляешь себе, что тогда начнется?
— Еще одна война! — воскликнул Штайнер. — Нет, это будет коллективное самоубийство. Мы получили урок в предыдущей войне. Вспомни этот ужас... поражение...
— Мы, евреи, — козлы отпущения. Половина моих знакомых пытаются бежать. Я должен уговорить Ракель уехать.
— Уехать? Куда? — встревожился Штайнер.
— Лучше бы в Англию или в Соединенные Штаты, но туда почти невозможно получить визу. Я знаю людей, которые уехали в Южную Америку...
— Как это — ты, и вдруг уедешь? Что я буду без тебя делать?
— Может, только на время. И потом, я еще не решился, и сначала нужно уговорить Ракель. Мы годами трудились, строили эту жизнь — Ракель будет нелегко все бросить, оставить отца с братом. Уговорить Лию тоже будет непросто, но не взять ее с собой я не могу.
— Это отчаянное решение, Руди.
— Я обязан думать о Самуиле. Мой сын не должен расти парией.
— Надеюсь, ты не уедешь, но если уедешь, о твоем имуществе я позабочусь. Когда вернешься, оно будет ждать тебя в целости и сохранности.
Они налили по второй рюмке, и тут снаружи донеслись крики и топот. Друзья выглянули в дверь и увидели толпу, наводнившую улицу: мужчины, юноши и даже женщины выкрикивали угрозы и партийные лозунги, потрясали молотками, дубинками и другими увесистыми предметами. «К синагоге! В еврейский квартал!» — вопили идущие впереди. Полетели камни, послышался характерный звон разбитых стекол, сопровождаемый победными криками. Толпа была как единый зверь, воспламененный радостной жаждой крови.
— Помоги мне закрыть аптеку! — воскликнул Штайнер, но Адлер уже выскочил на улицу и побежал к своему дому.
Ночь наполнилась ужасом. Только через десять минут Ракель Адлер поняла всю серьезность происходящего: задернутые шторы заглушали грохот и крики. Она думала, что вернулась кучка юнцов, которые шумели чуть раньше. Чтобы отвлечь Самуила, попросила его что-нибудь сыграть, но мальчик словно оцепенел, уже предчувствуя трагедию, реальность которой Ракель пока отказывалась признавать. Вдруг что-то ударило в окно, и стекло разлетелось на тысячу осколков. Первой мыслью было подсчитать, во что им обойдется ремонт, ведь стекло было вырезано на заказ. И тотчас же второй булыжник разбил другое стекло, штора оторвалась от карниза и повисла на последнем креплении. Через дыру в окне Ракель увидела кусочек багрового неба, вдохнула запах дыма и копоти. Дикие вопли вихрем ворвались в квартиру, и тогда она поняла, что творится нечто куда более опасное, чем выходки пьяных юнцов. Яростному ропоту толпы вторили крики панического страха, звон бьющихся стекол не прекращался ни на миг.
— Рудольф! — в ужасе закричала она, схватила Самуила за руку и потащила к двери.
Мальчик едва успел подхватить футляр со скрипкой.
От кабинета Рудольфа квартиру отделяла только широкая мраморная лестница с деревянными, украшенными бронзой перилами, но Ракель туда не добралась. Теобальд Фолькер, сосед с третьего этажа, отставной военный, с которым она едва перемолвилась парой слов, перехватил ее в коридоре и преградил путь. Она оказалась прижата к широкой груди старого ворчуна, тот что-то невнятно бормотал, а она вырывалась и звала мужа. Прошло больше минуты, прежде чем она поняла, что Фолькер не пускает ее на первый этаж, потому что налетчики уже выломали дверь из резного дерева с витражом и ворвались в вестибюль.
— Идемте со мной, фрау Адлер! — рявкнул сосед голосом, явно привыкшим отдавать команды.
— Там мой муж!
— Вам нельзя спускаться! Подумайте о сыне!
И он подтолкнул ее вверх по лестнице, к собственной квартире, где Ракель никогда прежде не бывала.
Жилище Фолькера было таким же, как у Адлеров, но не светлым и изысканным, как у них, а темным и холодным: скудная мебель, из украшений только пара фотографий на полочке. Сосед силой затащил Ракель в кухню, а Самуил, вцепившись в свою скрипку и словно онемев, шел следом. Фолькер открыл узенькую дверцу стенного шкафа и жестами велел спрятаться там и сидеть тихо, пока он не вернется. Дверца закрылась, Ракель с Самуилом стояли в тесноте, прижавшись друг к другу, погруженные в полную тьму. Они слышали, как Фолькер передвигает что-то тяжелое.
— Что случилось, мама?
— Не знаю, милый, стой спокойно и молчи... — шепнула Ракель.
— Папа не найдет нас здесь, когда вернется, — проговорил Самуил тем же серьезным тоном.
— Это ненадолго. В дом ворвались злые люди, но они скоро уйдут.
— Это нацисты, да, мама?
— Да.
— Все нацисты плохие, мама?
— Не знаю, сынок. Должно быть, есть и хорошие и плохие.
— Но плохих, наверное, больше, — подытожил мальчик.
Теобальд Фолькер уже служил в армии, когда ему выпало на долю защищать Австро-Венгерскую империю в 1914 году. Он происходил из крестьянской семьи без каких-либо военных традиций, но сумел выслужиться. Ростом под метр девяносто, он обладал недюжинной силой, был по характеру дисциплинирован, то есть рожден для военной службы, но втайне писал стихи и мечтал, как славно было бы жить в мирном селении, возделывать землю и держать скот, рядом с женщиной, которую он любил с отроческих лет. За четыре года войны он потерял все, что придавало смысл жизни, — единственного сына, в девятнадцать лет погибшего в бою, обожаемую жену, которая с горя покончила с собой, и веру в родину: в конечном итоге оказалось, что родина — всего лишь идея и знамя.
Когда закончилась война, Фолькеру стукнуло пятьдесят два года, и он остался при звании полковника и с разбитым сердцем. Он сам уже не помнил, за что сражался. Поражение встретил, истерзанный призраками двадцати миллионов убитых. Для него не нашлось места в разрушенной Европе, где в братских могилах гнили вперемешку останки мужчин, женщин, детей, лошадей и мулов. Несколько лет он держался на должностях, недостойных его звания, разделяя жалкую участь побежденных, пока возраст и недуги не вынудили его выйти в отставку. С тех пор он жил один, читал, слушал радио и сочинял стихи. Раз в день выходил купить газету и все необходимое, чтобы приготовить еду. Медали героя все еще красовались на старом мундире, и Фолькер надевал его на каждую годовщину перемирия, ознаменовавшего распад империи, за которую старый воин бился четыре ужасных года. В такой день он чистил и отглаживал мундир, полировал до блеска медали и смазывал оружие; потом открывал бутылку крепкой водки и методично напивался, проклиная свое одиночество. Фолькер оказался среди немногих жителей Вены, которые не вышли приветствовать немецкие войска в день аннексии, поскольку не отождествлял себя с этими людьми, марширующими гусиным шагом. Наученный горьким опытом, он не верил в патриотический пыл.
В доме взрослые сторонились полковника, который даже не отвечал, когда с ним здоровались; дети его боялись. Все, кроме Самуила. Ракель и Рудольф большую часть дня бывали заняты, каждый на своей работе, а женщина, которая раньше ежедневно прибиралась у Адлеров, уходила в три часа. Если тетя Лия не навещала племянника, мальчик проводил по нескольку часов в одиночестве, делал уроки и занимался музыкой. Вскоре Самуил обнаружил, что, когда он играет на скрипке или на фортепиано, сосед незаметно спускается со своим стулом, садится в коридоре и слушает. Хотя его никто об этом не просил, Самуил стал оставлять дверь открытой. Он старался играть как можно лучше для публики из одного человека, который внимал в почтительном молчании. Они никогда не разговаривали, но, встречаясь в доме или на улице, обменивались легким кивком, еле заметным, так что Ракель не догадывалась о необычных отношениях, связывавших ее сына и Фолькера.
Заперев соседку и мальчика и прикрыв дверцу стенного шкафа кухонным столом, полковник поспешно переоделся в серый мундир с золотыми эполетами и полным набором медалей, нацепил кобуру с люгером, устаревшим, но в прекрасном состоянии, и встал в дверях своей квартиры.
Петер Штайнер задержался на несколько минут, закрывая витрину аптеки деревянными ставнями и опуская на дверь металлическую штору. Он надел пальто и выбежал через заднюю дверь, намереваясь догнать своего друга, но даже по узкой боковой улочке, выкрикивая угрозы, двигалась возмущенная толпа. Петер вжался в дверь подъезда, прячась от налетчиков, дожидаясь, когда они исчезнут за углом. Был он дюжий, краснолицый, с белокурым ежиком, жестким, как щетина; глаза, очень светлые, были словно подернуты поволокой, а мощными руками тяжелоатлета он выигрывал любое состязание в силе. Кроме своей жены, он никого не боялся, но все же решил избежать столкновения с разнузданной ордой варваров и пошел в обход, молясь, чтобы Рудольф Адлер поступил так же. Через несколько минут аптекарь убедился, что толпы наводнили весь квартал и пробиться к кабинету друга не получится. Думал он недолго — влился в человеческую массу, вырвал партийный штандарт из рук какого-то юнца, который не осмелился протестовать, и понесся в общем потоке, потрясая стягом.
Одолев эти несколько кварталов, Петер Штайнер постиг, в какой хаос погрузился тихий район, где традиционно жили и работали члены многочисленной еврейской общины. В витринах не осталось ни одного целого стекла, всюду горели костры, куда бунтующие бросали все, что выносили из домов и контор; подожженная с четырех концов синагога пылала под невозмутимыми взглядами пожарных, готовых вмешаться, только если пламя перекинется на соседние здания. Петер видел, как раввина волокли за ноги и его голова, вся в крови, колотилась о камни мостовой; видел, как избивали мужчин; как с женщин сдирали одежду и вырывали пряди волос; как хлестали детей по лицу, а на стариков мочились, пинали их ногами. С некоторых балконов зеваки подзуживали нападавших, а в одном окне кто-то приветственно поднял правую руку, в левой сжимая бутылку шампанского, но в большинстве особняков и многоквартирных домов двери были заперты, а на окнах опущены шторы.
Ужасаясь тому, что с ним происходит, аптекарь осознал, до чего заразительна звериная энергия толпы: он тоже чувствовал дикарскую тягу к свободе, рвался крушить, жечь и вопить до хрипоты — сам превращался в чудовище. Задыхаясь, покрытый потом, с пересохшим ртом и мурашками по всему телу от выброса адреналина, он скрылся за деревом и присел на корточки, стараясь отдышаться и обрести разум.
— Руди... Руди... — бормотал он все громче и громче, пока имя друга не вернуло ему рассудок.
Нужно отыскать его, спасти от яростной толпы. Петер поднялся на ноги и двинулся вперед: штандарт и чисто арийская внешность служили ему защитой.
Как Штайнер и боялся, врачебный кабинет Адлера был разгромлен, стены исписаны ругательствами и разрисованы партийными символами, дверь выломана, все стекла побиты. Мебель, стеллажи, лампы, медицинские инструменты, склянки с лекарствами — все разбросано по мостовой. А друг бесследно исчез.
Полковник Теобальд Фолькер встретил первых налетчиков, стоя со скрещенными руками на пороге своей квартиры. Дверь выломали меньше четверти часа назад, а они уже распространились по дому, точно крысы. Фолькер предположил, что консьержка или кто-то из жильцов выдал евреев, — может быть, даже пометил квартиры, потому что позже, обходя здание, он увидел, что нападавшие какие-то двери выломали, а какие-то не тронули. Дверь Адлеров осталась цела, поскольку была приоткрыта.
С полдюжины мужчин и юнцов, опьяненных насилием, — у всех на руках повязки со свастикой, — показались на лестничной площадке, выкрикивая оскорбления и нацистские лозунги. Один, вроде бы предводитель, столкнулся с полковником лицом к лицу. Он держал в руках железную трубу и уже занес ее для удара, но мгновенно остолбенел при виде монументального старца в мундире прошедших времен: ветеран властно взирал на него сверху вниз.
— Ты еврей? — пролаял налетчик.
— Нет, — отвечал Фолькер, не повышая голоса.
Тут раздались досадливые крики: налетчики не обнаружили никого в квартире Адлеров. Двое мужчин немного постарше поднялись по лестнице к Фолькеру.
— Сколько евреев живет в доме? — спросил один.
— Не могу сказать.
— Посторонитесь, мы обыщем вашу квартиру!
— По какому праву? — вопросил полковник, и рука его потянулась к кобуре с люгером.
Мужчины обменялись короткими фразами и решили, что не стоит возиться со стариком. Он такой же ариец, как и они, к тому же вооружен. Они спустились в квартиру Адлеров и стали помогать другим крушить все, что находили внутри, от посуды до мебели, и выкидывать в окна все, что попадалось под руку. Несколько человек втащили на балкон фортепиано, собираясь сбросить вниз и его, но инструмент оказался тяжелее, чем они думали, и его предпочли выпотрошить.
Вандалы орудовали несколько минут, а эффект получился, как от взрыва гранаты. Перед уходом они опорожнили на постели мусорное ведро, изрезали обивку мебели, стащили серебро, которое Ракель бережно хранила, облили бензином ковер и подожгли. Всем скопом сбежали по лестнице и смешались с разъяренной толпой на улице.
Фолькер выждал, а потом, убедившись, что налетчики действительно ушли, спустился в разграбленную квартиру Адлеров. Увидев, что горит только ковер, полковник с характерным для него несокрушимым спокойствием ловко ухватил его за края и сложил вдвое, чтобы сбить пламя. Потом принес из спальни одеяла, набросал их на ковер и потоптался, чтобы окончательно потушить огонь. Поднял опрокинутое кресло и сел, переводя дыхание.
— Я уже не тот, что прежде, — пробормотал Фолькер, сожалея о прошедших годах.
Он так и сидел, дожидаясь, пока утихнет барабан, стучащий в груди, и размышляя о том, насколько все серьезно. Все оказалось гораздо хуже, чем он себе представлял, когда слушал по радио призывы к манифестациям против еврейского заговора. Немецкий министр пропаганды, выступая от имени Гитлера, объявил, что манифестации в ответ на убийство дипломата в Париже партия не организует, но дозволяет. Негодование немецкого и австрийского народа вполне оправданно, сказал он. То было приглашение к грабежу, погрому, бойне. Полковник пришел к выводу, что обезумевшая толпа, на первый взгляд казавшаяся ордой, не имевшей никакой цели, кроме насилия, действовала не повинуясь порыву, а была подготовлена: жертвы назначены, безнаказанность обеспечена. Налетчики наверняка получили инструкции: громить только евреев, других не трогать: этим объясняется тот факт, что в доме разграбили только квартиры Адлеров, Эпштейнов и Розенбергов. Фолькера не обманула штатская одежда негодяев. Он знал, что орудовали группы молодых нацистов, тех самых, кто в последние годы сделал насилие политической стратегией, а после аннексии положил террор в основу управления государством.
Он все еще собирался с силами, когда в коридоре раздались шаги, и через мгновение перед ним предстал какой-то одержимый с нацистским штандартом в руках, которым он потрясал, как копьем.
— Адлер! Адлер! — хрипло орал он.
Полковник не без труда поднялся и вынул люгер из кобуры.
— Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Это квартира Адлеров! — набросился на него незнакомец.
Фолькер не ответил. И не сдвинулся с места, когда тот помахал древком штандарта у него перед носом.
— Где он? Где Адлер? — твердил здоровяк.
— Можно узнать, кто его ищет? — осведомился Фолькер и взмахом ладони отстранил древко, словно прогоняя муху.
Только тогда Петер Штайнер обратил внимание на возраст полковника и на мундир Великой войны: до него дошло, что перед ним не нацистский офицер. В свою очередь, Фолькер увидел, как вошедший выронил штандарт и в отчаянии стиснул голову руками.
— Я ищу друга, моего друга Рудольфа Адлера. Вы его видели? — спросил Штайнер голосом, охрипшим от криков.
— Когда в квартиру вломились, его здесь не было. Полагаю, что в кабинете его не было тоже, — отвечал Фолькер.
— А Ракель? А Самуил? Вы знаете, что с его семьей?
— Они в безопасности. Если найдете доктора Адлера, сообщите мне. Я живу в двадцатой квартире, на третьем этаже. Полковник в отставке Теобальд Фолькер.
— Петер Штайнер. Если Адлер придет, скажите, что я его ищу, пусть ждет меня здесь. Я вернусь. Запомните мое имя: Петер Штайнер.
СКРИПАЧ
Вена, ноябрь-декабрь 1938 года
Рудольфу Адлеру больше не суждено было вернуться к родному очагу и снова увидеть Ракель и Самуила. Ночью с девятого на десятое ноября 1938 года, Хрустальной ночью, так и не стемнело. От костров и пожаров небеса оставались светлыми до самой зари.
Петер Штайнер достал себе повязку со свастикой и, вооружившись штандартом, уже изодранным, грязным от пыли и пепла, исходил весь квартал вдоль и поперек, мысленно отмечая масштаб разрушений и количество жертв. Наконец часа в три ночи он узнал, что некоторые экипажи «скорой помощи» подбирали тяжелораненых. Тогда Штайнер направился в больницу, где представился главой добровольческого отряда, чтобы ему позволили пройти. Жертвы нападений лежали в коридорах, а врачи и медсестры работали не покладая рук, ведь они не получали приказа не принимать или выдавать евреев. Среди общей неразберихи санитар объяснил ему, что вновь поступившие еще не зарегистрированы официально, и посоветовал посмотреть в процедурных палатах и в коридорах, где прямо на полу, вдоль стен, лежали носилки.
Штайнер, совершенно вымотанный, обошел все палаты одну за другой. Он уже уходил, почти признав свое поражение, когда услышал голос, окликавший его по имени. Штайнер прошел мимо носилок, не узнав друга. Рудольф Адлер лежал на спине, с окровавленной повязкой на лбу; лицо его так распухло, что под синяками, порезами и ссадинами сделалось неразличимым. Нескольких зубов не хватало, Адлер едва мог говорить. Чтобы разобрать, что шепчет раненый, Штайнеру пришлось приникнуть ухом к самым его губам.
— Ракель...
— Ш-ш-ш, Руди, не говори ничего. С твоей семьей все в порядке. Отдыхай, ты в больнице, в безопасности, — отвечал Штайнер. От усталости и волнения на глазах у него выступили слезы.
Следующие несколько часов он провел рядом с другом, усевшись на полу в изножье носилок, клюя носом и слушая, как тот стонет и мечется в бреду. Пару раз к ним подходила медсестра, удостовериться, что пациент еще дышит, но не пыталась установить его личность и не интересовалась, что здесь делает, сидя на полу, посторонний человек. Бросив взгляд на повязку со свастикой, девушка не задавала вопросов. С восходом солнца Петер Штайнер не без труда поднялся на ноги: ломило все тело и пить хотелось, как верблюду в пустыне.
— Пойду сообщу Ракели, что я тебя нашел. Потом вернусь и останусь с тобой, пока тебя не выпишут, — сказал он другу, но не получил никакого ответа.