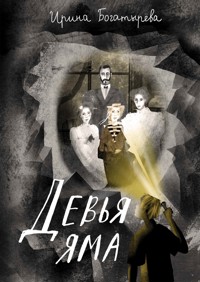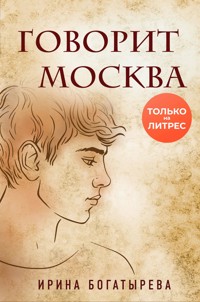Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
«Золотое время» Великая река Сэгэде течет с неба на землю через три мира: мир богов, похожий на нашу современность, мир людей, напоминающий эпоху племен железного века, и мир мертвых Буни. Несет Сэгэде не воду, а время, и входить в реку могут только шаманы — камы. Однажды молодой камсе приходится отправиться на поиски своей исчезнувшей предшественницы по всем трем мирам. Она понимает, что происходящее в одном мире влияет на жизнь в другом. Самолет из мира богов попадает в мир людей, а мамонты, найденные на кладбище богов, тесно связаны с оленями-хели, пропавшими из мира мертвых. А река Сэгэде тем временем мелеет, грядет конец времен, после которого начнется новый виток истории.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ирина Богатырёва Золотое время
Серия «Другая реальность»
© Богатырёва И.С.
© ООО «Издательство АСТ»
Пролог
Беги!
Бегибегибегибегибеги!
Мама!
Ноги скользят в жирной грязи на дороге. Кроссовки разъезжаются, того и гляди – растянешься в луже. Бежать, бежать изо всех сил. Поворот, еще поворот. Как на зло, на улице никого. Попрятались все, сидят по домам в этот ветреный вечер. Кричи не кричи – не поможет. Даже окна в домах уже не светятся. Одни собаки брешут из-за заборов. Но что они могут, собаки, оттуда!
Мама, этого не должно быть! Я же рядом с тобой всегда была в безопасности. Даже из-за реки мама поможет, утешит. Ты же мне пела, я слышала, даже сегодня пела! И что теперь? Почему это все происходит?!
Качи качи. Беги беги.
В голове мешается. Просто беги! Горло режет, дышать нечем. Но беги.
Все кажется нереальным.
Ветер вот-вот собьет с ног. Вылетает с силой из-за поворотов. Она слышит свое дыхание, шумное, тяжелое. И еще шаги по грязи, свои – и его, этого мерзкого, гадкого, который выскочил из-за могилы. За руку успел схватить, к себе потянул. Что-то похабное шептал. Думал, наверное, что она испугается настолько, что сразу обмякнет. Не ожидал, что выкрутится. Что даст деру.
Но она не дастся. Нет, нет, просто так не дастся!
Беги, беги. Как же далеко еще дом! Почему он так далеко! Ничего, она знает дорогу. Гораздо лучше их. Почему – их, он же один. Или нет? Вон там, в проулке, снова мелькает тень – неужели другой? Второй? Их двое. Всегда было двое, она видела… Или трое? Тот, рыжий, который с ними тогда сидел. Цоя пел. Он тоже с ними? Нет, не может быть. Нет, нет.
Нет!
Кто-то выскакивает из-за поворота так резко, что она не успевает затормозить и влетает в грудь, в раскрытые руки. Куда ты, рыбка, стой! Побегать решила, едрить-колотить? Не рыпайся, рыба! Будь умницей… Она крутится в его руках, он пахнет водкой, пахнет ужасом. Ржет придавленно в самое ухо. Это другой, не тот, который – из-за могилы. Лиц не разобрать, но точно – другой: тот был выше, этот толще, крепче. И он не бегал по деревне сейчас. Ждал ее тут, знал, где ждать. Совсем не запыхался.
Это специально, понимает она вдруг. Они все продумали. Гнали ее, как оленя. Просто гнали – оттуда, с горы. Знали, куда она побежит. Первый гнал, а этот здесь сидел. Где? Быстро оглядывается – какой-то тупик. Успел утащить ее от дороги. Сволочь!
Вдруг узнает: это за магазином. Маминым магазином! Вон склад, подвал, глухой дощатый забор и запах, гадкий, тухлый – сгнившего лука, раскисшей картошки, он в стены въелся, она с детства помнит.
Нет, только не это! Нет, так не может быть!
Мама!
Кажется, она наконец-то кричит. Голос прорезается в животе, ниже диафрагмы, но она не слышит его – только чувствует, как сотрясается тело. И тут же получает по губам, по лицу. А мерзкая шершавая ладонь ложится на рот – зажимает плотно, дышать нечем. А ну не вой, по башке не получала? Сзади – топот, дыхание. Где ты застрял, едрить-колотить! Мешок давай! Ее толкают, волокут, пихают. Ей уже не больно. Из горла рвется вой, в глазах слезы. Обмякла, сил нет, чтобы бороться. Ее тянут вниз, под ногами ступеньки. Совсем темно – в глазах или вокруг? Запах тухлятины душит.
Мама! Мамочка!
Снова чьи-то шаги.
Эй! Вы чего! Вы… эта… чего это?!! Голос испуганный, слабый, почти на визге. Она дергается было к нему, но быстро обмякает – такой не спасет. Да, это он – приходил на точку тогда, Цоя пел. Перед глазами встает его лицо, как смотрел на нее, как следил за каждым движением. Нет, не спасет. Он слабый, безвольный. Он и сейчас боится. А ну заткнись, сукино вымя! Будешь выеживаться, один за нее сядешь, понял? Дышат рядом, под боком, пыхтят, возятся. Тебя с ней каждый дурак тут видел. Проблем на жопу надо? Будут тебе проблемы. Бьют – не ее, другого. Что-то охает, тяжело шоркает по полу. Будешь еще тявкать? Вот и помалкивай. Серый, да где мешок-то? Едрить-колотить…
И вдруг становится совершенно темно – она только в этот момент понимает, что до этого свет был, какой-то тусклый, неверный, но был, – разом тухнет, а она чувствует: дергают за руку с огромной силой, тянут и вырывают наружу. Шершавые, гадкие руки соскальзывают с ее плеч, будто уходят под воду, и она выкручивает голову, выкручивает тело, а кто-то другой, сильный и властный, кто-то бесстрашный выталкивает ее на волю. Сильный толчок в спину, и она летит по ступенькам наверх, теряя равновесие, выпрастывает вперед руки, вышибает дверь, оскальзывается и падает лицом в грязь. Дверь за спиной хлопает – сработала пружина, там всегда была эта пружина, чтобы не закрывать за собой дверь подсобки, если руки заняты. Но она уже забыла о двери, она по-собачьи отползает – как может дальше, дальше. Туда, за угол. Прижимается к стене, переводит дух. Не глядя, знает – над головой выбита штукатурка и дыра в стене от выстрела. Пальнули дважды, один раз в стену, второй – в окно, за которым – мама…
Сил больше нет, она скулит и воет, слезы душат, но она боится кричать. Страх схватил мышцы до боли, до судорог. Особенно ноги, живот. Особенно между ног. И горло. Долгие годы еще не сможет она плакать в голос, будет давиться слезами, захлебываться и икать – как теперь.
Размазывая по лицу грязь, поднимается с земли. Беги. Только беги. Кажется, что бежит, но на деле – бредет, качаясь, держась за стену, на деревянных ногах. Домой, недалеко уже дом. Совсем недалеко. Дойти бы только. Она еще не верит, что спаслась. Что никто не выскочит из подвала. Не схватит, не утащит назад, в эту черноту и тухлый запах. Почему они остались? Почему не бегут за ней, не хватают снова за руки? Она бы не сопротивлялась. Она уже почти смирилась. Она как будто уже потеряла себя, и в темноте стала видеть их – кто на той стороне, за рекой, кто проступает в тенях, в сумерках.
Мама, я знала. Я всегда знала. Что ты. Спасешь. Меня.
Ее рвет на пороге собственного дома.
Часть I Пырра-Волла
Волла
Земля была еще сырая. Она была мягкая, как глина, и бесконечная, как Небо. Она не имела ни границ, ни формы. Она лежала у Неба в объятьях, и оно качало ее, как младенца. Моря еще не омывали ее. Дожди еще не утешали ее. Земля спала и видела время, как человек видит во сне собственный путь. Но ни человека, ни пути еще не было. Была она, Земля, и был Вонг – идешь в лес, помяни его имя.
А потом пришел Ы-нгу невыносимый и стал Землю мять. Он мял ее, как невесту, терзал, как волк, и сжимал, как старуха тесто. Он отделил Землю от Неба, и оно зарыдало первым дождем. Небо было безутешно, дождь шел и шел, пока не залил всю пустоту. Так стало море. А Ы-нгу все мял и мял, наводя границы, придавая форму. Он вылепил горы и равнины. Он вырвал свои волосы и воткнул их в Землю, и они проросли лесами. Он плюнул свои зубы и кинул их на Землю, и они поднялись скалами. Он вырвал себе ногти и бросил на Землю, и они стали блестящими озерами. Он проложил русла и заполнил их реками, он поднял холмы и разгладил долины. Он создал все, что можно увидеть на Земле, он один, Ы-пу неустанный. А потом лег и умер. Из его мяса появились животные, из костей – птицы и рыбы, его кровь стала золотом и камнями, его глаза стали туманом, а из нечистот появился гнус. Череп раскололся, мысли вылетели и стали анатами и с тех пор летают повсюду. Все это сделал он, первый кам Ы-олон, но нельзя забыть Вонга, который был изначально и будет всегда, если ты идешь в горы, помяни его имя. Это он послал первого кама, это он пустил на небо оленей Та́гу и Ба́гу, Огненного и Ледяного, и они стали Солнцем и Луною. Он рассыпал угли из своего очага, и они стали звездами, но главное, он помнит каждого из нас по имени, а камов – по трем, хотя сам имеет только одно на все времена – вот это: Вонг, идешь в лес, помяни его.
Так сделалось, значит. Сделалось и стало. А потом появился человек, потому что Вонг помыслил о нем. А потом уж среди людей и я появилась. Ну, чего зеваешь? Я говорить буду, а ты слушай. Далеко мне еще до конца.
Я давно родилась, а бабка моя еще раньше. Но бабка той бабки еще раньше того, и так до бесконечности. Было нас много, что лес и трава, но все похожи: все Пырра. Пы́рра-Во́лла звали меня в начале. Пырра-Ано́н звали потом. Пырра-То́йя теперь зовут. Пырра – так оленям кричат, погоняя. А ты просто Волла пока, потому что еще ничего не знаешь.
Слушай же. Я уже начала.
Я не всегда была Пырра. Я родилась у Камлаков, мать моя была из Камлаков. Я и ходить начала у Камлаков, и говорить они меня научили, пока Ка́мса не сказала, что анаты ошиблись, занесли меня в чужой род, а на самом деле я Пырра. У них, у Пырра, огненные анаты третий год девочек забирали. А все потому, что перепутали – не туда принесли меня, потом искали, значит, а я все это время у Камлаков росла.
Не думаю, что Камлаки обрадовались, когда Ка́мса им сказала, что я Пырра. Но правда била в глаза: я и говорила не так, и ходила не так, да и волосы у меня рыжие. Рыжие и жесткие, косы тугие. И я бесстрашной была, как будто во мне сто жизней, а Камлаки все осторожные, как из сухой глины, и болеют часто.
Вот Варна – он Камлак. Глянешь, сразу видно: волосы черные, кожа тонкая, ходит как под водой и говорит медленно, потому что думает много – ну точно Камлак.
Не хотели Камлаки меня отдавать, но Камса мором пригрозила: отдали. И все равно бегали первое время к Пырра, за домом, как телка, меня кормили. Женщины у Камлаков хорошо готовят, это все знают. А я что? Кормят – ешь, значит. Так я у двух мисок сидела. Быстро росла. Мало думала. Пырра Пыррой.
Другое дело – Варна. Он среди Камлаков, как среди сосен – дуб. Много думал, рано все понял. Стал вещи делать, каких никто до него не знал. Стал на людей смотреть и думать, каких вещей им не хватает, чтобы счастливыми быть. На женщин смотрел – скребок придумал: большой скребок с зубьями, чтобы много ягод за раз из травы брать. На охотников смотрел – снегоступы сделал, чтобы зимой по снегу легче бегать. На детей смотрел – маску из бересты сделал, на лице – бахрома, чтоб комары не кусали. Люди брали вещи, благодарили. Нужные все вещи были, значит.
В шесть лет пошел Варна к кузнецу: «Учи», – сказал. Кузнец изумился: кто-то пришел из Камлаков, ростом с олененка, олененок и сам. Что с ним делать? Выгнал, конечно. Но он не знал Варны. Варна приходил опять и опять. Сколько раз его кузнец выгонял, не знаю, но все-таки согласился. Стал Варна учиться у кузнеца. Стал ему помогать.
А я что? Я все по лесу пропадала. Как женщины от порога отпускать стали, так я за кем-нибудь увяжусь, кто идет в лес. Потом одна начала ходить. Мне бубенцы на пояс вязали. Я бубенцы отвяжу, на березу за домом повешу – и в лес. Ветер березу качает, женщины слышат – бубенчик звенит, тут я, значит, рядом. А я далеко, сама не знаю где. К вечеру прибегу, бубенцы отвяжу, в дом вернусь. Они и не узнáют. Потом работу стали мне задавать: нитку сучить, шкуру мездрить. Я сижу, сделаю – не сделаю, все брошу – и в лес. Сил нет с женщинами сидеть. Вечером приду, все доделаю, и свое, и чужое, не разбирая. Утром все встали, кто сделал? – Глупая Волла. И бить не за что. Махнули на меня. А как я рассказывать стала, где ягода слаще, где какой олень ходит и какая трава растет, так про меня совсем забыли: ходит в лес, и пусть. Лишь бы возвращалась. Надо ей так, значит.
Так я и росла, все равно что широколист дурманный.
Один раз я так вот в лес ушла. Долго бродила, уже себя забывать стала. Хожу, хожу, чую – дурно мне. Что такое? И плохо, и мутно, и под животом все тянет и ноет, гляди, порвется вот-вот. И порвалось: кровь хлынула, я как шла, так и упала.
Осень была. Лиственницы осыпались уже. Желтая земля и сырая. Лежу я, дышу в землю и думаю: умираю. Но полежала, легче стало, я поползла. До ручья доползла, руки в воду опустила. Голову кружит. Воды зачерпнула, лицо омыла, гляжу – а в ручье старуха. Не старуха даже – старухина спина, и она от меня уезжает. На двух оленях, один под верхом, другой в поводу сзади трусит. Бодро едет, бодро правит. Я подумать еще успела: вот старуха, а как бодро правит, долго жить будет, думаю, – и она обернулась и взглянула на меня сквозь воду, и я от испуга от ручья отшатнулась: была старуха слепая. Совсем слепая, оба глаза бельмами подернуты, как туманом. А все равно бодро правила, быстро ехала.
Тоже Пырра, значит, подумала я тогда.
И до нынешних времен больше не вспоминала о ней.
У ручья отлежалась и к дому пошла. Медленно шла, себя слушала. Обернуться боюсь – вдруг за мной кровь по мху тянется. Хорошо, недалеко в тот день ушла, а то волков боялась бы.
Тайга прозрачная, небо высокое. Зябко уже было, но не холодно. Тихо, ни ветерка. Зверь ветку не шелохнет. Вдруг слышу – лес ломается, ветки трещат. На меня Камса выезжает. Что ты здесь, спрашивает. А я и не знаю, что сказать. Я ее испугалась. Сколько раз среди людей видела, не боялась, но в лесу – никогда, а в лесу она грозной, страшной была. Показалось мне вдруг, что то, что со мной приключилось, – дурно. Что это грязно и плохо, и если я умру сейчас, это правильно будет, нельзя нести к людям такую грязь.
Но Камса сама догадалась. Хорей[1] протянула, держись, сказала, и в свой дом меня увела. Три дня я у нее сидела, на свет не показывалась. А женщинам Пырра Камса сказала, что я девушкой стала.
Когда все прошло, я и думать об этом забыла, снова в лес ходить начала. Думала, жизнь моя измениться не может никак. Ну, одежда другая. Ну, ленты красные нацепили. Красные ленты в косе и на поясе. Мне эти ленты сильно в лесу мешали. Мало что зацепиться норовили за все, так и видно их издали. А в лесу так нельзя. В лесу как лес быть надо, самой быть как дерево – незаметной. Я ленты эти сниму, под пенек схороню, а назад пойду – достану. Хорошие ленты были, нельзя потерять.
Один раз возвращаюсь, вижу – у привязи седловые олени. Не у дома детей, где я тогда жила, а у родительского дома. Много оленей у кормушки стоит, и среди них самый крупный – под красным седлом и рога красным крашены: княжий олень, значит. А за домом в клети – едовые олени. С десяток, все жирные, аж лоснятся. Гости приехали к Пырра, значит, даже князь, глава рода, тут. А во мне вдруг как будто заговорил кто: беги, Волла! Беги! Не ходи в дом, не надо тебе туда! Но я понять не могу, что это за голос, чего мне бояться? Гости и гости, мало ли кто к Пырра ездит, Пырра – богатый род, к ним ездить любят. Но страх не отпускал. Я как у дома застыла, так и стою ни жива ни мертва, не знаю, куда теперь ступить.
Тут из дверей ребенок выскочил, младший сын Пырра. Оленей бежал кормить. Увидел меня, закричал:
– Что стоишь, Волла? В дом иди, ждут тебя там!
– Меня? – Сердце сжалось.
– Тебя, тебя! Сваты приехали!
И засмеялся так противно, что из меня вся жизнь ушла. Даже голос в голове стих.
Пошла я в дом. Вхожу – там душно, людно. Встать некуда. Все Пырра в сборе. На почетном месте сидят гости из рода Тойгон. Дым стоит, шум стоит. Мясом пахнет, оленя варят, значит. Женщины по мискам юшку черпают, с костей большим ножом мякоть скребут. Я у двери застыла, не знаю, как и дышать.
Долго ли так стояла. Только заметил меня князь Пырра.
– А вот и она! – прогудел весело. – Иди сюда, дочка! Радость к тебе пришла, честь ты нам принесла, – смотри, какие гости приехали!
А я на гостей и взглянуть боюсь, у меня перед глазами как пятно белое. Стою, слово вымолвить не могу. Что со мной, сама не знаю. Я всегда бойкой была, веселой была, всегда бегала, никогда не стояла. А тут будто холодный бурдюк привязали к животу, ноги мне будто связали, ни шагу ступить, ни повернуться. Мне женщины уже шикать стали, за рукава тянут, а я все стою, ничего сделать не могу. Тогда взяли меня женщины, по рукам, как бревно, передали. В центр выдвинули и поставили у очага прямо перед гостями, как куклу.
– Вот какая у нас красавица Волла! – хвалит тем временем князь. – Сами смотрите, не врем: кожа как шелк, глаза как черника, косы тугие! В дому все делает. Со скотом все делает. И моет, и готовит. Сильная, как оленуха! И веселая, и духом легкая. Славная жена будет наша Волла!
Он хвалит, а у меня лицо пылает. Будто иглы втыкаются на каждом слове. И не знаю, как посмотреть, что сказать. А мне сзади женщины опять шепчут. Смотрю – в руки мне миску всунули, поварешку всунули. Я на руки свои гляжу как на чужие, что делать с ними, никак не пойму.
Князь ждал, ждал, пока я сама догадаюсь, наконец говорит:
– Дочка, угости гостя, будь доброй хозяйкой. Накорми князя.
Меня сзади уже в спину толкают. Я к котлу шагнула, в пар наклонилась, чуть в котел не нырнула. Налила похлебку с мясом, погуще да пожирнее. Подала князю Пырра. Глаз не поднимаю, в пол смотрю. А он не берет. Я снова ему в руки миску сую. Он отталкивает. Я опять, чуть горячее не пролила ему на руки. Возьми же, думаю, раз так тебе надо. А я уйду. В лес уйду и не вернусь больше. Во мне все уже ныло.
– Очень скромная у нас Волла, – сказал тогда князь Пырра. – Она чести еще не поняла. Так ведь, Волла? Гостям, гостям подай. Мне не надо.
И засмеялся. В шутку все обернуть пытался, значит. Он добрый был, князь Пырра. Меня почти как дочку любил. Я его не виню ни в чем.
Все засмеялись. Чьи-то руки толкнули меня, развернули. Я перед гостями опять оказалась и впервые решилась глаза поднять.
Напротив меня мужчины Тойгонов сидели, а перед всеми мальчик. Разодетый, как на праздник, все новое на нем, чистое. Сам умытый, румяный. Матушка за ним хорошо ходит, значит. Сидит гордо, руки в боки. На меня смотрит спесиво. А лет ему девять от силы. Маленький он совсем, оказывается.
– Это ты, что ли, князь? – спросила я. Громко спросила.
Весь страх от меня отступил – что может мне сделать Тойгончонок? А вышло грубо. Сзади опять зашикали, даже Пырра-князь не сумел все в шутку обернуть. Гости нахмурились. Один из них, большой разодетый мужчина, что ближе других к мальчику сидел, громко сказал:
– Все, что ты говорил, князь, правда, но одно лишь неправда – скромности не вижу я. Дурно воспитана она, вот что я вижу. Плохое воспитание для жены – как драное платье.
И все притихли. Я опять обмерла, руки задрожали. Наклонилась, резко миску мальчику-князю всучила, хотела сама за женщин спрятаться, но мне не дали. Впереди всех усадили, у очага, чтобы огонь меня освещал, чтобы ближе к гостям была.
Люди вокруг опять заговорили. Стали есть, горячая еда их к жизни вернула. Только мне никто не налил похлебки, а сама я не решилась уже шевелиться. Сидела, на руки свои смотрела. Руки мои перебирали пояс, в поясе красная лента мелькала. Всё ты, думала я, всё из-за тебя. Вырвать бы и закопать. В лесу закопать, след потерять. Так я думала, очень злая была, значит.
А люди обо мне уже как будто забыли. И о мальчике-князе забыли тоже. Он голоса не подавал, за него большой мужчина говорил, его дядька. Пока в силу не войдет малолетний князь, этот дядька родом правил. Тойгоны – волчий род, самые сильные, самые богатые, многолюдные и многооленные. Вот почему князь Пырра так старался его задобрить: отдать дочь Тойгону – это честь, а отдать дочь за князя Тойгона – честь честей. И мне, сироте, это вообще неслыханное везение, невозможное, все равно что в лес пойти и медовую найти колоду, уже без пчел, но с медом, прямо на земле, никуда и лазить не надо. Тут бы забыть обо всем и хватать скорее, но я не могла радоваться. Уже знала я, не головой, но сердцем знала: не может просто так лежать колода, это анаты ее подложили, а как возьмешь – догонят и втридорога снимут с тебя.
Так и в тот раз было. Как отошел княжий дядька, как наелся, напился и добрее стал, принялся он рассказывать, как обставит жизнь молодых – мою с этим мальчиком, значит. У него дом большой – княжий дом, в нем и станут они жить, говорил он, но не сразу, а как вырастет юный князь и в силу войдет. Пока же и он, и его мать живут у самого дядьки, вместе с его женой, княжьей теткой. Вот и молодуха будет жить там, места всем хватит, а пока женщины ее научат, как дом вести, он научит, как хорошей женой быть. Пока не вырос юный князь Тойгонов, не вошел в силу.
Так он говорил, довольный собой, довольный едой и праздником, а я все больше каменела. Ясно видела, чего хочет волчий дядька: себе девочку хочет. Две жены у него есть, третью хочет, маленькую, свежую. Когда еще повзрослеет мальчик-князь, да и суждено ли ему повзрослеть, малолетке. А дядька его мужчина большой и сильный, он для себя живет и для себя все затеял. Пойдут дети, так они детьми князя считаться станут – маленькими князьями, раз в браке с ним пришли в род. И неважно, кто крыл оленуху.
Я была уже как мертвое дерево и одно думала: где же увидел меня дядька Тойгонов? Где смог разглядеть и запомнить? Меня, из леса не выходившую, дома не бывавшую, с девушками вечерами не сидевшую, еще не девушку даже, а так – не то ребенка, не то аната из леса? Всякий раз, как он смотрел на меня, я вздрагивала всем телом, словно в лицо кипяток плескали. Нет, не ошибся княжий дядька, именно меня он хотел, за мной приехал, и Пырра рады были отдать меня, за десять оленей продать меня в его потные руки, в это жадное волчье брюхо.
Мое сердце и сейчас разрывается от гнева, но тогда гнев мой был еще холодный, слабый, больше страха в нем было, больше жалости к себе. Белые пятна плыли перед глазами. Страх сковал тело так, что я уже ног не чуяла, рук не чуяла. Голоса в ушах в гул сливались. Защитить некому меня было, отбить у волка некому. Видела я, как загонял он оленя в глубокий снег, на поляну выгнал из леса, чтобы ни шагу не шагнуть, и вот бросится и начнет рвать пока живого.
Олень обернулся и посмотрел на меня сквозь страх. Встретились мы глазами. И я закричала не своим голосом – голосом Вонга завопила я, идешь в лес, не забудь его имя.
В глазах у меня почернело. Со мной случился припадок, меня подняли на руки и вынесли прочь из дома.
Сколько пролежала, я не знаю. Глаза открыла – ночь. Ну, ночь и ночь, мало ли ночей в жизни. Хотела на другой бок перевернуться, но чую – на меня глядит кто-то.
Тут и вспомнила все.
– Варна! – я привстала. Это был он. – Как хорошо, что ты пришел! Ты мне поможешь, Варна?
– Спи. Ты сама себе уже помогла.
– Нет, послушай: мне бежать надо! Злые Тойгоны возьмут меня, а я не хочу. Нельзя человека против воли брать, как глупую оленуху!
– Ляг ты. Успокойся. Нет уже никаких Тойгонов. Уехали. Лежи.
Он слегка толкнул меня в плечо. Я легла, но поверить не могла:
– Уехали? Почему?
– А кому больная нужна. – Варна тихонько засмеялся.
Но я все не могла успокоиться.
– Нет, так ли? Скажи!
– Всё, Волла, спи. Камса говорит, тебе спать надо, а вставать пока рано. Правда, все правда: ты их обманула, хитрая ты, оказывается.
Тихое, еще несмелое счастье стало разливаться в груди. А следом за ним – слабость, и я стала уплывать в темноту.
– А ты? – бормотала я и искала руку Варны. – Ты не уйдешь? Ты будешь здесь?
– Не уйду. Спи, Волла.
– Варна, Варна, плохо мне без тебя, одиноко мне без тебя, никого у меня нет без тебя, Варна… – говорила еще или думала, что говорю, но уже уплывала, и теплая, пушистая тьма окружала меня. Из нее смотрели добрые глаза не то человека, не то оленя. Они любили меня, они жалели меня. И мне было хорошо.
Пырра очень в тот раз злы были на меня. Тойгоны уехали и оленей с собой забрали, конечно. Еще и хотели лишнего прихватить, мол, обмануть их Пырра пытались, больную девку подсунуть. С Тойгонами никто не захочет связываться, но тут князь Пырра заупрямился, что не даст оленя, девка здоровая, это Тойгоны своими дурными глазами ее сглазили. Тойгоны отступились. Знали, что не правы, значит.
Пырра злились, но сделать ничего не могли. Я долго пролежала. Ко мне Камса приходила, а Варна со мной все это время был. Только когда вставать начала, тогда ушел обратно к Камлакам.
Уже снег лежал. Уже Пырра с оленями откочевали. А я впервые вышла из дома. Порог перешагнула да так и застыла. Яркое, тугое солнце ослепило меня, белая пелена спустилась на глаза, и я ничего не могла видеть, одни звуки были: вон вдали собака лает, дети кричат, женщина прошла – легкие шаги, скорые, рядом Варна стоит, дышит. А вон гул какой-то в небе, странный гул, неприятный, громкий. Будто что-то большое и тяжелое, страшное по небу летит. Спрятаться захотелось, в снег упасть от этого гула. Я испугалась, брата за руку схватила:
– Что это, Варна?
– Где?
– В небе!
– Нет ничего.
– Но гул!
– Какой гул, Волла? Ничего я не слышу.
Тут солнце от меня отступилось, глаза к свету привыкли, и я увидела – снег белый, небо голубое. Дети играют. Рыжая собака лает на дороге. Торопливая женщина к соседке спешит. И в небе пусто. Только облака. И гула никакого.
Это в первый раз тогда со мной было, что глаза подвели, а уши – нет.
В тот день и ушел к Камлакам Варна.
Мамонты
Гул достигает максимума и резко обрывается, как всегда, когда самолет переходит границу скорости. Сразу становится тихо, как будто все в природе придавленно оглядывается, пропала ли опасность, повезло ли на этот раз.
Повезло.
Хотя самолеты летают здесь часто, пора бы природе и привыкнуть – город далеко, а вот летно-испытательный комплекс от авиазавода поближе, и маршруты самолетов проходят здесь – глушь, тайга, случись чего, не на город же им пикировать. Ильдар про это знает, недаром пытался поступать в авиационный. Два раза. И оба пролетел, как этот самый самолет.
Поднимает голову, всматривается в небо. Но след уже не виден. Или слишком темно – ранние октябрьские сумерки, глаза будто слепнут. Самое неприятное время. Передергивает плечами – в легкой куртёнке зябко. То ли еще будет. Не думал ведь, что застрянет тут до холодов, ничего с собой не взял. А ведь конца-края их сидению не видно.
Ладно, шут с ним. Прорвемся.
Оборачивается на могилу. Памятник на холме, открытое, голое место, даже оградки нет. Не ушла, там еще. Сидит спокойно, как за чаепитием. За чаепитием и есть: перед памятником чашечка, она как приходит, наливает из термоса чай. Конфеты кладет. Сидит, сама пьет из крышки термоса. Цветы там всегда свежие, свечка в банке. Уютно даже. Подумал: нравится ли ему такое? Самому бы хотелось так? В смысле, чтобы к нему ходили, когда под памятником будет лежать.
Тьфу, вот о чем точно думать не надо!
Рябина, под которой он стоит, зашелестела – из-под холма, с реки, тянет ветром, продирает под тонкой кожанкой. Ильдар снова ежится. Смотрит на часы: без пятнадцати пять. Полчаса прошло, скоро домой пойдет. Он никогда ее не торопит. Глупо торопить: она как ходила без него, так и с ним ходит, ей вообще по барабану, есть он тут или нет, будет ждать или нет. Это ему нужно, а не ей. Он себя не обманывает. Иногда хочется, чтобы было не так, пытается подмечать: вдруг хоть потеплее посмотрит? Нет, он для нее ничто, пустое место. Хочет ходить сюда – пусть ходит. Нет – она не расстроится. Пока идут с кладбища до ее дома, всегда молчат. Он напряженно пытается придумать тему для разговора, а ей, кажется, и не нужно. Ей вообще ничего не нужно. Для чего же ему тогда она?
Дурак ты, Рыжий, сказал недавно Серый. Она же ребенок еще. Она на тебя как на парня и не смотрит. А ты к ней привязался как банный лист. Вот он сказал – и Ильдару самому стало понятно, чего это он к ней привязался. И жарко стало от этого понимания. Он не думал о таком – ну, ходит за ней и ходит, нравится смотреть на нее. А зачем и для чего – не думал. Серый сказал – начал понимать. И что с этим теперь делать? Тринадцать лет – правда же ребенок. Хотя сам себя в тринадцать Ильдар уже ребенком не считал. Ну так то он. А она – девочка.
Дурак ты рыжий, повторяет он про себя и начинает прыгать на месте. Руки окоченели, ладони раскраснелись и опухли. Сует их под мышки, нахохливается, как ворона. Закрывает глаза, легко вызывает во внутренней темноте ее образ – черные волосы, тонкие брови, тонкие губы, узкие, чуть раскосые глаза, вообще все черты узкие, как будто вырезаны самым тонким, острым резцом по темному, смуглому дереву. Взгляд внимательный и надменный. Или так кажется – у азиатов всегда непонятный взгляд. А она азиатка? Не ясно, Ильдар до сих пор не определил. Так посмотришь – вроде да. А иначе – как будто и нет. Помесь, серединка на половинку: папа русский, видел он этого папу.
Под ложечкой потянуло. Ильдар прыгает и тихонько скулит. Но не уйти же без нее. И правда, таскается за ней, как собака. Местные уже косятся. Хотя сами ее боятся. Может, конечно, это он выдумал, но несколько раз замечал: и девчонки, ее одноклассницы, и парни – сторонятся. Она всегда одна. Взрослые на улице здороваются сквозь губу. И видно – не презирают, а именно боятся. Ильдар знает этот взгляд – показательно вежливый, а внутри – страх. Так его собственная бабушка смотрела на тетю Алию – про ту в деревне поговаривали, что она умеет оборачиваться, ходит по чужим дворам, ворует цыплят, и вообще добра от нее не жди. Ильдар мелкий был, они вместе с пацанами вечерами бегали подглядывать – вдруг и правда тетя Алия прыгнет через три ножа и обернется черным поросенком? Бабушка жутким шепотом говорила, мешая русские и татарские слова, что, если такой поросенок к тебе подбежит, нужно его по уху ножом хватануть. Тогда на следующий день тетка Алия придет с обрезанным ухом, и все в деревне узнают, что она оборотень. Больше не станет хулиганить.
Но почему, за какие такие грехи боятся здесь ее – хрупкую, тихую, – он не понимал. Неужели из-за этих вот вечерних походов на кладбище? Все про это знают, деревня – ничего не скроешь. Другого странного он в ней не замечал. Ну и пусть, ему только на руку. Никто не начнет права качать, все-таки он приезжий, и вдруг такое нахальство. Ильдар, сам деревенский, знал, что такого не любят: у них пацаны не потерпели бы, если бы кто-то таскался за их девчонкой. А тут всем фиолетово.
О, встала. С холма идет. Не к нему – по другой тропинке. Она то так, то этак ходит, знает каждый куст. А ему – угадывай, куда свернет, да догоняй. Ильдар снимается с места, быстрым шагом, лавируя между оградками и памятниками, идет следом. Темно уже, как бы ноги не переломать. Она идет быстро, не обернется – ей до него дела нет. И ничего не боится. Ни его, ни мертвяков. Вообще смелая. Обычно он догоняет ее уже на выходе, возле часовни, и потом просто идет рядом. Провожает до крыльца. За удачу считает, если она хоть раз на него посмотрит. Почему-то ему кажется, хочется верить, что, если он будет вот так каждый день с ней ходить, она наконец привыкнет. Как природа к самолетам. Не может не привыкнуть.
Что-то шуршит слева – и его хватают за руку. Ильдар не успевает испугаться.
– О, Рыжий! Сам нарисовался. А я за тобой.
Серый. Выходит из кустов.
– Телочку свою пасешь. – Осклабился – сквозь сумерки виден щербатый рот. – Ну-ну.
У него глухой, как будто всегда осипший голос. Серый высокий, но рыхлый, и Ильдару не нравится, как он смотрит вслед уходящей Насте.
– Идем, дело есть, – кивает Серый потом, дождавшись, когда она скроется из вида, и идет по тропинке в обратную сторону, к реке. Не оглядывается и не зовет его – уверен, что пойдет, деваться ему некуда.
Ильдар смотрит вниз – Настя уже в желтом круге света фонаря у крошечной часовни. Еще шаг – и канет в густой октябрьской тьме.
А он послушно, как скотина, поворачивает и идет за Серым, хотя все в нем тянется вниз с холма – за ней. Как будто раздваивается, и пока ноги несут вверх, мысленно он проходит за ней след в след, обходит часовню, выходит на дорогу и идет дальше – по центральной улице, мимо школы, мимо старого магазина и их стройки – к ее дому: большой, за забором, как и все дома здесь за глухими заборами. Собаки брешут в неуютный вечер. Редкие фонари – у школы да на повороте к магазину. Остальное тонет в блестящей, влажной и ветреной темноте. Школа единственная не за забором, но она далеко от дороги, перед ней большой пустырь, залитый светом одинокого фонаря. Напротив – их почти заброшенная стройка, недостроенные стены врезаются в ночь, как обглоданный остов животного. Ни души на улице, но Настя не боится. Ничего она не боится, только магазин всегда обходит подальше, по другой стороне улицы. Старый, приземистый, он белеет боком, темнеет выщербленной штукатуркой, зияет разбитым окном – вместо стекла вставлен кусок фанеры. Ильдар знает, что Настя никогда не ходит сюда. Почему – он не понимает и не у кого спросить.
– Быстро ты обернулся.
Высокий голос Валерика вырывает его из мыслей. Тот курит, поджидая их среди могил на холме.
– Да он тут был, далеко ходить не пришлось.
– А, бабу свою обхаживает! – тоже догадывается Валерик и начинает ржать. Смех у него гаденький, похабный. Всё-то они знают. – Так и не подступился? Ты ее к нам приводи, научим, чё делать. Да, Серёг?
Тот ухмыляется. Ильдара трясет.
– И скажи ей, кстати, что ночью жальник – не то место для девки. Мало ли кто привяжется. Упыри какие-нибудь, – продолжает ржать Валерик.
– По нашим временам людей бояться больше надо, чем упырей, – говорит Серый. Он тоже курит. Красная точка вспыхивает ярче возле лица.
– Ага, люди – те еще упыри, – шутит Валерик и ржет, и кашляет. Потом, прокашлявшись, спрашивает непонятно у кого: – Она-то знаешь, куда ходит? Вот сюда.
Щелкает фонариком, и луч выхватывает плиту возле его ног. Свечка в баночке почти догорела, фитиль еле пляшет, когда ветер задувает внутрь. На гладком камне – фотография в рамочке: те же тонкие скулы, узкие глаза, черные волосы. Но лицо пошире. И взгляд – без надменности, но еще более непонятный, странный совсем взгляд. Такие всегда бывают у мертвых на могильных фотках, как будто они смотрят оттуда. Такой взгляд живому невозможно понять.
Белые цифры внизу:
16. V.1965 г. – 20.X.1995 г.
– Мамка ее, – говорит Валерик и светит Ильдару в лицо. Тот щурится и отворачивается. – Продавщицей в магазине была.
– Это грохнули которую, что ли? – спрашивает Серый равнодушно.
– Ага. Пять лет как раз на днях. А ведь нехристи, скажи? – Валерик кивает на памятник. – Без ограды, прям так. Язычники, едрить-колотить.
– Работы нас лишают, – буркает Серый. Не то шутит, не то нет, не ясно.
Валерик гыгает:
– Точняк. Ее, говорят, муж откуда-то с северов привез, когда в геологах работал. Бабка вроде как шаманкой была.
Может, потому ее и не любят, думает Ильдар. Точно, как тетю Алию.
– Прямо так и шаманка? – сомневается Серый.
– Хер знает, не секу. – Валерик щелчком сбрасывает окурок и начинает спускаться к реке с другой стороны холма. Фонарик мечется по кустам, по жухлой траве. Серый и Ильдар тянутся следом. – А ты знаешь, что папа ее мент?
Его голос доносится до Ильдара с порывами ветра, то тише, то громче. Серый что-то на это говорит, до него не долетает. Валерик отвечает:
– Бывший, не ссы. Он ушел. Его ушли. Лез много, дознаться пытался, кто тогда магаз хапнул. Ему и намекнули популярно: много будешь знать, дочка сиротой останется. Теперь вот в городе устроиться пытается, поэтому его дома не бывает никогда. Все в город лезут, намазано им там. Они туда, а мы оттуда. – Валерик снова гыкает.
Откуда он все это знает? В любую дырку пролезет без мыла. Почему вообще про нее разнюхивает? Ильдар чувствует подкатывающую тошноту. От дыма их сигарет, от голода. И от этого разговора. Он вот ничего не знал ни про ее мать, ни про отца, даже в голову не приходило спросить. И какое ему дело, бывает он дома, не бывает…
– Так что ты смотри, Рыжий, от такого тестя подальше. – Валерик смеется и еще что-то говорит, но они уже спустились вниз, и ветер сносит его слова в сторону, к реке. – …в восьмом, нет?
– Чего? – Ильдар с трудом разлепляет губы. Язык не поворачивается, тоже как будто примерз.
– В классе она в каком, спрашиваю? В восьмом? Целка несовершеннолетняя. Ты руки-то при себе держи. От двенадцати лет отхватишь. Общего режима.
Что-то хрустит – Ильдар не сразу понимает, что это он так сжал свои челюсти. И почему он все это терпит? Снова и снова спрашивает себя и не понимает. Плюнуть на все и уехать, на автобус пока денег хватит, не все еще прожил, что из дома взял.
Только это значит – и от нее уехать. А что-то ему говорит, что это насовсем.
– Ладно, харэ языком чесать, – обрывает Серый. – Там вон.
Они уже дошли до обрыва. Тут кладбище заканчивается, внизу – река. Быстрая, черная. Блестящая. Ее отсюда не видно, но Ильдар знает, что она там. Огибает деревню. Бежит на север. Все сибирские реки бегут на север – в Океан.