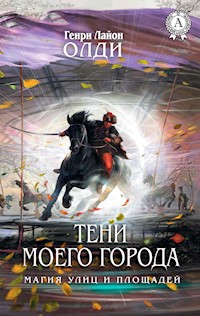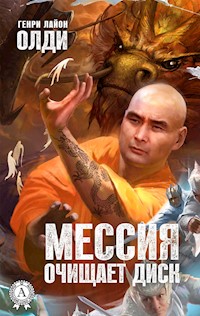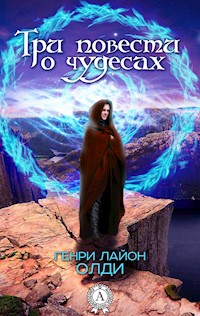3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Азбука-Фэнтези
- Sprache: Russisch
Не всякому дано побывать в Эфире. Так говорят, изнывая от зависти, жители Афин и Спарты, Фив и Аргоса. Сюда, в богатую Эфиру, владычицу торговых путей, где правит знаменитый лошадник Главк, из царства мертвых возвращается отец Главка, великий хитрец Сизиф. Сюда же прилетает поджигать храмы ужасная Химера. Наведывается в эти края и крылатый конь Пегас, чтобы напиться из священного источника на городской площади. Тут сойдутся интересы богов: лукавого Гермия, мудрой Афины и вспыльчивого Посейдона. А еще Эфире живет маленький Гиппоной, сын Главка и внук Сизифа. Тот, кого позже узнают под именем Беллерофонта – Метателя-Убийцы. Здесь начнется его яркая, буйная, трагическая судьба, а где ее завершение – это значится лишь на коленях богов.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Серийное оформление Ильи Кучмы
Оформление обложки Сергея Шикина
Иллюстрации Александра Семякина
Иллюстрация на обложке Владимира Бондаря
Олди Генри ЛайонЗолотой Лук. Книга I : Если герой приходит : роман / Генри Лайон Олди. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. — (Азбука-фэнтези).
ISBN 978-5-389-23747-6
16+
Не всякому дано побывать в Эфире. Так говорят, изнывая от зависти, жители Афин и Спарты, Фив и Аргоса. Сюда, в богатую Эфиру, владычицу торговых путей, где правит знаменитый лошадник Главк, из царства мертвых возвращается отец Главка, великий хитрец Сизиф. Сюда же прилетает поджигать храмы ужасная Химера. Наведывается в эти края и крылатый конь Пегас, чтобы напиться из священного источника на городской площади. Тут сойдутся интересы богов: лукавого Гермия, мудрой Афины и вспыльчивого Посейдона.А еще в Эфире живет маленький Гиппоной, сын Главка и внук Сизифа. Тот, кого позже узнают под именем Беллерофонта — Метателя-Убийцы. Здесь начнется его яркая, буйная, трагическая судьба, а где и как она завершится — это еще лежит у богов на коленях.
© Г. Л. Олди, 2021© А. В. Семякин, иллюстрации, 2021© В. О. Бондарь, иллюстрация на обложке, 2021© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021Издательство АЗБУКА®
И повторил ребенок-полубог:
— Что было — есть. Для сказки нет конца. Куда ж еще мог полететь Пегас? Быть может, он прилетит ко мне? Я жду его.
Ответила ребенку-полубогу Эвримеда:
— Он вылетел и скоро долетит.
Задумался Беллерофонт. Сказал:
— Я укрощу крылатого Пегаса и полечу на нем. Главк, мой отец, умеет укрощать земных коней. Я укрощу небесного коня. Скажи, а то, что будет, тоже есть?
С улыбкою ответила Эвримеда:
— Есть — для героя.
— А что же тогда бывает и не будет?
И услышал Беллерофонт ответ:
— Если герой приходит, все бывает.
Я. Голосовкер. Сказания о титанах
Парод [1]
Все было так хорошо, что даже слишком.
Ветер шелестел в кронах дубов и лип. Журчал ручей, нежась в илистом русле. Хор птиц славил великого Гелиоса, чья колесница завершала свой дневной путь. Венец солнечного титана заволокла слабая дымка: Гелиос размышлял. А может, просто дремал, отпустив поводья, — кони и без возничего знали дорогу.
Белый конь пасся на склоне горы, возле ручья. Время от времени он поднимал голову к небу и тихонько ржал. Он ждал ответа от упряжки, везущей солнце, но ответа не было. Тогда конь фыркал, бил копытом в землю и вновь принимался щипать траву.
Из ручья за ним наблюдала нимфа. Волосы густой волной стекали на маленькую, слабо очерченную грудь: черное на белом. В глазах, светлых и прозрачных, словно две капли росы, застыло восхищение. Когда конь ржал, нимфа пряталась в ручей. Нагое тело растворялось в бликах, играющих на воде, чтобы вскоре снова вернуться к прежним очертаниям женщины.
Боялась? Чего?
Нимфы пугливы, такова их природа.
Конь был прекрасен. Им залюбовался бы самый взыскательный ценитель. Миниатюрный, изящный, весь грация и радость жизни, он словно вышел из-под резца гениального скульптора. Стройные ноги мягко переступали с места на место. Казалось, конь танцует в воздухе, не сминая копытами травинок и метелок дикого овса. Под шелковистой кожей играли сильные мышцы. Когда конь переставал пастись и обращал взор к небу, становилось видно, как высоко он держит голову и шею. В иных случаях говорили, что это привычка колесничных лошадей, которым хомут давит на дыхательное горло. Но представить хомут на белоснежном красавце?
Нет, этого не смог бы и бог.
Текли минуты. Нимфа пряталась, возникала, снова пряталась. Взгляд ее туманился донной мутью, светлел, чтобы опять подернуться рябью. Поглощенный трапезой, конь не обращал внимания на хозяйку ручья. Вот он поднял голову в очередной раз, начал рыть землю копытом. Фыркнул, но иначе: громко, с беспокойством, почуяв что-то, скрытое от ветра, лип, птиц.
Нимфа вздрогнула.
Воздух, вырвавшись из тонко очерченных ноздрей животного, тоже задрожал. Так дрожит пространство над костром, разведенным в лютый зной. Дрожь ширилась, уходила назад, словно вторая грива. Вот уже и над конской спиной трепещет слабое мерцание, подобное зарницам на горизонте. Сгустившись, оно превратилось в пару огромных крыльев. Конь вырос на ладонь, на две, раздался в груди. Запрокинув голову, он заржал: страстно, дико. Ветер сбежал из листвы, умчавшись на восток. Нимфа нырнула в ручей; птицы шумной стаей ринулись прочь. Далеко на закате солнечная колесница придержала свой бег. Гелиос натянул поводья и обернулся через плечо: титан в огненном венце удивился тому, что слышит.
Хлопок крыльев был подобен грому.
Когда конь взлетел, нимфа, растворенная в воде, ждала, что он уменьшится. Превращение из белого жеребца в черную точку — это было бы естественно для того, в ком сейчас было больше от орла, чем от коня; вернее, естественно для зрителя, следящего за его полетом. Но поначалу конь, напротив, сделался больше прежнего. Похоже, он рос так быстро, что расстояние от земли до неба, стремительно увеличиваясь, не могло справиться с этим бешеным, этим чудовищным ростом.
В итоге расстояние победило. Время и расстояние — эти два неутомимых бойца побеждают всех, как ни крути. Быстрее ветра темное пятнышко мелькнуло над Алейской равниной и скрылось из глаз.
* * *
Языки тумана лизали прибрежный песок.
Их движение было подобно ленивому прибою, пряча под собой настоящие волны. Волны? Какие там волны?! Судя по мерному, еле слышному шелесту, на море царил полный штиль. Налети буйный вихрь, вздыбь морскую гладь громадами пенных валов, с грохотом обрушь их на берег — и от тумана, разорванного в клочья, не осталось бы и следа. Но ласковый Зефир и гневный Борей носились в иных краях, брезгуя островами Заката.
Туман воспользовался этой поблажкой. Почувствовав себя хозяином положения, он принялся творить собственное туманное мироздание. Укрыл море одеялом из овечьей шерсти: вот и нет моря! На краю острова он загустел, копя силы, заполнил бухту до краев, захватил плацдарм — и повел наступление на сушу.
У береговых скал, обрамлявших бухту, медленно, как во сне, вздыбились и начали расти бесплотные буруны. Туман ловко прикидывался водой, его армия наступала. Призрачные волны-воины в белесых доспехах не торопились атаковать, но и не откатывались назад с бессильным клокотанием. Они двигались вперед, и только вперед, сжимали кольцо вокруг острова, отъедали и поглощали сушу шаг за шагом. Вот ложные воды подступили к подножию утеса, что возвышался над всей восточной частью тверди. Лизнули основание, потянулись выше...
В очертаниях утеса, в тусклых отблесках, игравших на сглаженных уступах, крылось что-то противоестественное. Ни деревца, ни кустика, ни клочка пожухлой травы. Птичьи гнезда? Осыпи? Сколы? Трещины? Утес казался цельным монолитом — и в то же время состоял из частей, пригнанных одна к другой без малейшего зазора.
Туман замешкался, пытаясь разрешить загадку. Впрочем, не важно. Какова бы ни была природа утеса, туман поглотит его, скроет от глаз — и воцарится над крошечным миром.
Остров пронзила дрожь: едва ощутимая, но явственная. Должно быть, матери Гее сделалось холодно — и озноб земли передался всему сущему. Эхо далекого звука долетело из-за горизонта, скрытого туманом. Стон? Скрежет? Зов?
Не разобрать.
Да и был ли звук?
Дрожь унялась. Вопреки этому прибой — настоящий прибой — усилился. Море под мглистым одеялом задышало громче, отчетливей.
Море?!
Дышал утес. Поверхность его, еще миг назад бездвижная, как у любой другой скалы, теперь пульсировала — все чаще с каждым ударом. Быстрее, еще быстрее...
Утес шевельнулся.
Тяжкий вздох сотряс остров. Туман, бледный от ужаса, шарахнулся прочь, но опоздал. Авангард его войск был втянут в двойную пещеру исполинских ноздрей и сгинул без следа. Утес двигался, распрямлялся, возносился к небесам, превращаясь в гиганта. Остатки тумана вихрились у его ног, в панике отступали. Обнажился каменистый берег, песчаный пляж, серые скалы, поросшие ракушками, тусклая морская гладь, тревожная рябь на ней...
Гигант в сверкающих латах встал во весь рост. Жесткая щетка конских волос на его шлеме, выкованном из черной бронзы, царапала небеса. Будь исполин поменьше ростом, посторонний зритель отметил бы сложение атлета, доспех искусной работы, сидевший на владельце как влитой: нагрудник, наручи, поножи. Но вряд ли чей-то взгляд — человека, титана или бога — сумел бы охватить его фигуру целиком. Лишь золотой блеск на боку великана сразу приковывал к себе внимание. Что бы там ни блестело, это создала Лисса, богиня безумия, потому что прийти к однозначному выводу было решительно нельзя. Вначале представлялось, что блестит меч, широкий и длинный аор [2] — под стать своему могучему хозяину. Но в следующий миг меч превращался в колчан сияющих стрел, тянулся дальше, оборачиваясь золотым луком в руке воина. Лук расплывался, втягивался в колчан, уступал место мечу, меч — луку, и так без конца.
Великан обратил лицо к востоку. Мглистые небеса в той стороне просветлели, словно только и ждали этого взгляда. Разрывая тучи, от горизонта к острову протянулась огнистая семицветная радуга, увенчанная гривой из косматого пламени, — мост, ведущий...
Куда?
Великан прислушался. Казалось, он способен услышать шелест стрекозиных крыльев за краем мира, на дальнем конце переливчатого моста. В нерешительности, которая не вязалась с грозным обликом, гигант переступил с ноги на ногу. Земля ощутимо содрогнулась. Туман в ужасе пошел клочьями, стремительно редея. Радуга всколыхнулась, роняя перья из огня, поблекла и втянулась в сумрачный небокрай.
Погасла.
Какое-то время великан молчал, по-прежнему вглядываясь в даль. Затем он исторг тяжелый вздох, в котором разочарование мешалось с облегчением, и сел на берегу, вновь уподобив себя утесу.
Замер. Окаменел.
Небо над ним просветлело. Солнце не показалось, но свинцовая пелена туч истончилась, засеребрилась под незримыми лучами. Взору открылись холмы, поросшие лавром и можжевельником, могучие дубы, оливковые рощи, зеленые луга и приземистый дом, сложенный из грубо отесанных каменных глыб.
Туман клубился над морем в безопасном отдалении. Вернуться? Урвать и себе клочок суши? Нет, туман еще долго не решится на этот подвиг.
* * *
— Далеко собрался, старик? Не видишь, кто перед тобой?!
Старик был хром. Старик был слеп.
А окрик был насмешкой. Человек, задавший путнику два вопроса, один за другим, отлично понимал, что калека вряд ли в состоянии собраться так уж далеко. И не слепцу видеть, кто преградил ему дорогу этим вечером.
— Не вижу, — спокойно ответил старик, кутаясь в дырявый плащ. — Прости меня, но мои глаза давным-давно утратили зоркость. Кто же ты, остановивший меня? По голосу я слышу, что ты мужчина средних лет и крепкого телосложения. Наверное, ты способен сломать мне хребет легче, чем юноша ломает прибрежный тростник для свирели. Но также я слышу, что у тебя доброе сердце. Ты не причинишь вреда беспомощному старцу.
— Да ты зорче сокола! Я и впрямь добряк!
— Он сама доброта! — поддержали вожака двое товарищей. — Чье второе имя Милосердие? Не твое ли, Эвбулей? [3]
И вся троица зашлась хохотом.
Слепой не видел их. Значит, незачем и тратить время на их описание. Можно лишь заметить, что да, все трое были средних лет, а двое — крепкого телосложения. Третий, мелкий и тщедушный, должно быть, не родился как обычные люди, а вихрем выскочил из чрева своей мамаши. Он не мог устоять на месте: крутился, вертелся, приплясывал. В пальцах его правой руки мелькала хищная рыбка с блестящей чешуей.
Нож. Острая бронза.
Что делал нож? То же, что и хозяин. Плясал, вертелся, крутился.
— Мне понравился твой рассказ, — отсмеявшись, заметил Эвбулей. — Там, в харчевне. Я часто слышал сказки про Сизифа, великого хитреца. Признаюсь, Сизиф — мой кумир. В нем мне нравится все, кроме наказания. Кому по душе вечно толкать камень в гору? Нет, это не для меня. Но ты поведал слушателям кое-что новое, чего я не знал. Золотая цепь, а? Он связал бога смерти золотой цепью?
Старик кивнул.
— Жаль, что у меня нет ни цепи, ни золота.
— Жаль, — согласился старик.
— Проклятье! — гнул свое Эвбулей, нимало не интересуясь согласием или возражениями калеки. — У меня нет золота. Нет серебра. Нет теплой одежды. Нет хорошего вина. У меня нет даже кубка! Завалящего кубка из дрянной меди, с дешевыми камешками по ободку! У меня нет, а у тебя есть. Я видел, как жирный торговец, восхищенный твоими россказнями, подарил тебе этот кубок. Тебе не кажется, путник, что судьба несправедлива?
— У меня есть кубок, — эхом откликнулся старик. — И судьба воистину несправедлива. Ты прав.
— Дай его мне! И тогда мы скажем, что у тебя кубка нет, а у меня есть. Возможно, тогда ты доживешь до завтрашнего дня.
Нож в пальцах мелкого порхал все быстрее. Бронзовому клинку не нравились слова вожака. Какие? Требование отдать кубок? Обещание сохранить старику жизнь?!
Эвбулей хотел кубок. Нож хотел крови.
— И опять ты прав. — Старик пожевал запавшим ртом. Можно было подумать, что он пробует истину разбойника на вкус. — Ты заслуживаешь кубка, не я. Что стоят жалкие россказни перед гордой силой? Боги на твоей стороне, Эвбулей.
Он снял котомку, поставил на землю. С трудом присел рядом, потерял равновесие, шлепнулся боком на землю. Засмеялся над своей неуклюжестью, достал из котомки кубок, протянул Эвбулею:
— Вот. Забирай.
Вожак взял кубок. Спросил:
— Что у тебя в котомке?
— Две лепешки. Было три, одну я съел на ходу. Связка луковиц. Круг козьего сыра. Маленький, если по правде. Шляпа из войлока.
Плясал нож. Бесился. Старик был болтуном.
Зачем жить такому?
— Хочешь проверить? Забрать? Тогда бери всю котомку, так легче будет унести.
Эвбулей не стал проверять. Он даже отвечать старику не стал. Во все глаза, пятясь, вожак смотрел на белого коня, выросшего позади слепца. Откуда взялся конь? Соткался из воздуха? Слетел с неба? Вынырнул из земных глубин?! Останься дружки Эвбулея на месте, вожак уже врезался бы в них спиной. Но нет, дружки тоже пятились, и как бы не быстрее своего предводителя. Повернуться и кинуться прочь, сверкая пятками, им мешал страх. Казалось, стоит оторвать взгляды от коня, показать ему затылки, стриженные овечьими ножницами, — и случится страшное.
Конь? Живой кошмар.
Вдвое больше самой рослой лошади отсюда до Крита, он рыл землю копытом. Храп жеребца заполнял вселенную, врывался в уши разбойников, раздирал их, лишал слуха. Все звуки мира гасли, кроме этого храпа. Бешеные глаза горели двумя кострами, разведенными ночью в честь Гекаты Шестирукой. Пара мощных крыльев соткалась над крупом. Крылья бились, трепетали, превращая коня в Зевесова орла, кровопийцу Эфона.
Это было невозможно, но конь продолжал расти.
Горой нависнув над стариком, он вздернул верхнюю губу. Обнажились зубы, приличествующие скорее матерому льву. Слепец с большим трудом, кряхтя и охая, поднялся на ноги. Протянул руку, с трудом дотянулся, похлопал чудовище по шее:
— Тихо, дружище! Все в порядке, успокойся.
И дал совет разбойникам:
— Бегите. Он не станет вас преследовать.
Они стояли как одно целое: слепец и конь. Два тела как одно. И все-таки им чего-то недоставало. Кого-то? Сегодня был плохой день для таких размышлений. Эвбулей, мужчина средних лет и крепкого телосложения, точно знал: плохой, хуже некуда. Прежде чем пуститься наутек, он швырнул в старика кубком.
Старик поймал кубок на лету.
Конь и впрямь не бросился в погоню. Разбойники, убегая, делались меньше, превращались в глиняные фигурки, вылепленные малышней для забавы. Расстояние пожирало их, время доедало остатки. Делался меньше и конь. Не двигаясь с места, равнодушен ко времени и расстоянию, он терял грозный вид. Исчезли крылья, погасли глаза, сохранив обычный влажный блеск. Старик поднял котомку, достал лепешку, протянул коню:
— Будешь?
Конь не отказался.
Старик привалился к коню боком. Было видно, что калеке трудно стоять. Мелкая дрожь била старца. Казалось, он испугался только сейчас, когда спасся от лихих людей.
— Благодарю тебя, — пробормотал старик. — Хорошо, что явился ты. Этот щенок... Я чуял его запах: кислый, злобный. Он хотел убить меня. Что бы ни велел вожак, он хотел меня убить. Он меня не знает, ему просто нравится убивать. Как хорошо, что явился ты, Пегас! Мне даже страшно представить, что случилось бы...
Ноги отказали. Старик упал на тощий зад, вскрикнул от боли.
— Мне даже страшно представить, — повторил он хриплым шепотом, — что случилось бы, явись не ты, а он. Вряд ли он дал бы этим дуракам убежать. Я знаю тебя, я знаю его. Я знаю нас троих. И поэтому я знаю, что говорю.
Вечер опускался на дорогу, пыльную и каменистую. На Алейской равнине таких дорог тысячи. Здесь можно встретить кого угодно, даже самого себя. Что значит дорога? Время и расстояние. Можно пойти вперед, можно вернуться назад.
Даже если речь о времени, все равно можно вернуться назад.
Часть перваяЛЮДИ, БОГИ И Я
Бродячие певцы знают мою жизнь лучше меня.
Они знают все, от первого вздоха до последнего хрипа; все, кроме правды. В этом есть здравый смысл: за правду не платят. Не дадут монетки, не нальют чашу вина. Кроме того, за правду можно схлопотать молнию с ясного неба.
Им нельзя, мне же можно.
Давайте я расскажу вам правду. Не из корысти, нет! Вряд ли вы окажетесь щедрее прочих. Но вечер долог, дождя нет. Мы сыты, сидим в тепле. Почему бы для разнообразия не скоротать ваше драгоценное время за моей недорогой правдой?
Первого вздоха не помню, врать не стану. А вы? Уверен, ваша память тоже не сохранила миг рождения. Вот детство — другое дело. Любовь и ненависть пускают корни именно там, в плодородной земле детства.
С него и начнем.
Эписодий первыйТАЙНА ЗОЛОТЫХ ЦЕПЕЙ
1«Ты уверен, что это радость?»
— Радость! Великая радость!
На лице гонца застыл ужас.
По взрослым часто не поймешь: радуются они, злятся или еще чего. Но ужас-то я сразу узнал! Такое лицо было у Делиада, когда Алкимен ему гадюку в постель подбросил. Гадюка оказалась дохлая, но Делиад-то не знал!
Гонец боится, сейчас лужу со страху напрудит. А кричит: «Радость!»
Почему?
Внутри меня все сладко замерло. Чудовище! Говорю вам, чудовище! Возле города объявилось, хорошее мое. Вот и ужас: небось, уже съело кого-нибудь. А радость — потому что подвиг! Папины воины который год от безделья маются: войны-то нет, даже самой завалящей. А тут — чудовище! Всем радостям радость! Воины убьют чудовище и станут героями. Потом устроят большой пир и будут радоваться еще больше, чаша за чашей, пока не напьются до козьих копыт.
Я принялся судорожно вспоминать всех известных мне чудовищ. Дракон Ладон? Ага, где мы, а где остров Гесперид! Тифон? Его Зевс уже победил. Горгона Медуза? Ее Персей убил, как раз на мой день рождения. Ехидна? Эта в своей пещере сидит, наружу носа не кажет. Драконица Дельфина? Нет, если бы она из моря вылезла, уже бы весь город знал. Циклоп? Кербер? Пегас?! Он вроде не чудовище...
Может, какое новое объявилось?
Папа воинов в бой поведет. Ну да, папа — кто еще? Воссядет на колесницу, возьмет два копья. Меч возьмет, щит. Жаль, меня не возьмет. Может, хоть издали дадут посмотреть? Нет, не дадут. Ну и ладно! Я дыру в стене знаю. Чудовище туда не пролезет. И взрослый не пролезет. А я пролезу! Проверял уже. Выберусь тише мыши — и за ними. Все-все увижу! Расскажу Алкимену и Делиаду с Пиреном, как дело было, — они от зависти сдохнут! Они большие, с мечами и копьями упражняются. Мне, сказали, еще рано. Ну и пусть! Зато я увижу, как будут убивать чудовище!
Главное, выяснить, куда воины пойдут. И бегом, чтобы не отстать.
— Радость, господин!
Из дворца, никуда не торопясь, вышел Главк, правитель Эфиры. Мой папа. Ну да, не только мой. У меня трое братьев — всем Главк папа. И все братья — старшие.
Не повезло.
Папа остановился наверху широкой лестницы. О нашей лестнице всегда говорят — широкая, так как высокой ее назвать трудно. Пять ступенек, зато из белого паросского мрамора. Служанки моют-подметают трижды в день. Поэтому лестница всегда чистая и сияет. Папа любит стоять на самом верху и смотреть сверху вниз. На дворцовый двор. На крепость-акрополь. На Эфиру, раскинувшуюся под холмом. На Лехейскую гавань, где толкутся пузатые, как водяные жуки, корабли со всего света. А Кенхрейскую гавань отсюда не видно. Видно, не видно — все наше, в смысле папино, наше-нашенское до последнего камешка.
На море папа тоже любит смотреть, хоть море не наше, а Посейдоново. Постоит, скажет что-нибудь такое, что правителю положено, — например: «Сегодня у меня важный гость. Никого не принимаю», — и обратно во дворец уйдет.
Сейчас Главк Эфирский смотрел на гонца. Смотрел так, словно дворца не существовало. Ни крепости, ни города, ни даже моря. Гонец бухнулся перед владыкой на колени. Никакой это не гонец, дошло до меня. Гонцов я видел. Они молодые, да. А этот седой, лишь на затылке кое-где черные кучеряшки. Хитоны на гонцах яркие. Сами гонцы потные, в пыли, а все равно нарядные. У этого хитон простой, некрашеный, по подолу обтрепался. Вместо пояса — веревка. У ног посох валяется.
Пастух. Точно вам говорю, пастух! Небось, его овец чудовище сожрало.
Чего папа ждет?
Во дворе начали собираться люди. Только что никого, считай, не было — и вот нате вам! Придворные и советники толпились по обе стороны крыльца. Слуги замедляли шаг, останавливались. Вроде как случайно задержались, или дело прямо тут нашлось.
Не видно ничего за их спинами. Ну, кроме папиной макушки.
— Встань и говори.
Я стал протискиваться поближе. Вокруг меня мелькали ноги — босые, в сандалиях, исцарапанные, гладкие — и подолы одежд. Время от времени я падал на четвереньки и лез напрямик, между ногами. Я мелкий, мне легко. В нос шибали запахи: пот, ароматические притирания, чеснок, лаванда, свежий хлеб, вино. Я изворачивался, лавировал в бесконечном лабиринте-многоножке, спешил как мог. А пастух уже возвещал:
— Господин, меня послали сообщить о великой радости!
— Ты уверен, что это радость?
Ну да, небось, папа тоже лицо пастуха разглядел.
— Так он мне велел, господин. Сообщи, мол, басилею [4] Главку о великой радости.
— Кто — он?! Говори толком!
— Прости, господин! Я говорю, как велено. Радость!
Полный отчаяния голос пастуха взлетел над двором, «пустил петуха» и рухнул обратно. Пастух закашлялся. К этому времени я уже выбрался из толпы и услышал:
— Богоравный Сизиф, сын Эола...
— Что — Сизиф?!
— Твой отец, господин! Он вернулся!
Ахнула бабушка Меропа, закрыла рот рукой. Я и не заметил, как она вышла, встала позади отца. Бабушка Меропа у нас красавица. На вид ровесница моей мамы, а главное, ее даже папа побаивается. Бабушка — не только бабушка, но еще и дочь, одна из плеяд [5]. Ее папа, мой прадедушка, — Атлант. Ага, тот самый, титан.
Который небо держит.
Тут кто угодно забоится. Обидишь бабушку, а тебя небом по башке — тресь! И звезды из глаз. Говорят, бабушку Меропу только дедушка Сизиф не боялся. Даже жениться на ней — и то не побоялся! Я вот иногда думаю: как он с ней столько детей прижил? Храбрый какой...
Ой! Это же пастух про дедушку Сизифа сказал! Дедушка, значит, вернулся. Как он мог вернуться?! Он же умер! И как же теперь чудовище?!
От внезапной догадки я похолодел. Чудовище, дедушка. Вдруг дедушка Сизиф в Аиде чудовищем заделался? В царстве мертвых под землей и не такое случается. Вернулся злой, голодный, сейчас нас есть начнет. Меня первого, я маленький, самый свежий...
— Боги лишили тебя разума, пастух?! Мой отец умер три года назад.
— Прости, господин! — Пастух рухнул на колени, как подрубленный. — Я видел его своими глазами! Я помню твоего отца с давних времен. Он говорил со мной. Это Сизиф, клянусь!
— И где сейчас мой отец?
— Он послал меня возвестить о его возвращении. Сам он идет следом. Меланий и Феодор его сопровождают. Они скоро будут здесь.
— Меланий?! Феодор?!
На лице папы читалось недоумение. Главк Эфирский припоминал имена даймонов, обитателей подземных бездн. Кто из них сопровождает воскресшего отца?
— Пастухи, господин. Неокл со стадом остался. Меня богоравный Сизиф вперед погнал, а Меланию с Феодором велел...
Пастух замолчал, побагровел. Тишина залила двор вязким маслом. Я обернулся. Я бы ничего не увидел, но толпа, запрудившая двор, торопливо расступалась перед людьми, которые мигом раньше вошли в ворота.
Впереди шел крепкий мужчина высокого роста. Его хитон — длинный, до колен! — был выкрашен в дорогущий заморский пурпур, а по подолу змеилась золотая кайма. За мужчиной робко жались двое пастухов. Вне сомнений, беднягам хотелось сбежать куда подальше, но они боялись. Попробуй ослушайся, ага! Про пастухов я и забыл-то сразу — во все глаза глядел на предводителя. Вышагивал он так, будто это он здесь хозяин, а не папа. Такой весь... уверенный, вот! Настоящий басилей, и не потому, что хитон. Походка, осанка, взгляд. Борода седая, а кажется, что серебряная. Аккуратная, завитая, колечко к колечку — лучше, чем у папы.
Морщины на лице? Ну морщины.
Нет, я не мог назвать его стариком. Даже про себя. Не мог, и все! Ну какой он старик?! Дедушку Сизифа я помнил смутно. Он умер, когда мне было года три. А сейчас мне целых шесть! Ну почти. Осенью исполнится. Вроде дедушка. А может, нет. А если все-таки дедушка — он какой?
Живой? Мертвый?!
Солнечная колесница Гелиоса катилась по небу. Жарило будь здоров. Как вчера и позавчера. Каменные плиты двора обжигали мои босые ступни. Но мне вдруг сделалось зябко. Если это дедушка Сизиф, с бородой и в хитоне, он вряд ли чудовище. С другой стороны, если он мертвый, может, он не лучше чудовища? Или лучше? Или он все-таки живой? В Аиде умершие становятся бесплотными тенями, это все знают...
Я пожирал деда глазами. На тень он нисколечко не походил. У него, кстати, своя собственная тень имелась: исправно волочилась следом. У тени ведь не может быть тени, верно? Или может?
Ох, что-то я совсем запутался!
Дедушка-недедушка тем временем уже весь двор пересек. Встал напротив папы, глядит снизу вверх. Нет, не снизу вверх. Будто вровень стоят.
— На тебе твой лучший хитон, отец, — сказал Главк Эфирский. — Мы тебя в нем похоронили. Надеюсь, ты был доволен.
Сказал негромко, но в тишине его слова прозвучали как гром.
— Я доволен, — кивнул нежданный гость. — С чего бы мне гневаться? Это мой любимый хитон. Пурпур для него привез толстяк Аби-Баал из Багряной страны [6]. Проклятый торгаш! Мера краски за три меры серебра, не грабеж ли? Владыка Аид тоже оценил. Он бы сам не отказался от такого хитона.
И Сизиф засмеялся.
* * *
Одна служанка завизжала так, что у меня заложило уши.
Другая молча грохнулась в обморок.
2Боги, за что караете?!
— Сожгли!
— Не сожгли!
— Точно вам говорю! Не сжигали его!
— Как так?! Разве можно?!
— Нельзя!
— Госпожа Меропа приказала, вот и не было костра.
— В толос [7] медный положили!
— Я помогал, все видел...
— Травами всего засы́пали. Благовониями...
— Лежал как живой...
Когда дедушка — конечно, дедушка, раз папа его признал! — проходил мимо меня, я и впрямь уловил аромат благовоний. Лаванда, мирра, ладан, опопанакс... У меня чуткий нос, а названиям меня обучила бабушка. Запах был приятный, можно сказать, торжественный, но я чуть не расчихался.
— ...Вот потому и вернулся!
— Почему — потому?
— Потому что тело не сожгли, баранья твоя башка!
— Точно! Тень из Аида шасть — и в тело...
— Тсс! Идет!..
У всех немедленно нашлись срочные дела. Слуги порскнули во все стороны стаей испуганных воробьев. Дел и правда хватало: из кладовых тащили амфоры с вином, мед, сыр, фрукты, лепешки, прочую снедь. От запаха жарящегося мяса у меня отчаянно бурчало в животе. По этой причине я и не заметил, как дедушка вернулся: ни аромата его торжественного не учуял, ни шагов не расслышал.
Это рабы господина за стадию [8] чуют. И сразу — с глаз долой. А мне-то зачем?
— Как вы могли?! — бушевал дедушка.
Он спускался вниз по мраморным ступеням. Спускался долго, хотя ступенек было мало. На каждой дедушка топал так, что мрамор грозил пойти трещинами. Раз топал, два, десять. До десяти я считать умею.
— Три года! Три распроклятых года!
Папа с бабушкой Меропой шли за ним, как на привязи. Топать они боялись, шли тихонько. Дедушка не оборачивался. Был уверен: жена и сын следуют за ним.
— Три года! И ни одной поминальной жертвы!
Сизиф возмущался на весь двор:
— Ни единой! Издеваетесь, да?! Я вам что, вечно живой?!
На весь двор? На весь акрополь! Небось, даже в городе слышно было.
— Ни жертв, ни достойного погребения! О боги!
Дедушка воздел руки к небесам, запрокинул голову. Кажется, он и впрямь надеялся там кого-то увидеть. На всякий случай я тоже поглядел в небо. Никого, один Гелиос, да и тот уже гнал колесницу к закату. Вряд ли дедушка обращался к солнцу. Впервые я задумался над тем, что они похожи, Сизиф и Гелиос. Небо вокруг солнца цветом напоминало дедушкин хитон: пурпур с золотом, золото с пурпуром, сразу не разберешь.
Привиделось: солнце, огромное, косматое, тяжеленное — и дедушка. Уперся в солнце руками, плечами, толкает в зенит. Привиделось и сгинуло.
— Боги, за что караете?! За какие грехи вы наградили меня такой непутевой родней?! Ты, жена моя, мать моих безмозглых детей! Ты, сын мой, плоть от плоти моей! Да, я сам учил вас бережливости. Бережливости, но не жадности! На жертвах не экономят, зарубите это себе на носу!
— Но отец... — попытался было возразить мой папа.
И тут же умолк, прерван властным жестом дедушки. Сизиф встал посреди двора: живое воплощение гнева. Из укрытий за ним следили десятки глаз. Во взглядах читался ужас и отчаянное любопытство. Я тоже смотрел. Только я не прятался. Чего мне бояться? Это ж не я жертвы мертвому дедушке забыл принести, верно? То есть я не приносил, спору нет. Только не потому, что жадный или забыл. Я не знал, рано мне еще. Если с мечом упражняться рано, значит и жертвы приносить — тоже. Так ведь?
Нет, я правда не боялся.
— О, как стыдно мне было перед владыкой Аидом! Перед его добрейшей супругой Персефоной! Они призвали меня и спросили: «Где твои поминальные жертвы, Сизиф, сын Эола? Где подношения, где обряды? Или ты не был басилеем Эфиры? Или не остались у тебя в мире живых сыновья, жена, внуки? А может, ты не Сизиф, сын Эола? Может, ты бездомный бродяга без роду и племени? Ты, наверное, умер в придорожной канаве?»
Дедушка замолчал — трудно, небось, так долго кричать! Отдышался и продолжил:
— Что я должен был ответить владыке и владычице?! Что, я вас спрашиваю?! Да будь я тогда жив, я сгорел бы со стыда!
— Прости, отец! Мы погребли тебя согласно наставлениям мудрого жреца Атаноя [9]. По его словам, захоронение в толосе без сожжения — великая честь. В этом случае само погребение является величайшей жертвой...
— Где?! Где этот жрец?! Этот лжец и негодяй?! Где он?!
Бабушка Меропа потупилась:
— Он давно умер, муж мой. Но оставил свои наставления потомкам.
Бабушка не казалась испуганной или пристыженной. Это, наверное, потому, что она дочь Атланта.
— Где его богохульные наставления?! Я сожгу их!
— Отец...
— Муж мой...
— Сожгу на алтаре! Вот это и впрямь будет жертва, угодная богам!
— Мы сами, отец! — поспешил заверить папа. — Не к лицу тебе приносить погребальные жертвы самому себе. Мы все исправим! Владыка Аид и могущественная Персефона будут довольны. И ты, заверяю, тоже.
— Ага, как же! — сварливо заявил дедушка.
На миг он превратился из величественного правителя в обычного склочного старика.
— Вам, бездельникам, ничего доверить нельзя! Не для того меня отпустили из Аида, чтобы вы снова все испортили! Сам, все сам! День назначу, жертву выберу... Если и доверю вам ее принести, то только под моим присмотром!
— Как скажешь, отец.
— Как скажешь, муж мой.
— Но сейчас тебя, господин наш, ждет великий пир. Можно ли не отпраздновать твое чудесное возвращение? Я себе этого не прощу! Да и боги, полагаю, не поймут.
— Пир?
Дедушка задумался. Морщины собрались к переносице — точь-в-точь пучок молний! Молнии были черными в косом свете закатного солнца. Миг, другой — и лицо дедушки разгладилось. Хорошо, на этот раз никто в обморок не упал!
— Ты прав, сын мой. — Сизиф широко улыбнулся. — Сначала пир. Гостеприимство — закон и величайшая добродетель! А я в данном случае и гость, и хозяин. Вижу, Главк, ты не совсем безнадежен.
И он возгласил:
— Пир! Великий пир! Сизиф, сын Эола, вернулся из тьмы Аида! Приглашаю всех!
Всех? Значит, меня тоже пустят?
— Ну конечно! — рассмеялся дедушка, оборачиваясь ко мне. Оказалось, я произнес это вслух, можно сказать, выкрикнул. — Тебя, Гиппоной, в первую очередь! Сын Главка, внук Сизифа — кого и звать, если не тебя?!
Я не испугался, честно! Ну попятился, бывает.
Это ноги мои испугались, не иначе.
А дедушка-то меня помнит, оказывается!
3«Ты не стоишь своей соли!»
В мегароне [10] я до того был всего два раза. Пробирался тайком, когда папы там не было. Фрески на стенах рассматривал. Справа красавец Зевс злыдня Тифона молниями лупит. Слева Афродита из пены морской встает. Красивая! На бабушку Меропу похожа. А на дальней стене кого только нет! Эфира-океанида указывает, где наш город возводить. В честь нее, кстати, город и назвали. Дальше сам город — не такой, как сейчас, еще только строится. Гелиос по небу на колеснице едет, вниз поглядывает. Посейдон, весь в пенной белой бороде, корабли в нашу гавань направляет. А вон там, на холме...
Да это же дедушка Сизиф! Точно, он!
Дедушка расположился как раз под собой нарисованным. Мне легко было сравнивать. Похож!
В мегарон стащили столы и скамьи со всего дворца. Гостей набилось — как оливок в пифосе! [11] Братьев моих тоже позвали. И сыновей папиных советников. Остальные — взрослые, понятно. Нам вообще повезло! Если б не дедушка Сизиф, папа бы нас на пир не пустил. Но дедушке он возразить не посмел. Это ведь дедушкин праздник, верно? Да еще какой праздник! Кто еще из Аида возвращался, кроме Сизифа?
А никто!
Мне даже чуточку вина в кубок с водой плеснули, вот!
На возвышении, на резных ложах с подушками, за большущим столом — дедушка, папа и самые доверенные люди. Ниже, на скамьях, за столами поменьше — все остальные. Я думал, дедушка сразу начнет рассказывать про Аид: как туда попал, что видел, как к нам вернулся. Но дедушка ничего такого не рассказывал, ни сразу, ни потом. Все возносили здравицы: богам, дедушке, папе, снова дедушке, нашей семье, гостям, опять дедушке...
Короче, напились вина и давай галдеть каждый о своем. Кричат, перекрикивают — хуже чаек в порту! У меня даже уши заболели. Если дедушка что и рассказывал — ни за что не услышишь.
Но пир — это все равно здóрово! Столько вкуснятины за раз я еще никогда не ел. Даже сыр подали особенный. Подумаешь, невидаль — сыр? Каждый день его ем. А такого, оказывается, не пробовал! Даже не знал, что такой бывает. Видать, в честь праздника из тайника достали.
Ну, баранина — это само собой. Вяленые смоквы, дыня — м-м-м, объедение! Орехи, жаренные в меду. Лепешки с медом и без. В одну лепешку Алкимен мне соли сыпанул. Вином плеснул, а по мокрому — солью, от души. Раба за эту соль не купишь, но солдату дней за десять уплатить можно [12]. Это точно Алкимен, я знаю! Хотя и не видел. Плеваться за столом нельзя, а очень хотелось. Алкимен косился на меня исподтишка, давился от смеха.
— Ты не стоишь своей соли! — сказал я ему.
Он обиделся.
Я тоже давился, но не от смеха. Тот кусок, что откусил, я все-таки проглотил. А остальное втихаря под стол бросил. Сперва думал папе нажаловаться. Он бы за такую растрату с Алкимена три шкуры спустил. Думал я, думал и передумал.
Из-за Алкимена нас позже вон выставили. Детей, в смысле. Этот дуралей стащил у слуг кратер с вином. Пил-пил, аж задохнулся. Дух перевел, кратер уронил и давай орать не пойми что. Хотел на стол вскочить, упал. Ну, нас всех и погнали. Наверное, хорошо, что погнали. Есть я больше не мог, про царство теней дедушка помалкивал, а галдеж гостей мне уже все уши забил. Еле вытряс его оттуда, пока к себе шел.
Глаза у меня слипались. Вслепую шел, на ощупь.
4В Аиде звезд нет
Проснулся я среди ночи.
Живот свело так, что хоть плачь. Видать, на пиру объелся. А Пирену — он рядом со мной спит — хоть бы хны! Даже обидно. Сопит, гад, будто так и надо!
Темно было, как... Как в Аиде! Это я из-за дедушки Аид вспомнил, не иначе. Раньше бы и в голову не пришло. Ну, до отхожего места я и с закрытыми глазами дорогу найду. Первый раз туда ночью бегать, что ли?
Выбрался на задний двор. В небе Луна-Селена сияет, дорогу подсвечивает. Спасибо ей! Я бегом припустил, добежал. Еле успел! Ф-фух, полегчало! Хотел обратно идти, досыпáть, смотрю — сидит кто-то посреди двора. На колоде для рубки дров.
Кому это не спится? Я подошел.
— Звезды, — мечтательно произнес дедушка Сизиф. — Они прекрасны.
Он глядел в небо. Я тоже посмотрел. Ну да, звезды. Словно там, на небе, город, скрытый тьмой, а в окнах светильники горят. Большущий, должно быть, город! Куда нашей Эфире до него! Кто в нем живет? Боги, кто же еще?
— Давно не видел.
С кем он говорил? Со мной? Не со мной? Так, вообще?
Я решил, что со мной.
— В Аиде звезд нет, дедушка?
Он долго молчал, прежде чем ответил:
— Нет, Гиппоной. В Аиде звезд нет.
Про солнце с луной я спрашивать не стал. Царство теней — оно ведь под землей, верно? Значит, туда Гелиос с Селеной не заглядывают. Мог бы и про звезды сам догадаться.
— А что там есть? Расскажи!
Свет луны: молоко с серебром. Облитое этим молоком лицо дедушки казалось неживым. Будто из мрамора высекли. Я сперва на это внимания не обратил — так мне хотелось услышать рассказ про подземное царство. Но тут лицо Сизифа почернело, будто обуглилось, и этого я уже не мог не заметить.
Я попятился. Меня продрал озноб. То ли порыв ветра налетел, то ли от дедушки холодом повеяло. Я моргнул, и чернота сползла с лица Сизифа, как обгорелая тряпка. Мельком взглянув на небо, я выдохнул с облегчением. Всего лишь облако! Оно закрыло луну, но среброликая Селена досадливо отмахнулась — и ночной Зефир унес облако прочь.
С дедушкой все в порядке! Но почему у меня коленки дрожат?
Ноги не хотели слушаться. Я их заставил. Гнуться — нет, а идти — да. Сизиф молчал, ждал. Я подошел, с замиранием сердца коснулся его колена. Колено как колено. Теплое. Твердое. Сбоку волоски на коже.
— Убедился? — засмеялся дедушка. — Как по-твоему, парень, я живой?
Я с уверенностью кивнул:
— Живой!
— Ну, тогда давай я тебе расскажу, как живой живому...
— Про Аид?!
Старших перебивать нельзя, это я знал. Само вырвалось, вот беда.
— Нет, не про Аид. Уверен, мой рассказ будет куда интересней. Как насчет сказки про богов и чудовищ? Хочешь послушать?
— Хочу!
— Про подвиги и сражения?
— Хочу!!!
— Про ум, хитрости, уловки. Как же без них?
Ум, хитрости и уловки я пропустил мимо ушей. До них ли, когда впереди подвиги и сражения?
* * *
Эту фразу Сизифа я вспомню много позже — и буду помнить до конца моих дней. Да, в детстве глупый Гиппоной — ветер в голове! — не понимал, почему дедушка не хочет рассказывать внуку о царстве теней. Но дед легко отвлек ребенка от лишних мыслей, предложив взамен увлекательную сказку, — и я с радостью согласился.
Придет время, и я пойму, почему он не хотел рассказывать об Аиде. И нисколько не пожалею, что согласился на сказку. Она того стоила.
5Сказка дедушки Сизифа
— В давние-предавние времена...
— Тысячу лет назад!
— Нет, не так давно. Скажем иначе: в то далекое время, когда кое-кто из эфирских мальчиков еще не бегал мочиться на двор, докучая старому деду, Зевс, владыка богов, отдыхал, измученный тяжкой битвой. Могучему Громовержцу нужно было набраться сил и изобрести способ, как победить своего врага, рожденного из земных недр...
— А я знаю! Молнией! Молнией его — бац!
— Молния — это да. Молния — сила. Но победу в битве приносят не только сила и храбрость. Ум и хитрость не менее важны. Это так же верно для богов, как и для людей. Ум и хитрость! Запомни это, парень, и слушай дальше.
— Я запомню, дедушка.
— Пока Громовержец отдыхал и строил планы, его благородная супруга Гера втайне от мужа созвала обитателей Олимпа. «Зевс ослабел, — заявила Гера, чье благородство сегодня превзошло все мыслимые пределы. — Раньше ему не требовался отдых перед новым сражением. Раньше он мог одержать две победы за ночь и приступить к третьей, даже не переведя дух. А сейчас? Сами видите, бессмертные. Хорошо, нас он ни во что не ставит. Так было всегда, мы привыкли. Но и сам он уже не тот, что раньше. Нам нужен новый владыка богов!» Владычица — вот что подумала Гера, но вслух не произнесла. Ум и хитрость, помнишь? Многие боги соблазнились. Каждый надеялся занять трон Зевса, каждому стал мил коварный замысел — свергнуть Зевса с Олимпа.
— Каждому? Это значит — всем?
— К счастью, не всем. Но мятежники были в большинстве.
— Они напали на самогó Зевса?!
— Ослаб Зевс или нет, остальные боги его все равно опасались. Они не рискнули напасть на него в открытую. Вместо этого они поручили Гефесту, богу-молотобойцу, выковать в своей кузне чудесную золотую цепь. Когда Зевс заснул, семья подкралась к нему и сковала золотой цепью.
— Зевс — самый могучий бог! Он проснулся и разорвал цепь, да?!
— Зевс могуч, ты прав. Но любой силе есть предел. Гефест — искусный мастер, создание чудес — его божественный дар. Он сковал такую цепь, которую не под силу разорвать никому, даже Зевсу. Оставив пленника проклинать вероломство родичей, боги стали спорить, кому теперь достанется власть на Олимпе. Думаю, вряд ли бы они до чего-то договорились — и в итоге принялись бы сражаться за право воссесть на трон. От этой битвы проистекли бы великие беды, но, к счастью, случилось странное.
— Чудо?!
— Можно сказать и так. Поблизости объявилась морская богиня Фетида, которая не участвовала в заговоре. Она увидела плененного Зевса и тут же поспешила за помощью.
— Вот молодец! Только какое ж это чудо?
— А ты пораскинь мозгами, парень. Фетида — не олимпийская богиня. Она всего лишь морская нимфа, дочь старца Нерея. Что нереида делала на Олимпе?
— Ну мало ли? Может, в гости зашла!
— В гости? Вот так запросто, на Олимп?!
— Ее папа Нерей прислал за чем-нибудь!
— Папа? Ну допустим. Мог и прислать — например, за солью. В море соль кончилась, а на Олимпе ее навалом. Берешь лепешку, сыплешь гору соли, а потом подсовываешь брату или сестре — и хохочешь. У богов свои дела, не нам о них судить. Но вот что удивительно: Гера всегда покровительствовала Фетиде. Почему же та не примкнула к ее заговору? Почему пошла против своей благодетельницы?
— Она хотела спасти Зевса! Зевс главнее Геры!
— Тут не поспоришь: Зевс главнее Геры. Вот только все милости Фетида получала от Геры, а не от Зевса. Разве что она заранее знала — или предполагала, — чем все закончится. И решила примкнуть к будущему победителю.
— Нет, дедушка! Она хотела замуж!
— За кого, парень?
— За Зевса! Все девчонки хотят замуж. А тут целый Зевс!
— Смотри-ка! Да ты вырос, парень. Ты уже умнее меня, а это кое-чего стоит. Замуж? Вполне вероятно. Но и это не самое удивительное.
— А что же, дедушка?
— Не что, а кто. Всех удивительней тот, кого Фетида привела на помощь Зевсу.
— Кто же он?
— Бриарей Сторукий, охранник Тартара. Сила сильная, древняя, превыше новых сил.
— Ух ты!
— И опять ты прав, парень. Ух ты! Уговорить Сторукого оставить службу и явиться на Олимп — это не комар начихал! Разве что сама мать Гея попросила. Увидела, чем война богов ей грозит, если олимпийский трон делить станут.
— Нет, Сторукому Зевс приказал! Послал к нему Фетиду...
— Приказал? Сторукому никто не указ. Только у Бриарея хватило силы разорвать золотую цепь, которой был скован Зевс. Видя, кто пришел на помощь Громовержцу, боги устрашились и покорились своему владыке.
— И Зевс их покарал!
— Нет, Зевс их помиловал. Всех, кроме своей благородной, своей предприимчивой супруги, которая затеяла мятеж. Ее Зевс подвесил на обрывках той самой цепи между небом и землей. А к ногам Геры он привязал две тяжелые медные наковальни, которые повелел принести Гефесту. Видя, как мучается его мать, Гефест попытался вступиться за нее перед отцом, но тот в ярости сбросил его с Олимпа. Во второй раз уже, кстати.
— Зевс скидывал его дважды?!
— В первый раз Гефеста сбросила Гера, стыдясь уродливого сына. Тогда он сломал ногу и до сих пор хромает. Теперь же его сбросил отец. Веди себя хорошо, парень, мне бы не хотелось скидывать тебя с крыши нашего дворца. И Главку не хотелось бы, уж поверь мне!
— Гефест сильно ушибся?
— Не сомневаюсь в этом. Но меньше, чем в первый раз. Привычка, знаешь ли... Кстати, на этом наша история не закончилась.
— А что было дальше?
— Дальше самое интересное. Висела Гера между небом и землей, висела, размышляла о содеянном и в конце концов взмолилась своему супругу: «Смилуйся, мой великодушный муж! Я клянусь никогда больше не злоумышлять против тебя! Вся олимпийская Семья тебе в том поклянется!» И прозвучала клятва: все пообещали, что не станут оспаривать верховную власть Зевса. Тогда Зевс освободил Геру. А обрывки чудесной золотой цепи упали на землю.
— Небось, здоровенная была?! Если ее сам Зевс порвать не мог?
— Здоровенная, парень. В руку толщиной. Даже больше.
— Это ж какая уйма золота! Вот бы найти!
— Тут ты опоздал. Нашли без тебя, люди — они глазастые. Кто нашел — обрадовался, понятное дело. Один на кубки и блюда переплавил. Другой купил на это золото корабли, рабов, разные заморские товары...
— Мечи надо было покупать! Доспехи! Вооружить армию и кого-нибудь завоевать! Кучу добычи захватить!
— Уверен, кое-кто так и поступил. Но жил да был один старый хитрец, который нашел обрывок цепи и не стал его ни переплавлять, ни продавать.
— Что же он сделал?
— Припрятал. Не слишком далеко, чтобы цепь всегда была под рукой. А когда за старым хитрецом явился бог смерти Танат, чтобы забрать его душу в Аид, — хитрец набросил на Таната эту цепь. Сказать по правде, он не знал заранее, что случится. Но цепь, на его счастье, почуяла бессмертного. Сама собой она обвилась вокруг бога, сковав его по рукам и ногам. Вырваться Танат не сумел — и старый хитрец продолжил жить.
— Здóрово! А Танат остался у него в плену?
— На какое-то время.
— На какое?
— На три года. Три лишних года жизни — это немало, уж поверь мне. В течение этих лет никто из людей не умирал — Танат ведь был скован! Позже боги забеспокоились, выяснили, где находится Танат, и отправили бога войны Арея его освободить. Вдвоем Танат и Арей разорвали-таки цепь...
— Как разорвали?!
— С трудом. Но справились — все-таки обрывок, не целая, когда потребовался Сторукий. И старый хитрец отправился прямиком в Аид.
— Жалко его, дедушка...
— Брось жалость, парень! Три года чистого выигрыша — завидовать надо!
— А цепь?
— Ее забрал Арей. Танат после заключения шарахался даже от единственного звена этой цепи. Он не прикоснулся бы к ней ни за какие медовые коврижки!
— Это все, дедушка? Конец сказки?
— Нет, у нее есть продолжение. Но это уже совсем другая история.
— Расскажи!
— Не сейчас. Засиделись мы, рассвет скоро. Пойдем-ка спать. Гипнос [13] — не Танат, хоть и родной его брат-близнец. Уважь бога, хорошо? Надеюсь, он будет милостив к нам обоим...
СТАСИМ [14]Песня, охота и битва
Белый конь пасся на склоне горы, возле ручья. Время от времени он поднимал голову к небу и тихонько ржал. Вот он поднял голову в очередной раз, начал рыть землю копытом. Фыркнул, но уже иначе: громко, с беспокойством, почуяв что-то необычное.
Сперва пришел аромат лилий. Следом явилась песня.
Девушки и впрямь были похожи на свежие, только что распустившиеся лилии. Одетые в кисею, которая скорее подчеркивала прелесть их наготы, нежели скрывала ее, юные красавицы двигались в танце: неспешном, причудливом, завораживающем. Кружились, вскидывали вверх тонкие руки, изгибались, как тростник под ветром. Казалось, песня рождается сама, беря свой исток не в горле, и даже не в сердце, но в пляске.
Чудесный напев оставил коня равнодушным. Кого другого искусство муз [15], владычиц гармонии, свело бы с ума, но только не Пегаса. Танцевали девицы ниже по склону, в отдалении, достаточном, чтобы конь не видел в них угрозы. Вернувшись к трапезе, Пегас дергал ухом: вслушивался на всякий случай.
Трава вокруг него пошла в рост.
Вот сочные травинки достигли конских колен, дотянулись до брюха. Пегас увеличился: не любил щекотки. Трава в испуге съежилась, зато выросли деревья. Липы стали как дубы, дубы — как скалы. Это не смутило бы Пегаса, когда б не содрогание тверди под могучими копытами. Конь вырос еще на ладонь, на две, раздался в груди. Запрокинув голову, он заржал: страстно, дико. Мерцание над конской спиной отрастило перья, обернулось крыльями. Крылья хлестнули воздух, гром прокатился над горой, говоря всем: я, Пегас, здесь!
В ответ грянул гром с севера.
В считаные мгновения он распространился от Олимпа до Геликона, на миг заглушив пение муз. Зевс, владыка богов, отвечал: я тоже здесь! Два грома переплелись, смешались так, что и не отличить, где чей. Угасли, стихли, вернув миру песню и аромат лилий. Все успокоилось, кроме горы и Пегаса. Конь встал на дыбы, ударил воздух копытами. Что-то творилось под ним, в самых недрах Геликона, прорываясь наружу неведомой опасностью. Чудовище ли прервало свой сон? Бог ли восставал к свету?!
Вслед за травой, деревьями, конем начала расти гора. Геликон распухал, как тесто на кислой закваске, тянулся ввысь.
Склоны вскипели осыпями, осыпи превратились в лавины. Распахнулись трещины, открылись жадные рты пропастей. Огромный дуб вывернуло с корнем. Дерево упало рядом с конем, едва не придавив свою жертву. В последний момент Пегас успел прянуть в сторону. Конь озирался по сторонам, высматривая дорогу для бегства — а может, хотел взлететь, но рост горы мешал разгону.
Музы пели как ни в чем не бывало. Двигались по кругу единым существом, девятиглавым и восемнадцатируким, продолжая свой танец. В грохоте и шуме их песня не потерялась, как причина не может затеряться в следствиях. Те, кто свел Геликон с ума, толкнул на подвиги, несвойственные горам, знали, что делают и зачем.
С небес за горой следила Афина.
Богиня выжидала. Вот-вот придет ее час, звездный час победы. Конь в страхе начнет метаться, забыв себя, утратит бдительность, изойдет пеной. Рискуя поломать ноги, лишенный свободы маневра, он будет тщетно мечтать о полете, пытаться взять разбег, всякий раз натыкаясь на разлом, трещину, рухнувшее дерево. И тогда Афина падет на него с небес, будто коршун на добычу. Оседлает, сдавит бедрами крутые бока, вцепится в гриву пальцами-клещами.
В своей силе богиня не сомневалась.
Уговорить муз оказалось легче, чем она предполагала. Вызов — вот чем кормится истинное искусство, ест жадно, забыв о приличиях. Есть ли вызов больше, привлекательней, чем поймать неуловимого коня, заставив гору пойти в рост?! Формальной наградой за услугу послужило обещание Афины, что на барельефах и алтарях ее, Деву Воительницу, будут изображать в окружении муз. Где восхвалят Афину, там помянут и «мыслящих». Если раньше музы кормились жертвами смертных при Аполлоне-Мусагете [16], то теперь им доставался еще один жирный кусок.
Лучше иметь в покровителях двух детей Зевса, сына и дочь, чем только сына. Муза ты или торговец зерном — расчет один, как ни крути.
Дело шло к концу. Пегас метался, пугаясь все сильнее, силы коня иссякали. Вот он снова взвился в воздух, танцуя на задних ногах. Стал больше, еще больше: таким конь не был никогда. Афина улыбнулась: вынужденный гигантизм жертвы развлекал ее, бодрил, делал ситуацию предсказуемой. В боевой ипостаси богиня и сама вырастала до чудовищных размеров.
Куда там какому-то жеребцу?
Улыбка сверкнула и погасла. Неумолимая логика военной стратегии вошла в противоречие со смутным окриком чутья, темным предчувствием опасности. Что-то в происходящем — знать бы что! — насторожило богиню. Она уже готова была ринуться на добычу, но промедлила — и это, пожалуй, спасло Афину от многих невзгод. Рост Пегаса прекратился, но конь вскипел силой изнутри. Даже на расстоянии Афина ощутила избыток этой силы, первобытной мощи, требующей немедленного выхода. И выход нашелся, не заставил себя ждать.
Пегас ударил гору копытом. Так, словно бил врага.
Афина знала, как бьет молния отца. Знала, как бьет трезубец дяди, повелителя морей. Молот Гефеста, собственное копье Афины, неумолимая ладонь судьбы, — о, богиня могла считать себя истинным знатоком ударов! Сейчас, ужасаясь тому, что видит, она добавила в свою коллекцию еще один удар, достойный стать жемчужиной собрания.
Звук, родившийся от столкновения копыта с вершиной, оглушил Афину. Исчезла какофония лавин, умерла песня муз. Даже если от Олимпа и донесся новый гром, возвещая миру о гневе Зевса, никто его не услышал. Там, где еще недавно танцевали музы, властвуя над каменными мышцами и рудными костями Геликона, не осталось и следа от хоровода девушек. В небо метнулась стая испуганных птиц: утка, вертишейка, зеленый дятел, чомга, зеленушка, щегол...
Забыв о договоре с Афиной, обезумев от паники, музы спасались бегством.
Гора прекратила расти. Геликон уменьшался, возвращался к исходному состоянию. Эхо удара бродило в темных недрах, приказывало, угрожало. Не подчиниться значило изойти крошкой, рассыпаться трухой, горкой стылого пепла. В том месте, где копыто соприкоснулось с мятежным Геликоном, забил родник. Ледяная вода растекалась окрест, бурлила, отказывалась угомониться, впитывалась в землю. Ее холод остужал жар, еще недавно пылавший в самом сердце Геликона, приводил гору в чувство, погружал в сон: вечный, первобытный.
— Гиппокрена, — вслух произнесла Афина, не замечая, что дрожит всем телом. — Конский источник. Не знаю, дружок, кто будет пить из тебя. Кто угодно, только не я. Нет, я еще не сошла с ума!
Белый конь пасся на склоне горы, возле ручья. Дергал ухом, вслушивался на всякий случай. Время от времени поднимал голову к небу, негромко ржал — все тише с каждым разом. Угрожал? Успокаивался? Гора оставалась горой, не выкидывала безумные коленца. Высоко в небе, забыв об охоте, парила сероглазая дочь Зевса.
Иные битвы, сказала себе Афина. Иные горы, иные молнии.
Ты, богиня? Помнишь, с чего все началось?
* * *
...Скалы летели в небо.
Их встречала свирепость молний, дробя на части. Гулкий камнепад без сил валился вниз, туда, откуда пришел. На смену павшим являлись новые воины: скалы в количестве много большем, чем раньше, раскаленные от бешеного гнева.
Зевс бился с Тифоном [17].
Бежали все. Бежал сребролукий Аполлон, теряя стрелы из неиссякаемого колчана. Бежала его сестра, Артемида-Охотница, неслась прочь и визжала на бегу как раненая свинья, забыв о достоинстве. Бежал хромой Гефест, подволакивая искалеченную ногу. Даже Арей, буйный Арей, чье второе имя Война, бежал без оглядки. Сыновья следовали за ним: Ужас и Страх в ужасе и страхе.
Копье дрожало в руке Афины. Ей хотелось думать, что от ярости.
Она единственная осталась с отцом. И сейчас сгорала со стыда, не имея возможности прийти Зевсу на помощь. Самый великий подвиг, который достался сегодня на долю Афины, — смотреть, всего лишь смотреть. Вмешайся она в битву, схватись с Тифоном, желая дать отцу краткую передышку, и Тифон прихлопнул бы Воительницу, даже не заметив этого.
Так человек убивает комара.
В Тифоне действительно было много от человека, а может, от титана или бога. С кем сравнить несравнимое? От бедер и до макушки он походил на обычного мужчину, только выше, много выше самых высоких гор. Тело исполина поросло густым черным волосом, но случалось и такое, что вместо волос росли жесткие орлиные перья. Косматая голова достигала звезд, а руками он, казалось, мог охватить мир от востока до запада. Охватить?! Спеленать, раздавить, пожрать. Каждая ручища имела полсотни пальцев, длинных и мосластых, каждый палец оканчивался головой дракона. Когда драконьи пасти впивались в скалы, прежде чем отправить их в смертоносный полет, кривые зубы крошили гранит как черствую лепешку.
Изо рта и ноздрей гиганта вырывалось пламя, родственное пламени молний. Должно быть, в Тифоне развели костер, способный сжечь все, что ни предложи ему в пищу. Небесное оружие гасло, ударяя в мятежника; огонь растворялся в огне, усиливая, а не уничтожая.
Ноги Тифона — две могучие змеи — кольцами опутали утесы Касии, вершину, на которой воздвигся разъяренный великан. Скальные уступы превратились в сплошное шевеление бронзовой чешуи. Впору было поверить, что из бездн Тартара, преступно бросив свой пост, поднялся один из Сторуких [18]. Могучий, Гнев или Пашня — кем бы он ни был, царствованию Зевса подходил конец.
Зря, что ли, боги бежали?
Скал Тифону хватало вдосталь. При необходимости он разорвал бы все чрево Геи-Земли, своей матери, чтобы швырнуть его во врага. Громовержец в ответ призывал тучи, беременные молниями, выхватывал из них, покорных воле господина, огненные перуны. Так копейщик на колеснице расходует свой запас, швыряя во вражеский строй копье за копьем. Тучи сыпали искрами, иссякали, развеивались клочьями по ветру.
Ждать новых было неоткуда.
Молний всегда меньше, чем камня, подумала Афина. Позже эта мысль станет преследовать ее, родив множество удивительных последствий. Но сейчас само слово «позже» звучало небылицей, тем, чего не произойдет никогда.
Богиня была права. Произошло то, чего не случалось никогда. Лишенный молний, проигрывая сражение, Зевс кинулся в рукопашную.
В руках Громовержца сверкал кривой меч — серп Крона-Временщика [19], которым Зевс в седой древности оскопил своего отца, гнусного пожирателя собственных сыновей. Пав на Тифона, оторопевшего от такой безрассудной смелости, Зевс издал боевой клич и полоснул врага серпом. Фонтан серебряной крови исторгся наружу, забрызгав небо. Способный рассекать бессмертную плоть, серп исправно делал назначенную ему работу. Но Тифон был слишком велик, чтобы одна-единственная рана причинила ему существенный вред, а до второй раны дело не дошло. Змеиные кольца оплели владыку богов и людей, связали, превратили в беспомощнейшее из существ.
— Что теперь? — спросил Тифон. — Что, падаль?
И расхохотался.
Драконы его левой руки вырвали серп у обессилевшего пленника. Драконы правой сжались в многопалый бесформенный кулак. Не переставая смеяться, Тифон с размаху ахнул этим кулаком Громовержца в висок. Голова Зевса дернулась, поникла, глаза закрылись. Блаженное беспамятство, которое не вожделеет побед и не знает поражений, снизошло на владыку богов и людей.
— Что теперь? — повторил гигант.
Лишенный молний, проигрывая сражение, Зевс кинулся в рукопашную.
Слезы текли по лицу Афины. Впервые в жизни, в долгой и буйной жизни божественной Девы, плакали эти серые глаза. Обвиснув в мертвой хватке Тифона, бесчувственный отец был прекрасен. Он был прекрасен в битве, там, где миру являлась его истинная суть, но сейчас в Зевсе крылась другая истина: хрупкая, болезненная, не уступающая по красоте правде сражения. Смертность, поняла Афина. Смертность, исход, конечность. Ты сделал все, что мог, затем все, что должен, и теперь уступаешь силе, которая превыше тебя. В таком поражении нет позора, нет в нем и поражения.
Общий у смертных Арей, говорят люди, желая подчеркнуть, что военная удача непостоянна, ветреней гулящей девки. Ну что же, общий Арей и у бессмертных. Тот Арей, который сегодня сбежал с поля боя.
Позже Афина забудет эти слезы. А может, не захочет вспоминать, гоня былое прочь, стыдясь своих чувств. Одно останется с богиней навеки — тайная влюбленность в смертность как в некий высший предел. Бог в ее постели? Воображение Афины отказывалось представить такое, содрогаясь от омерзения. Бог? Титан? Чудовище? Кто угодно из ее собственного племени — никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах.
Смертный? Тот, кто любит, ярится, мыслит, сомневается, зная, что всему этому придет конец? Тот, кто живет, как Зевс, Арей, Аполлон, зная, что это не так? Битва с Тифоном оставила Афине одну часть великого понимания. До дня, когда богиня найдет вторую часть своей натуры, пройдет немало лет.
Но это случится потом. А сейчас...
— Что теперь?!
То, что Афина увидела, едва не лишило богиню рассудка. Действуя кривым мечом, как мясник, разделывающий бычью тушу, Тифон вырезал у пленника сухожилия на руках и ногах. Гигант орудовал серпом ловко и умело, слишком ловко для такой колоссальной туши. Сухожилия, отделенные от тела, Тифон сунул в рот и прикусил зубами, чтобы не выронить. Струны божественной плоти трепетали во рту исполина, дергались, похожие на червей, пойманных для рыбалки. Бессмертное жило, даже разделенное на части, пыталось вернуться обратно, на положенное место. Огонь, вырываясь наружу из Тифоновой пасти, жег сухожилия, местами обугливал, но Зевсовы жилы упрямо восстанавливали первоначальный вид.
Впору было радоваться, что несчастный Громовержец потерял сознание до начала этой пытки.