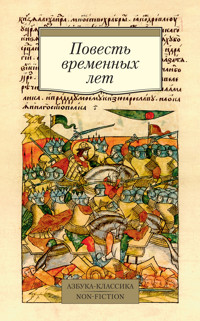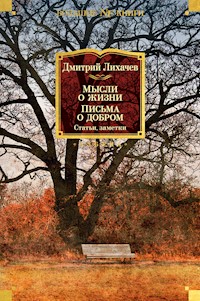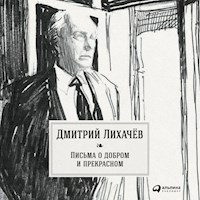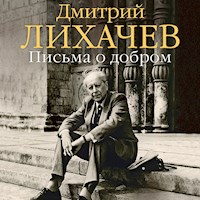Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Время безжалостно к человеческой правде: слабеет народная память, лгут документы, слишком легко уходят в небытие деяния, настроения прежних лет. В своей книге мемуаров и размышлений о жизни академик Д.С. Лихачев удерживает "живое ощущение современников", мудро и бережно сохраняя образы людей и событий ХХ века, о которых, возможно, никто и никогда больше не вспомнит.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Оглавление
Дмитрий Сергеевич
ЛИХАЧЕВ
1906 — 1999
Дмитрий
ЛИХАЧЕВ
Мысли о жизни: Воспоминания
Санкт-Петербург
2013
Лихачев Д.
Мысли о жизни:Воспоминания/ДмитрийЛихачев. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-07734-8
16+
Время безжалостно к человеческой правде: слабеет народная память, лгут документы, слишком легко уходятв небытие деяния, настроения прежних лет. В своей книгемемуаров и размышлений о жизни академик Д. С. Лихачев удерживает «живое ощущение современников», мудро и бережно сохраняя образы людей и событий ХХ века, о которых, возможно, никто и никогда больше не вспомнит.
©Д. С. Лихачев(наследники), 2014
©В. В. Пожидаев, оформление серии, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014 Издательство АЗБУКА®
«И сотвори им, Господи, вечную память...»
Предисловие
С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому — кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни(детство и молодость, зрелые годы, старость) старость — самый длинный период и самый нудный.
Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, чтомемуаристам изменяет память (мемуары без отдельныхошибок — крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.
* * *
Главный недостаток многих мемуаров — самодовольство мемуариста. И избежать этого самодовольства очень трудно: оно читается между строк. Если жемемуарист очень стремится к «объективности» и начинает преувеличивать свои недостатки, то и это неприятно. Вспомним «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Тяжелое это чтение.
Поэтому — стоит ли писать воспоминания? Стоит, — чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы.
Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие — развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.
Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное — «мелочи», из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.
Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? <...> Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того?»
Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные в основном с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.
Род Лихачевых
Согласно архивным данным (РГИА. Фонд 1343. Оп. 39. Дело 2777) основатель петербуржского рода Лихачевых — Лихачев Павел Петрович — из «детей купеческих Солигаличских» был принят в 1794 г. во вторую гильдию купцов Санкт-Петербурга. Приехал он в Петербург, конечно, раньше и был достаточно богат, ибо вскоре приобрел большой участок на Невском проспекте, где открыл мастерскую золотошвейного дела на два станка и магазин — прямо против Большого гостиного двора. В Коммерческом указателе городаСанкт-Петербурга на 1831 г. указан номер дома 52, очевидно ошибочно. Дом № 52 был за Садовой улицей, а прямо против Гостиного Двора находился дом № 42. Правильно указан номер дома в «Списке фабрикантам и заводчикам Российской империи» (1832. Ч. II. СПб., 1833. С. 666–667). Там же приводится и список изделий: всех сортов форменные офицерские вещи серебряные и апплике, позументы, бахромы, парчи, канитель, газ, кисти и пр. Указано три прядильных станка. Наизвестной панораме Невского проспекта B. C. Садовникова изображен магазин с вывеской «Лихачевъ» (такие вывески с указанием одной только фамилии были приняты для самых известных магазинов). В шести окнах по фасаду выставлены скрещенные сабли и различного рода золотошвейные и позументные изделия. По другим документам известно, что золотошвейные мастерские Лихачева находились тут же во дворе.
Сейчас номер дома 42 соответствует старому, принадлежавшему Лихачеву, но на этом месте выстроен новый дом архитектором Л. Бенуа.
Как явствует из «Петербургского некрополя» В. И. Саитова (СПб., 1912–1913. Т. II. С. 676–677), приехавший из Солигалича Павел Петрович Лихачев родился 15 января 1764 г., похоронен на Волковом православном кладбище в 1841 г.
Семидесяти лет Павел Петрович и его семья получили звание потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Звание потомственных почетных граждан было установлено манифестом 1832 г. императором Николаем I с целью укрепить сословие купцов и ремесленников. Хотя звание это и было «потомственным», право на него мои предки подтверждали в каждое новое царствование получением ордена Станислава и соответствующей грамотой. «Станислав» был единственным орденом, который могли получить недворяне. Такие грамоты на «Станислава» были выданы моим предкам Александром II и Александром III. В последней грамоте, выданной моему деду Михаилу Михайловичу, указаны все его дети, и в числе их мой отец Сергей. Но отцу уже не пришлось подтверждать своего права на почетное гражданство у Николая II, так как благодаря своему высшему образованию, чину и орденам (среди которых были «Владимир» и «Анна» — не помню, какихстепеней) он вышел из купеческого сословия и принадлежал к «личному дворянству», т. е. отец стал дворянином, впрочем без права передавать свое дворянство детям.
Потомственное почетное гражданство мой прапрадед Павел Петрович получил не только тем, что был на виду в петербургском купечестве, но и постоянной благотворительной деятельностью. В частности, в 1829 г. Павел Петрович пожертвовал три тысячи пехотных офицерских сабель Второй армии, сражавшейся в Болгарии.Об этом пожертвовании я слышал еще в детстве, но в семье считалось, что сабли были пожертвованы в 1812 г. во время войны с Наполеоном.
Все Лихачевы были многодетны. Мой дед по отцу Михаил Михайлович имел собственный дом на Разъезжей улице (№ 24), рядом с подворьем Александро-Свирского монастыря, чем объясняется, что один из Лихачевых пожертвовал крупную сумму на построение часовни Александра Свирского в Петербурге.
Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и в моем детстве уже жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайловичне был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его — Иван Степанович Семенов. Дело втом, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла, когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 г. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) вторично женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова — Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас — потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».
И. Волгин пишет:
Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно.Более того: часть истраченной суммы была возвращена АннеГригорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:
«Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленных мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.
Церковный староста Владимирской церкви Иван Степанов Семенов»1.
Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был в точном смысле купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял вПетербургской ремесленной управе. Был он главой артели. Но в моем детстве артель деда была уже не златошвейной.
И действительно, дела золотошвейных мастерскихЛихачевых пошли плохо уже при Александре III, упростившем и удешевившем форму русской армии. В архиве Зимнего дворца сохранилось прошение моего прадеда о пособии с положительными отзывами. Прошение это само по себе любопытно:
«Прошение потомственного почетного гражданина СПб.Iгильдии купца Михаила Лихачева о выдаче ссуды 30 000 рублей для поддержания торговли парчами, галунами и золотошвейными товарами». Отзыв министра Императорского двора — «ввиду почти столетнего существования фирмы и той пользы, которую деятельность деда, отца и сына принеслазолотошвейному парчовому делу в России, — Воронцов-Дашков находит справедливым оказать поддержку. Из представленных Лихачевым документов усматривается, что торговляпарчами, галунами и золотошвейными изделиями производилась торговым домом Лихачева с 1794 г., представители дома неоднократно удостаивались высочайших наград и похвальных отзывов со стороны выставочных комиссий и заказчиковза доброкачественность и изящество представленных изделий.Отцу просителя, почетному гражданину Ивану Лихачеву, в 1859 г. разрешено именоваться с сыновьями фабрикантамизолотошвейных и золототканых изделий Императорского двора и иметь над местом торговли и на изделиях государственный герб. Таким образом, заслуги фирмы довольно значительны, и продолжение деятельности ее было бы весьма желательно» (ЦГИА. Ф. 40. Oп. 1. Д. 35. 1882 г. Л. 462).
Однако на документе стоит надпись: «Деньги даны не были».
Вот почему дед перешел на полотерное дело. В справочниках «Весь Петербург» за два последних перед революцией десятилетия дед значился уже с указанием специальности «полотерное дело». В детстве я помню, что к квартире деда примыкало общежитие полотеров с окнами на двор. Дед строго следил за поведением своих рабочих, тем более что артель отвечала за каждую пропавшую, разбитую или просто испорченную вещь,где натирались полы. Помню, что артель натирала полы в Адмиралтействе и других дворцовых помещениях. Набирались мастеровые из хороших, крепких крестьянских семей. Дед следил: умел ли рабочий есть за столом с крестьянской опрятностью и умел ли по-крестьянски резать хлеб. По этим признакам дед, говорят, безошибочно определял моральные качества своих людей.
Дед, как я уже сказал, был старостой Владимирского собора и летом отдыхал на даче в Графской (теперь Песочной) рядом с церковью, где часто выступал с проповедями знаменитый тогдашний проповедник священник Философ Орнатский.
Первая жена Михаила Михайловича Лихачева Прасковья Алексеевна умерла от чахотки, оставив ему четверых детей: Анатолия, Гавриила, Екатерину, Сергея. От Прасковьи Алексеевны остались фотография в группе ее родных и большой портрет в черной овальной раме, сделанный итальянским карандашом по фотографии. На портрете отец мой ребенком лет трех сидит в юбочке (как тогда полагалось одеваться маленьким мальчикам) на руках у матери. Долго сохранялся у нас кусочек ее шотландского платка. Шерсть в нем была так тепла, что кусок этот употреблялся в нашей семье только в лечебных целях. Пропал этот кусок после смерти моей матери, у которой он хранился. Сохранилась еще маленькая записочка с перечислением имен ее детей; может быть, для поминания в церкви? Это было все, что осталось от Прасковьи Алексеевны. Большинство людей умирает, оставив по себе не больше, но дети — главное!
Вторым браком Михаил Михайлович был женат на Александре Ивановне — дочери старосты Владимирского собора Семенова, обязанности которого дед после смерти Семенова принял на себя. О Семенове я уже писал выше.
В 1904 г. Михаил Михайлович Лихачев переехал из собственного дома на Разъезжей в большую квартиру в новом доме напротив Владимирской церкви, в которой состоял старостой. В этом доме мы всей семьей посещали его в Михайлов день, когда он приглашал к себе духовенство Владимирской церкви, служил молебен и угощал обедом, а также на Рождество и на Пасху.
Характер у деда был тяжелый. Не любил, чтобы женщины в семье сидели без дела. Сам он выходил только к обеду из своего огромного кабинета, где в последние годы лежал на диване, приставленном к письменному столу. В моей памяти запечатлелась картина: Михаил Михайлович лежит на диване одетый. Ночные туфли стоят рядом. Борода расчесана на две половины, как у Александра II (важным лицам в XIX в. полагалось носить бороду и усы как у государя). Со своего дивана он достает из ящика письменного стола золотые десятирублевики и дарит их нам, когда мы перед уходом заходим к нему в кабинет попрощаться. Над ним на потолке длинная трещина, и я всегда, заходя к нему, боялся, что потолок когда-нибудь свалится на него.
В последний раз (это было во время войны в 1916 или 1917 г.) он не подарил мне золотой, а я, привыкший к его подаркам, не уходил из его кабинета: думал, что вспомнит. В конце концов дедушка сказал мне: «Ну, что же стоишь...» — и назвал меня как-то ласково «внучек». Я говорю ему: «А монетка?» Дедушка застеснялся, заулыбался и протянул мне золотой пятирублевик вместо обычного десятирублевика: видно, дела дедушки еще более пошатнулись.
Я так много говорю о семье моего отца, что она до сих пор в какой-то мере остается для меня загадкой. Мой прапрадед Павел Петрович Лихачев «из детей купеческих Солигалича» был человеком грамотным, но не более. Почерк его на оставшихся документах очень похож на допетровскую скоропись. Профессионально он был, вероятно, очень практически осведомлен. Не случайно, думается, в Петербурге он оказывается одним из самых богатых ремесленников.
Его потомок Михаил Михайлович Лихачев многое от него усвоил, но и продвинулся далее в своем общественном положении. Его грудь покрывали ордена, медали и значки различных благотворительных обществ. О тяжелом характере деда часто говорили в нашей семье, и я до самого последнего времени представлял себе семью деда неблагополучной, задавленной дедовским деспотизмом. По поводу всякого проявления семейного деспотизма моим отцом мать моя часто с осуждением называла его «Михал Михалыч». А между тем мы были окружены подарками деда: половая лампа с ониксовым, очень дорогим, столиком, зеленый ковер с подсолнухами для большой гостиной, каминный экран с подсолнухами, прекрасный бронзовый письменный прибор у отца, четверо золотых карманных часов для отца и его трех сыновей. И мало ли еще что. Не забывал дед и о такой мелочи, как предпочтение, отдававшееся моей матерью зеленому цвету, — все в его подарках, что могло иметь цвет, было зеленым. Все это было знаками внимания моего деда, внешне очень сурового, к нашей семье.
1См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению» (ГБЛ. Ф. 33. Ш. 5.12. Л. 22).
Дети М. М. Лихачева
Женат Михал Михалыч, как я уже сказал, был дважды. Первая жена Прасковья Алексеевна, моя бабушка, умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), косившей в Петербурге тысячи людей, главным образом в молодом возрасте. Чахоточные умирали весной. Она умерла первого или второго марта. Отец всегда боялся этих чисел марта и действительно умер во время блокады первого марта (мы зарегистрировали его тогда как умершего второго марта). Мы с отцом всегда ездили потом на могилу бабушки на Новодевичьем кладбище — самом дорогом в тогдашнем Петербурге. Отец мальчиком посадил на ее могиле березку, и ко времени, когда я с ним стал посещать могилу, береза стала старой и разрушала корнями раковину могилы.
Как реликвию хранили в семье написанную рукой Прасковьи Алексеевны уже упомянутую записочку с именами ее детей. Старший сын Прасковьи Алексеевны Анатолий умер рано. Дочь Екатерина вышла замуж за известного подрядчика Кудрявцева, строившего великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости. У Екатерины Михайловны с мужем был особняк на Выборгской стороне, два сына — Михаил и Александр, которых мы с братом почему-то называли «дядя» Миша и «дядя» Шура, хотя они были нашими двоюродными братьями. Оба воспитывались с гувернантками, хорошо знали французский и немецкий и стали инженерами-электриками по совету нашего отца. Дом тети Кати был поставлен на барскую ногу. Когда муж тети Кати умер, она вышла замуж за помощника покойного мужа — Сегодника. Сегодник был значительно младше тети Кати и, как говорили, «женился на ее бриллиантах». Во всяком случае, он был жаден, неприятен и вскоре завел себе любовницу, которой в конечном счете и достались все бриллианты тети Кати. Но это случилось уже во время блокады Ленинграда. А тетя Катя, чтобы привлечь мужа, усердно следила за своими нарядами, делала подтяжки лица (во время одной из этих операций она упала в обморок и ее не скоро привели в чувство). Судьба ее сыновей была несчастливой. «Дядя» Шура был помощником проф. Гаккеля — «русского немца», специалиста по электроаккумуляторам, что было важно для подводных лодок. Во время блокады Шура что-то неосторожное сказал в столовой Дома ученых про своего учителя, в результате чего Шуру стали таскать на допросы. После одного из допросов он пришел домой, ушел на чердак и там повесился. После следователи приходили домой к его вдове и уговаривали ее не поднимать шум: военное ведомство было очень заинтересовано в работах «дяди» Шуры. А с «дядей» Мишей все было иначе. Став инженером-электриком, он переехал в Павловск, где ему очень нравилось, женился на дочери командующего Черноморским флотом Пандзержанского, расстрелянного перед войной. В Павловске его и жену захватили немцы, и он остался жив только благодаря тому, что говорил как немец на хорошем литературном немецком языке. Когда уже вдовой жена «дяди» Миши обратилась к главе Ленинградского исполкома Смирнову с просьбой предоставить ей квартиру, Смирнов, не шелохнувшись всей своей громадной тушей, отчеканил: «Обращайтесь с этой просьбой по месту расстрела вашего отца». И она осталась жить в Барановичах, куда их отправили еще немцы.
Перехожу еще к одному сыну Михал Михалыча и Прасковьи Алексеевны: к дяде Гаврюше. Его я никогда не видел. Сохранилось только длинное наставительное письмо моего отца, обращенное к Гаврюше, где отец мой пишет ему, что он готов устроить его на работу, но требует обещания аккуратно выполнять свои обязанности и не бросать работы, как он бросал ее перед тем. А дело в том, что Гаврюша имел мятущуюся душу. Уходил несколько раз в монастырь. Присоединившись к паломникам, уезжал даже на Афон в поисках правды. Сидеть за письменным столом и выполнять обязанности канцеляриста он органически не мог. Он все время был в духовных поисках. Пропадал на годы. Перед Второй мировой войной мы получили известие, что он женился, живет в Ростове-на-Дону, жена продает в киоске газеты. Что делает он сам — неизвестно. На этом сведения о нем обрываются. Значит, и из него не получился ни коммерсант, ни ремесленник.
Второй женой Михал Михалыча, как я уже написал, была дочь старосты Владимирского собора Александра Ивановна Семенова.
Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михалыч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.
Александра Ивановна боялась Михал Михалыча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михалыч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткроет дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом и иногда произнесет: «Ишь дармоедки». Поэтому в обычае было в доме на всякий случай держать женщинам рукоделие на коленях. Заслышат шаркание дедушкиных туфель и схватятся — кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.
И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласкательно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома, — отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты — ее брат и мой отец — ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела с ногами на высокой кровати. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 г. мы узнали о ее смерти. Где она похоронена — бог весть.
Вторая моя тетя по отцу — Маня — была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее — тетя Маня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья» — и отказала. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубоврачебный кабинет. А затем она уехала под Новгород на Фарфоровый завод. С заводом этим во время войны она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими — настолько, что к ней ходили советоваться по всем, даже семейным, делам. Единственно, что ее смущало по возвращении из эвакуации, — это далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский. Жила она бедно, совсем близко от шоссе Москва — Ленинград, в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть...» — говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в «Пролетарском». Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохо.
Была еще тетя Настя — тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к дедушке по праздникам, уводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры. Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купеческим» характером дедушки Михал Михалыча.
А теперь о любимом мною дяде Васе — сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пýстыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.
Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.
Потом он с женой и дочкой Наташей жили на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго — несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Сытном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала, и как раз в тот период, когда начался общий голод после установления советской власти в 1918 г.
Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях — сколько футов над ординаром, столько выстрелов — и палила также в «адмиральский час» — ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.
Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел он к дяде Шуре и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.
Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.
В какой общей могиле закопали дядю Васю — не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е гг. вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю — передали ли ее жильцы квартиры, распоряжавшиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали — все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следователь, вызывавший ее, был в ярости. После того как она объявила ему, что одна, без матери, разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.
Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.
Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы, и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь — где теперь Музей Арктики и Антарктики.
Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все — мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все проигрыши прощала.
Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель артельщики отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариýсовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.
Детство
Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им — зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Я чувствую свою ошибку; мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, — он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка — Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.
Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций — сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу отраженным светом от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал — наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены — время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой недавней и близкой казалась эта война, точно она была вчера, — всего 50 лет назад!
Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в подготовительный класс.
Дети, в школу собирайтесь, Петушок пропел давно. Попроворней одевайтесь! Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка — Все берутся за дела, С ношей тащится букашка; За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг; Лес проснулся и шумит; Дятел носом: тук да тук! Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети; На лугу коса звенит... Помолясь, за книги, дети! Бог лениться не велит.
Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все дети благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».
А вот и другая песенка, которую мы пели:
Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит. С нею солнце краше И весна милей... Прощебечь с дороги Нам привет скорей! Дам тебе я зерен; А ты песню спой, Что из стран далеких Принесла с собой.
Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то приказывает «прочь с дороги» — «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!
Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья — Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, — «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, — это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.
С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.
Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»:
«Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 г. — Д. Л.). Традиция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция „первый балетный абонемент“, где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.
— „Ложа яхт-клуба“, „ложа уланов“, „ложа Половцевых“, „ложа Кшесинской“.
— „Почему нет Лихачевых?“, „Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой...“
— „А, вот Кшесинская у себя в ложе... полтора года ее не было видно — была в трауре...“
Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево — разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть „Капризов бабочки“ или „Дон Кихота“, как и те, кто на сцене» (ж. «Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).
Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходить на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход — на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтонно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стыли часовые — были ли в ней придворные или нет (сама царская сидела всегда справа, если смотреть от сцены, в ложе бенуара за голубыми портьерами).
Все в семье было поставлено на службу балету — главному удовольствию родителей. Но, посещая балет, надо было играть роль богатых. Он стоил немало, и экономили на всем. Сперва снимали квартиру на дешевой Петербургской стороне и при этом экономили на извозчике: когда Нева покрывалась прочным льдом, шли пешком через Неву, а там извозчик стоил на несколько копеек дешевле, чем прямо от театра. В театр надо было надевать зимой ротонду: чернобурую лисицу, крытую синим бархатом. Ротонда шилась без рукавов — рукава могли измять платье. На голову надевался легкий вязаный капор (я его до сих пор отлично помню). И вот однажды, когда родители возвращались через Неву по узкой тропке, мама, шедшая позади, упала. Упала, а подняться не может — руки стянуты ротондой. Мама кричит отцу, а тот не слышит из-за ветра. К счастью, кто-то шел сзади и маму поднял. По этому поводу дома было много разговоров, и квартиру на зимний сезон стали снимать вблизи театра. А как собиралось из разных драгоценных вещиц бриллиантовое колье для того, чтобы в балете «быть не хуже», то я это тоже помню. Заказы принимались в магазине (возможно, Фаберже) по Невской линии Большого Гостиного двора. Приказчик вынес на прилавок большой альбом с рисунками колье, и родители долго выбирали модель, где бы в самом центре уместить царский подарок, полученный в Алупке: большой рубин из подаренного государем отцу перстня. Балет требовал забот, зато нас все видели, многие знали, не подозревая, что возвращаться родителям приходится пешком...
В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х гг. на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе; обивку и занавеси обновляли).
Когда я слушал разговоры о Мариýсе Мариýсовиче и Марии Мариýсовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.
Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь зал Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги — этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...
По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь — произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широкодоступных дешевых изданиях — приложениях к «Ниве».
Катеринушка закатилась
Мою няню звали Катеринушка.
Единственное, что сохранилось от Катеринушки, — фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!
Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха — не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давным-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» — Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.
Помню, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся.
Катеринушка была как родная и для нашей семьи,и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно —и появлялась в семье Катеринушка: заболеет ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет — шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое — во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.
В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры — с взрослыми и детьми — в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же — приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности — хорошей, впрочем).
Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток) были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радостьэту и уют распространяла вокруг.
Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи — придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такое было название для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» — «Да у Марьи Иванны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» — «А где же Марья Иванна живет?» — «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург — от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» — «Да к вам. Свадьбу третьего дня справили».
Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой содрала с нее...
Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке, бывала в шляпке. И в Александринский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александринском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась — ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).
Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает — утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.
Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал — не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество — Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.
Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину — на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «халат-халат» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши).
Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 г. слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да так и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно, по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.
О Петербурге моего детства
Петербург-Ленинград — город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать — нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость — символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу — символ плененной красоты.
Петербург и Ленинград — это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькал Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.
Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Кáтали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой — горшками, тарелками, кружками, — а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй,целый лес: это мачты шхун — у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.
Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.
Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладиной для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы.
Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные — казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма — одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность — оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! — Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего — повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висит сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.
В частые праздники — церковные и «царские» — вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.
Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их сняли в 20-е гг. в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях — передохнуть свежим воздухом. Они не только в дворцовых подъездах — но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны — особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие порельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.
Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» — это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами — Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: «бриллианты» сверкают, переливаются.
Асфальт — это теперь, а раньше — тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много — в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 г. они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.
Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.
Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад — там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.
Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать — удовольствие, зимой — холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивалисьв вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни,висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайныестолбы.
Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадейбыло кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» — дождевым. А потом — мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же — там, за Литейным мостом. И еще покрикиванье извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись»(отсюда — «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период нэпа.
На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно,было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.
Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка.Первый звонок — перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны — всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, ккоторой были прикреплены кожаные петли, за них могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондукторабыла украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» — на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересестьв определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу.Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!»,или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.
Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост.Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики; красные, зеленые, синие, желтые и самые большие — белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царило оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.
В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень — это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».
А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, — не у всех дома были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...
Зимой — самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.
Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню — те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские»,«писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» — только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.
Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», — около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель „Титаника“» — это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая(с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки — каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый —для зелени, синий — для неба. Однажды были наНевском в «Паризиане» или «Пикадилли» — не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.
Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента вложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы-офицеры в антрактах красовались у барьера оркестра, а послеспектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.
На Страстной и к пасхальной заутрене ходили наПочтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где отец служил столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы. Лампады горели электрические, и это некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением — это была его инициатива. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенныхдля того местах службы можно было присесть отдохнуть.Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.
Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясьненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечниквставлял себе в рот пищик, изменявший его голос).Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.