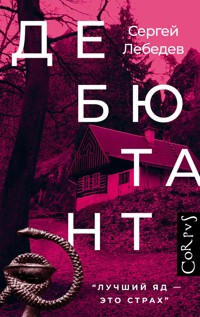Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MEDUSA PROJECT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Russisch
Июль, 2014 год, Донбасс. В родной шахтерский поселок из Харькова возвращается 18-летняя студентка Жанна, чтобы ухаживать за умирающей матерью. В это же время из Москвы приезжает их молодой сосед по прозвищу Валет и пожилой спецслужбист по фамилии Король — оба по заданию российского военного командования. Вот-вот должно случиться что-то страшное и непоправимое. Но маленький поселок не впервые становится местом, где разворачивается большая история. К примеру, все его жители годами знают, но молчат о чудовищных событиях 70-летней давности. Писатель Сергей Лебедев исследует самые страшные и болезненные эпизоды советской и российской истории: войны, революции, репрессии. Случайно или нарочно забытые имена, даты и документы он превращает в увлекательные сюжеты, интересные не только русскоязычным читателям. Лебедев — один из самых переводимых в Европе современных российских прозаиков. Его книги «Предел забвения», «Люди августа», «Гусь Фриц» переведены на десятки языков и вошли в лонг- и шорт-листы российских и международных премий.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Лебедев«Белая дама»
День первый
[Жанна]
Девять. Девять месяцев болезни матери. В памяти они были как слипшийся ком измаранного белья с ее постели, превратившейся в лежку раненого зверя, когда мать перестала позволять себя хотя бы обтирать. Жанна помнила отчетливо, совсем наособицу, лишь тот январский понедельник, первый понедельник нового года, когда она впервые пожелала Марианне поскорее умереть.
Снега тогда выпало еще мало, едва прикрыть изборожденные, застывшие в отвердевшей наготе осенней пахоты поля. И тревожный, налетающий внезапными порывами с северо-востока ветер скоро зачернил его угольной пылью со старого террикона. Террикон-то вроде смерзся, схватило его морозцем накрепко. Но рыскающий ветер трудился упорно, сдувал мельчайшие крупицы, чешуйки угля и рассеивал их по снежным полотнищам.
Сперва снега утратили белизну. Потом посерели. Потемнели. Так всегда бывало зимой — до следующей спасительной метели. Но тут метель изрядно припозднилась, и снег в конце концов превратился в черную ледяную корку, поглощающую и без того слабый, краткий свет дня.
Жанне казалось, что если бы мать не заболела, то и снегопад пришел бы вовремя, отбелил как следует землю. Но мать была больна. Ее тело, крученое-перекрученное конвульсиями, обжигаемое жаром, выделяло не пот, а похожую на деготь сукровицу страдания, въедавшуюся в любую ткань, что в хлопковую наволочку, что в ночную сорочку; да что там в ткань — в мебель, в стены, в самый воздух дома, и так по-зимнему душный, окна-то заклеены, чтоб тепло не уходило.
Запоздало пытаясь перенять уменье матери, надеясь, что победа над пятнами будет означать и маленькую победу над болезнью, Жанна старалась отстирать простыни. А они не отстирывались: машинка только впустую воду гоняла. Жанна кипятила, замачивала, жамкала, полоскала, отбивала деревянным тяжелым валько́м. Но даже шлепки валька, что в руках матери одолевал любую грязь, выколачивал, выгонял ее из материи, в неумелых руках Жанны, казалось, только разбрызгивали, расплескивали черноту, впитавшуюся в ткани, еще больше пачкая и простыни, и дом.
Всю жизнь Марианна сильными, ловкими руками выкручивала, отжимая, белье. Мучила его, заставляя свернуться в тугую косицу, а потом распластаться, разгладиться под пышущим утюгом, став обновленным и невинным. А теперь, словно в отместку, сила болезни скручивала, распластывала ее саму. И вся грязь, что была ею отстирана, будто возвращалась, оседая в чернеющем теле и мутнеющем разуме.
Мать три десятка лет, пока заведовала ныне закрытой прачечной при шахте, носила белый рабочий халат. И раньше из всех людей выделяла, привечала медиков — по тождеству цехового цвета, по преданности, профессиональной, церемониальной страсти к строгим процедурам дезинфекции, к хлорке и кипячению. Чуть у Жанны ссадина, рана, — а ранилась она часто, «тонкокожая ты у меня», говорила мать, — никаких там подорожников или лежалых пластырей из домашней аптечки, старых нестерильных бинтов, тут же вела в больницу к старому доктору Шпектору, чтобы промыл, продезинфицировал, будто ей в каждой соринке столбняк мерещился.
И тем жутче было плаксивое ожесточение, с которым заклинала она Жанну не отвозить ее в больницу и не приводить домой врачей: будто захватившая организм болезнь, осознавшая и защищавшая себя, говорила ее устами. Врачи были теперь не стражи здоровья, не блюстители чистоты, не спасители — а мучители. Мать заранее боялась их и ненавидела, боялась, казалось Жанне, даже белого цвета их халатов, что раньше был знаком союзничества. А у Жанны не было мудрой воли настоять на правильном решении, что прежде имелась в избытке у Марианны, и Жанна привыкла расти под ее защитным куполом.
Поэтому Жанна могла лишь подстраиваться под новую, страшную, бесноватую волю матери, втягиваясь невольно в безумие: обескураженная, обездоленная внезапностью одиночества и невозможностью случившейся перемены.
Марианну уважали в поселке. Но все же с холодком, с зазорцем, словно почему-то — хотя Марианна дальше Донецка не ездила, только один раз в Грац, в Австрию, сиделкой — не были уверены, что она до конца своя, здешняя. Два с небольшим года назад шахта окончательно прекратила работу, Марианна умоляла не закрывать прачечную, сделать ее коммерческой, но напрасно; и с той поры люди будто на нее обиделись, словно беспричинно ждали, что она сумеет убедить владельцев и шахту не закрывать. А она на полгода в Австрию уехала. Многие женщины так в Европе батрачили, но только ей это вроде как в вину поставили, словно она на курорт укатила развлекаться, а не старику-иностранцу памперсы менять. Поэтому, когда мать слегла, не нашлось у Жанны верного помощника и советчика.
Она никому не рассказывала в подробностях, что происходит: ей было стыдно раскрывать мерзкую тайну болезни, бросать грязную тень на мать.
А соседи и знакомые, на словах сочувствуя, незаметно отстранились. Какое-то муторное, темное предчувствие висело в воздухе. Те, кто постарше, вспоминали месяцы накануне июльского обвала в 1996-м, под которым погиб отец. Шахта тогда предупреждала о грядущем бедствии: то метан прорвется, то клеть застопорит, — остановитесь, мол, до беды недалеко… Марианна ведь никогда не болела. Ни одна хворь к ней не приставала, даже грипп с простудой. И потому ее болезнь стала знаком, что привычное время заканчивается, что-то готовится произойти, и люди, сами того не осознавая, перебежали, переметнулись на сторону неясного будущего, в котором уже не было места для Марианны.
Тогда, в январе, в ночь на понедельник начался безветренный, густой снегопад, за мнимым беззвучием которого проступал утишающий, убаюкивающий, ласковый шелест. Выпавший снег высветлил комнаты, загнал в углы набрякшие, как синяки, тени. И Марианна уснула мирно, как раньше, когда она легко, благодарно засыпала после дневных трудов, после работы и надомной ручной стирки — она ведь бралась отстирывать что ни одна машина не отстирает ни в прачечной, ни дома, — и Жанне чудилось, что ее сильное тело, вылепленное движениями прачки, ее руки, привыкшие месить воду, творить пену, излучают, отдают какую-то энергию, как разогретый после езды мотор, и ею дышит хрусткий пододеяльник, наполняя дом нездешней, ничему не принадлежащей свежестью, сверхъестественным запахом чистоты.
Улучив эти ночные часы покоя, Жанна дозвонилась доктору Шпектору и уговорила его приехать.
Пока мамину прачечную не закрыли, больничное белье тоже стиралось там, и раньше халат доктора сиял искрящейся белизной, которая, казалось, сама по себе способна исцелять. Доктор пришел все в том же выглаженном халате, но Жанна приметила, что ткань вроде как потускнела, утратила свечение. Да и сам педант и аккуратист Шпектор обрюзг, подзапустил себя, словно без матери, без ее прачечной, без ее каждодневной ручной стирки весь поселок быстро запаршивел.
Раньше Шпектор уверенно входил в комнату к пациенту, ясно давая понять, что явился побеждать. Он сразу же дотрагивался до больного, прощупывал, простукивал пальцами, вслушиваясь в отклики тела, заставляя болезнь отозваться, объявить свое истинное имя. Пальцы, слишком длинные для худого, невысокого Шпектора, пальцы пианиста (люди говорили про доктора, со смешком, с ухмылочкой, что в юности он готовился в консерваторию), были его главным диагностическим инструментом. И Жанна, сама помня, как они касались ее, когда она лежала в гриппозном жару, как будто морзянкой передавали ей ободряющие сигналы, всей душой надеялась, что Шпектор сумеет понять, чем же болеет мать, и найдет средство излечения.
Но доктор и приехал неохотно, и в комнату едва зашел. Касаться Марианны не стал, объяснил, что не хочет, мол, будить. Спасовал, с оторопью поняла Жанна. Словно он боится этой болезни. И надежда ее улетучилась, уступив место страху, тем большему, что недуг матери стал теперь частью каких-то грозных всеобщих перемен, против которых бессилен и доктор Шпектор. Он увел Жанну в соседнюю комнату, выслушал, поглаживая по руке, — она ощутила слабость, вялость упругих, твердых когда-то пальцев, — и сказал:
— Надо делать анализ крови. Но я, Жанночка, и без анализа скажу. Это рак. Скоротечный. Надежды нет. Оперировать уже никто не возьмется. А химии она не выдержит.
Помолчав, он поднялся, оделся в коридоре. Замялся у двери, поглядел на Жанну. Открыл было дверь, занес ногу через порог… И так, уже как бы и не в доме, словно ему было от этого легче, Шпектор сказал Жанне:
— Рак развивается очень быстро. Тебе нужно быть готовой… Мама будет меняться. Нехорошо меняться. То, что ты рассказала, что она отказывается от врачей… Это только начало. Прости. Интоксикация слишком сильная. Мозг не уберечь.
Шпектор рассказал, что́ может произойти дальше. Жанна слышала и не слышала: описываемое доктором никак, ну никак не могло относиться к маме. «Перестанет тебя узнавать». «Будет считать, что ты ее враг». Он что, маму не знает? И лишь краешком сознания — верила. Верила и страшилась. Ведь она видела, что мама уже изменилась. С самого первого дня болезни.
Тогда-то, после ухода доктора, Жанна и пожелала малодушно матери легче и скорей умереть. Пожелала, потому что не раз слышала на поселковых похоронах благостные, как бы умудренные женские слова: «отмучилась». Тут же устыдилась своих мыслей — но устыдилась механически, притворно, поверхностно. Потому что должна была устыдиться. И,осознав притворность, невольно задержала дыхание, ожидая, что вот сейчас накатит истинный, болезненный стыд, заязвит, загорчит в средостении. А стыд не пришел.
Она чувствовала теперь — впервые с начала болезни так остро и ясно — лишь глубочайшую, бессильную обиду на мать. Это могло случиться с любой, с соседкой тетей Аней например, но только не с мамой, потому что мама была, была… Жанна, захлебываясь обидой, не находила слов, чтобы назвать маму в ее истинной сущности, о которой очень немногие твердо знали, некоторые интуитивно догадывались, но почти все ощущали.
Мама — раньше — была будто заговорена, защищена. И должна была скоро открыть Жанне свою тайну, объяснить, кто она есть и что она совершает, делая вид, что просто стирает чужое белье. Очень скоро. Может, год лишь оставался, а может, и месяцы всего, Жанна это предвидела, читала ее намеки.
А теперь Марианна погибала, нарушив безмолвное, но явное обещание, обманув веру дочери в благодатность наследственного призвания, которое Жанна уже привыкла мысленно примерять на себя, еще не зная, в чем оно точно заключается. Размышляя об этом призвании, она брала как отправную точку то странное ощущение особой значимости маминой жизни, не соответствующее ее занятию — заведующая прачечной, потом прачка-надомница в век стиральных машин и чистящих средств, — которое заставляло одних считать ее знахаркой, других — провидицей, третьих — ведьмой, четвертых, которых было большинство, — просто мудрой женщиной, чьим советам стоит следовать.
Но все это было мимо, мимо, не то… Люди пытались уловить неуловимое. А оно, волшебство, было в самой маме, в движениях ее рук, в воде меж ее ладоней, в чистоте выстиранного белья. Той чистоте, что выше белизны.
Теперь стоял цветочный, вишневый июль. Дерево под окном маминой спальни, ранний сорт, налилось багровыми до черноты, лаковыми ягодами, тюкающими в стекло, когда дует ветер: ветки надо было бы обрезать по весне, почистить ствол от лишая, побелить… Мама — то, что осталось от мамы, — унялась, успокоилась, задышала ровнее, словно вишня подобрала какой-то простой звуковой ключик к ее спутанному сознанию. И у Жанны снова появилась отчаянная надежда, что она выздоровеет. Что можно вернуться даже из такой смертной дали. В эти солнечные дни Жанна, чувствуя, как черны ее мысли и чувства, в каких душных, гадких потемках, в каком безвременье она живет, просила у вишневого дерева маме исцеления, шептала «спаси маму, вишня», не осознавая, что сама уже приближается к безумию. Сидела у маминой постели, вглядывалась в ставшее чуждой маской лицо, ждала, что вот-вот мелькнет знакомая, прежняя черточка и мама пересилит маску, вернет себе себя…
Почти поверила — и пропустила саму смерть, прикорнув в соседней комнате. Последний вдох пропустила.
Тело, что лежало на постели, посреди застывшей муки свитых жгутами грязных простыней, посреди ландшафта агонии, не было мамой.
— Как из концлагеря, — сказал напарнику, думая, что Жанна не слышит, санитар со скорой помощи.
Но она услышала. И эти слова прицепились, влезли в голову, будто что-то объясняли.
— Как из концлагеря, — шептала себе Жанна.
Когда скорая уехала, она вышла во двор, в светлый день июля незадолго до сумерек. Она ничего тут не делала с самой осени. Всюду сквозила заброшенность, запущенность, однако особого рода. Двор не зарос, как можно было б ожидать, густым и жадным сорняком. Он скорее заглох, зачах, захлебнулся временем, опустел и опаскудел, потемнел, потускнел от угольной пыли: шахта уж третий год без добычи, а террикон все пылит. Меж двух ближних яблонь провисла, залохматилась бечевка, куда мать вывешивала сушиться белье. Белья там не было, Жанна сушила материны простыни в доме, чтоб чужой взгляд не прочитал по ним стыдный ужас болезни.
Но ныне простынь, воображаемый белый прямоугольник, призрачная простынь, будто окно или экран, замаячила перед глазами Жанны, насильно соединив настоящее и прошлое, вынудив Жанну вспомнить самый первый миг конца.
Она приехала в пятницу из Харькова, из института, не предупредив мать. Затосковала, хотя еще в среду собиралась все выходные сидеть за учебниками: первый курс, первый семестр. Ее насторожил голос матери в телефонной трубке, когда они созвонились в четверг. Он прозвучал невыразительно и отчужденно, словно мать говорила с другой планеты. Жанна попыталась убедить себя, что так и положено, это взросление, отъединение. Но не сумела. Ушла с занятий, села в междугородний автобус, веря, что вот сейчас она услышит, увидит мать — и морок рассеется, ругая себя за внезапную, ненужную эту поездку, отгоняя растущее в голове дурное предчувствие — будто волосы в грозу ловят, поднимаясь дыбом, атмосферное электричество.
От автовокзала в поселке прошла пешком. Расслабилась, ведь сколько раз она представляла, что будет идти по этой дороге студенткой, горожанкой, и вот она идет, здешняя и нездешняя уже, и в сумке у нее учебник психологии. Расслабилась — а все же покоя нет, словно не на тот факультет поступила, не в тот город уехала и только тут, в поселке, стало это ощутимым…
Вошла во двор по дорожке, забетонированной еще покойным отцом. Он был маркшейдер, человек точных линий, и бетонная полоска была прямая и ровная, как школьная линейка. Но Жанне вдруг почудилось, что параллельные края изогнулись, словно что-то сдвинулось под землей. Хотя даже после обвала в шахте дорожка оставалась идеально прочерченной.
Из-за этого мнимого искривления, внезапно сбившего ориентировку, спутавшего чувства, земля на мгновение ушла из-под ног. Жанне показалось, что она сейчас провалится. И поймав, удержав себя на краю головокружения, она увидела мать.
Марианна стояла к ней спиной. Она только что повесила постиранную простынь на веревку. Самая знакомая, самая домашняя картина. Она должна была бы успокоить, вернуть почву под ногами.
Но Жанна чуяла: что-то не так.
Был срединный день осени. Солнечный свет уже ослаб, прояснился, достигнув чистоты родниковой воды, и не наполнился еще угасающей желтизной. В прозрачном свете, не знающем страсти красок, невинном, Жанна разглядела: простынь бела, но не чиста.
«Чистота выше белизны», — любила приговаривать мать.
И Жанна, знающая шестым чувством эту особую чистоту, ее сияние, рождающееся не от жгучей силы порошков, упорства стирки и полоскания, а от тихого чудодейства маминых рук, осознала, что чистота отнята, исчезла.
А Марианна — не видит. Не замечает.
Жанна ничего ей не сказала. Мать словно была не рада ей. Посадила ужинать. Хлопочет на кухне, а Жанна видит: слова, жесты, пластика — все в ней уже стало каким-то необязательным, неизящным, случайным, неряшливым. Едой угощает — одно пересоленное, другое пережаренное…
Переночевала, уехала, убеждая себя, что все это блажь, чудится, обещала вернуться через неделю, но учеба закрутила, да и как-то не рвалась сама, тем более что голос у матери вроде выправился, стал почти как прежний и убеждала она Жанну: учись, мол, старайся, потом приедешь.
А надо было еще в те дни силой волочь ее к врачам, вывозить в областную больницу, в Донецк. Или еще дальше, в Харьков или в Киев. Может, там что-то смогли бы сделать. Когда Жанна приехала, мать уже почти не вставала. Голос только был бодрый. Лукавый, обманный голос. Жанна сначала думала, что мать глупо бодрилась из последних сил, не желая ее, первокурсницу, тревожить и отрывать от учебы.
Но скоро поняла: тут другое. Мать вела себя как подменыш, чужак, боящийся разоблачения, отваживала ее от дома. А когда осознала, что Жанну не прогонишь, то, уже слабая телесно, стала обидчиво-властной. И настолько непредставима была эта перемена, будто и действительно не перемена, а подмена, что Жанна растерялась, не зная, как себя поставить, как вести, что чувствовать. А Марианна то отталкивала ее, требовала, чтобы Жанна уезжала немедля, то умоляла не бросать и рыдала надрывно, но без чувства, как заведенная, как оглашенная. И Жанну швыряло то в жар, то в холод, а мать требовала, давила, запрещала вызывать врачей, приглашать знакомых, просить помощи — «чтоб никто, чтоб никого, никогда…».
И Жанна, теряясь, не понимая, чьи же это желания и запреты, чей это голос, матери или недуга, покорялась. Не успевала придумать встречную хитрость. Решалась, когда становилось уже поздно, и мать, проваливаясь еще глубже в болезнь, отказывалась от данного вчера согласия, становясь еще раздражительней, капризней — и безумней.
Врачи, казалось, только и рады. «Есть согласие пациента на госпитализацию? Нет? Уговаривайте! Не соглашается? Лишайте дееспособности». А мать, будто слыша это все, хотя Жанна разговаривает на улице, шипит: «В дурдом хочешь сдать, да, родную мать в дурдом?»
…Тот благой снегопад и тот визит доктора Шпектора остались в воспоминаниях дальним маяком, светом на покинутом берегу. Дальнейшие дни и месяцы превратились в коридор тьмы, в шахтный штрек после обвала, где все перемешано и раздавлено, спаялось в мучении, в ужасе неостановимого превращения матери в мумию, в чужеродное нечто, умирающее и не могущее умереть, будто смерть в ней наслаждалась длительностью визита в мир живых.
Сейчас, когда матери не стало, Жанна еще сильней ощутила эту темную, нерасчленимую массу жути и страданий, оставшуюся тут, в ней самой. Она пыталась мысленно высвободиться, отъединиться. Но мысль невольно возвращалась к удивленным словам много повидавшего санитара: «как из концлагеря».
К тому темному оклику, намеку, который в них заключался. К старому, заброшенному шахтному стволу ¾.
Там, за полем.
За терриконом.
К тому, что в стволе, под бетонной пробкой. Суеверно избегая называть содержимое по имени, даже искать имя, Жанна окончательно понимала теперь, что мать именно к этому стволу была приставлена — как страж, как хранитель запечатанного колодца или сосуда. И если мама умерла, в грязи и порче, значит, печать больше не работает.
Каждый в поселке знал, что или, вернее, кто там в стволе. Это было общей нетайной тайной. Вынужденной данностью, о которой не говорят. Разве что помянут суеверно в недобрый час.
А ныне через болезнь и смерть мамы Жанна чувствовала масштаб судьбы этого места, силу и близость рока. Чувствовала — и не могла вместить: отупелая, испуганная, стоящая следующей в опасной очереди наследования. Испытывающая облегчение от смерти — и страх от того, что же ей, наследнице, теперь предстоит. Потерявшаяся в утекшем времени, в пропущенных событиях, запертая в капсуле непережитого пережитого. Утратившая даже чувство соседства, пространственной близости с другими людьми — и слава Богу, что не лезут, не донимают, оставили в покое, копаются в огородах, сушат свое сизое белье…
Сумерки уже упали. Солнце закатилось за черный, двугорбый террикон, будто провалилось в пасть земли. Время опять пронеслось, сгинуло невесть куда, словно ее внутренний хронометр считал часы за минуты.
Она вошла в дом — впервые с минувшей осени, когда мама перестала выходить на улицу, пустой. Вспомнила с трудом, урывками, словно память была где-то в другом городе и до нее нужно было дотягиваться, что обязательно надо занавесить зеркало. Темным, кажется.
Онапослушно открывала ящики комода, где лежали покрывала и скатерти. Но всюду были только светлые ткани, выстиранные, выглаженные мамой еще до болезни. Сложенные в ровные стопки. Ранящие тщательной и тщетной выверенностью, безупречностью отглаженных углов. Светящиеся невинностью. И Жанна боялась трогать их, ощущая, как грязна она сама: тело, мысли, душа. Она окинула взглядом дом, узнавая его свет, его цвета, впервые так очевидно убеждаясь, что в нем действительно никогда не было ничего темного.
Большое зеркало в раме раньше стояло в маминой комнате. Но в феврале Жанна передвинула его в гостиную: зеркало отражало и удваивало измаранное логово постели и скукоживающееся тело матери в нем. Тогда она развернула зеркало к стене: не хотела и не могла смотреть и на себя тоже, хотела исчезнуть. А теперь, не найдя, чем его завесить, развернула обратно — с самоуничижающим злорадством, с готовностью увидеть замарашку, чучело, страшилу.
И вздрогнула, увидев совсем другое.
Она ведь никогда не была похожа на мать.
Марианна была высокая, словно ее обязаны замечать. Стройная — но стройностью силы, а не красоты. Полнокровная — без умильности и нежности румянца. Изящная — но не в чертах, а в точности движений и жестов, облагораживающей черты. Улыбчивая, приязненная — но без приятельственности.
«Дама, простите, вы последняя?» — обратился к ней однажды интеллигентный старичок в очереди за молоком на рынке. А семилетняя Жанна запомнила, вылущила это особое слово из шелухи, из болтовни. Весомое, настоящее. Как бы по-особому подходящее матери, вскрывающее истину ее сути и происхождения, о которой никто в их шахтерском поселке подозревать не мог. Хотя те, кто повнимательней, примечали, что Марианна с другими поселковыми женщинами не схожа: не оставила здешняя жизнь на ней клейма. Старичок ведь, чуяла Жанна, тоже не случайно это слово выбрал: дама. Хотел, чтобы прозвучало шутливо, с иронией, а вышло по-всамделишному. Тогда, на рынке, Жанна в первый раз уловила, что мать даже в очереди стоит не так, как остальные. Другие люди будто сцепляются, как детали конструктора, знают, что они — очередь, и ведут себя как часть целого; а мама вроде и в очереди, без зазора, но — отдельно. Сама по себе.
Дама.
Марианна.
А Жанна что? Девчонка, поздний ребенок. Опаздывает в росте, в созревании. Имя звонкое, а сама — замухрышка, блеклая, тощая, вроде и не материна кровь. Только имя и обещает, что однажды будет другая, удивительная, Жанна. Как в песенке на радио: «Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна…»
Вот ее-то, другую, готовящуюся стать другой, тусклое зеркало и показало.
Показало, как в непохожести проступает похожесть. Как в нескладной, неженской еще, но вошедшей в пору взросления фигуре намеком узнается вдруг ладное, богатое тело Марианны, каким оно было до болезни. Его, скрюченное, уменьшившееся, изболевшееся, увезли в черном мешке в морг.
А оно — вот, вернулось. Воплощается в дочери.
Это как проклятье, подумала Жанна, поднеся руку к лицу, коснувшись спутанных волос — элегантным, характерным движением матери. Проклятье.
Волосы! У Марианны были густые золотые пряди; они поседели, выцвели в болезни. У Жанны — белесые, жидкие кудри. А теперь в них, оттенком, — золото, то самое, материнское.
Она теперь — мать. А мать стала как те, что лежат в шахте, в стволе ¾, в угольной глубине. Именно такими Жанна их себе и представляла. Исхудалыми. Черными. Абсолютно чуждыми.
«Как из концлагеря», — сказал болтун-санитар. Дернул же черт дурака за язык!
Она выбежала из гостиной, оставив зеркало неприкрытым. С омерзением, со злостью разворошила материну постель, сорвала наволочку, простынь, пододеяльник. Понимала, что поступает дурно, что нужно оставить постель до завтра, сохранить комнату в тишине и покое, но не могла остановиться. Тянула, рвала ткань, заранее зная, что не отстирает, ведь у нее ничего не отстирывалось в эти месяцы, пятна и после двух стирок, после кипячения проступали как знаки ее немощи, неумения — и власти болезни. Эти же запятнанные простыни она стелила Марианне… Молча, молча проклинала она мать. Марианна не имела права предавать ее. Умирать так, отвратительно и страшно, превратившись в одержимую. В узницу концлагеря. Не имела, не имела права оставлять ее.
Жанна хотела сжечь белье. Но побоялась, что соседи заметят, примут за ненормальную. Помыкалась с бельевым комком в руках по дому и спустилась в конце концов в подвал.
В поселке у всех были глубокие подвалы: сноровка-то шахтерская, копать горазды. Там и бросила в самый дальний угол, закрыла ветошью, заставила ящиками. Перевела дух, словно преступник, что избавился наконец от главной улики.
Лампочка моргнула. Цементная крошка посыпалась с потолка, застучала по полу — будто что-то большое и грозное прошло через каменные толщи.
Жанна выбралась из подвала, вышла на улицу. Ничего. Только соляркой горелой пахнет. Может, грузовик проехал на ночь глядя или комбайн?
Небо было ясное. Среди звезд двигалась яркая точка. Самолет. Раньше Жанна часто смотрела вечерами на эту небесную дорогу: прямо над поселком шла международная авиатрасса, воздушное шоссе. Там, в вышине, над полями, домишками и терриконом, почти всегда кто-то был, кто-то находился пролетом. Жанна, летавшая только два раза в жизни, прежде чувствовала радостную приязнь и добрую зависть к этим транзитным пассажирам, не знающим о ней, что смотрит на них, задрав голову, с земли. Будто вспыхивала краткоживущая призрачная связь и они на мгновение становились здешними, близкими — и тут же улетали в свою иную жизнь.
Но теперь возникла только злая горечь. Самолет, манящий и недоступный, напомнил ей обо всем, что было заслонено, поглощено болезнью матери. О войне. О русских солдатах, пришедших тайком с востока. О том, что институт остался в Харькове, за линией фронта. А она застряла здесь, упустила из-за матери все шансы уехать, пока еще было можно.
Она села на крыльцо, на свое любимое место — вторая ступенька с правого края, — и долго провожала взглядом самолет. Она хотела быть в нем. Хотела, как кукушонок, подменить, вытолкнуть душу кого-нибудь из пассажиров, своровать чужую судьбу. Вот она, Жанна, сидит в кресле у окна, смотрит вниз и чувствует, как отдаляется, перестает существовать ее двойник на земле и лайнер уносит ее за край горизонта, навстречу следующему дню…
Самолет исчез, растворился в небе.
Она очнулась, будто кто-то уловил ее мысли, застал врасплох, огляделась — тихо, пусто — и спешно ушла в дом.
[Валет]
Жанна скрылась за дверью.
Ладно, Валет успел, нагляделся вдоволь. Подросла соседка, пора в койку укладывать. Но думал он сейчас не о ней.
Сдохла, значит, мамашка, старая сука. Сдохла. Хорошенько помучилась. За все заплатила. Да и как сдохла! Такая ведь чистюля была. А превратилась в бабу-ягу. Натурально, в бабу-ягу. В страшилище, в зомби, каких в кино показывают. И, главное, вовремя. Очень вовремя. Будто кто-то его, Валета, потаенное желание услышал и исполнил.
Он чувствовал себя отомщенным. Но еще не до конца. Закурил, стоя в высоких и густых кустах ежевики, навалившихся на заборчик, который отделял соседский палисад. Тут еще с детства была его наблюдательная точка: он проламывал проход в ежевике, как бы заради ягод, и, скрытый листвой, приникал к дряхлому штакетнику, обозревая чужой двор. Приглядывая, да что уж там, подглядывая за Жанкой.
Его лихорадила дрожь, пробравшая землю, когда минуту назад мимо дома по объездной поселковой дороге проехал гусеничный транспортер. Иной бы и не понял в сумерках, что это. А Валет узнал: зенитно-ракетный комплекс «Омела». ЗРК. Он видел его расчехленным на парадах в Москве, стоя в оцеплении. В тусклом свете уличного фонаря мелькнула прикрытая брезентом спарка ракет, и Валету показалось, что она похожа на вставший хер, топорщащий курсантскую ширинку. Все это — унизительная смерть Марианны, растоптавшая ее красоту и достоинство, ее тайную власть, зябкое, нагое одиночество Жанны, оставшейся без защиты, смертоносный ЗРК, которого тут официально нет, войска, которых тут как бы нет, он сам, которого тут тоже официально нет, он в отпуске, — сливалось в будоражащий коктейль силы, мести, отыгрыша, превосходящий все, что он испытал на службе в полицейском спецполку.
Валет не мог до конца поверить своей удаче. В минувшем декабре, когда шла уже движуха на Майдане, дядя Георгий, заместитель командира полицейского спецполка, вызвал его и сказал, что Валета отобрали в добровольцы — на этом слове дядя ухмыльнулся — и он скоро поедет домой. В гражданском поедет, для всех посторонних — мать навестить.
А Валет едва не ляпнул, что хочет остаться. Хорошо, успел язык прикусить. Иначе б дядя его к стенке вопросами прижал, допытался до истинной причины. Допрашивать дядя умел. И выгнал бы из полка, как есть выгнал бы, и перед сослуживцами опозорил.
Еще бы: мужик, а бабы боится.
А Валет, хоть и в армии служил, и против толпы выходил в шлеме, со щитом и дубинкой, Марианны — боялся. Боялся, и все тут. С детства в ней чуждую волю и волшебство, ведьмовство чуял, каких у обычных людей не бывает.
Мать ведь московскому дяде Георгию, подполковнику, брату мужа своего увечного, не рассказала, почему Валет должен был срочно из дома родного уехать. Наплела про Валетова отца, искалеченного обвалом. Про шахту закрывающуюся. Про то, что не хочет она мальчишке шахтерской опасной доли. А если он тут останется, одна ему в будущем дорога — в копанки, в шахточки самопальные, неглубокие, туда, где уголь добывают нелегально и живут недолго, потому что на крепи экономят, а то и не ставят ее вовсе.
Дядя Георгий на что уж недоверчив, а поверил. Так почти ж и правду мать говорила. И потому думал дядя, что рад будет Валет вернуться: показать бывшей родине, в ком сила. А для дяди самого угольный поселок имени Марата родиной не был никогда.
Семья происходила из воронежской деревни нищей. Старший брат еще при Союзе на запад, в Донбасс уехал, на шахте счастья попытать. А младший, Георгий, на восток двинул. После армии в милицию пошел, за столицу зацепился. Так их девяносто первый год и разрезал: у одного гражданство Украины, у другого — России. Недолюбливали братья друг друга. Старший младшего бездельником считал, мол, дубинкой легко махать, а ты попробуй в шахте-то пошуруй, да и были у него счеты с ментами, что еще в перестройку митинги шахтерские разгоняли, «черемухой» спрыскивали. А младший старшего — дураком: кто ж еще будет в шахте горбатиться, здоровье гробить? В гости не ездили, так, звонили по праздникам. Но мать, оказывается, тайком посылочки посылала, то да се, сальце, закрутки домашние. Вот и окупились закруточки.
Георгий бездетен был и племянника единственного, Вальку-Валета, как сына принял, рад был его в свою породу зачислить и на свой манер переделать. Мать знала только, что Георгий в полиции служит, потому и отправила Валета, чтобы дядька дурь из него выбил. А Георгий совсем непростым офицером оказался: полицейский спецполк, что Москву охраняет, демонстрантов гоняет. Документы сделал Валету, гражданство в упрощенном порядке. В армию на срочную службу устроил, но не к себе под крылышко, во внутренние войска, а в ракетные, на дальнюю точку, в суровый край, вроде как экзамен. А уже потом к себе в полк взял, рядовым.
Нравился ему Валет. Школил его Георгий, спуска по-родственному не давал, обещал, мол, еще годик-другой и пойдешь в училище, офицером будешь. Сам дядя полковничье звание ждал, а там и до генеральского недалеко; жену, говорил, подберем правильную, из семьи полицейской или прокурорской…
Одного только не мог понять Георгий: почему племянник в отпуск домой не ездит. Валет то так отбрешется, то сяк, то курсы тренировочные, то зазноба. Нельзя ж дяде сказать, что соседка, заведующая прачечной, его из родного дома выгнала и появляться запретила. Велела матери, чтоб ноги его тут никогда не было, и мать послушалась. И сам он послушался, потому что знал: если тетка Марианна сказала, так оно и будет, и лучше не перечить. Найдется у нее средство.
Хоть Василия Три Головы вспомнить, забойщика, первого в поселке бугая. Ему на каску трижды булыжники падали в штреке, а мозгам хоть бы хны, оттого и кличка. Повадился Василий в прачечную, девок донимать. Марианна сначала словом пыталась отвадить. Так не помогло, Василий-то и туповат, и глуховат был.