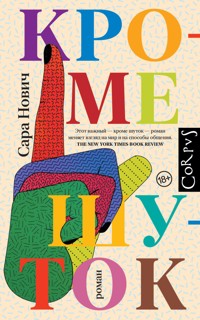Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Corpus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Corpus.(roman)
- Sprache: Russisch
Загреб, лето 1991 года. Десятилетняя Ана живет беззаботной жизнью: гоняет на велике с лучшим другом Лукой, заботится о младшей сестренке Рахеле и любит послушать на ночь захватывающие истории, которые ей рассказывает отец. Но эта жизнь заканчивается, когда в Югославии начинается гражданская война. Ана теряет родителей, ее сестру эвакуируют в Америку, где о ней будет заботиться приемная семья. Самой Ане удается спастись, но десять лет спустя, живя уже совсем другую жизнь в Нью-Йорке, она поймет, что должна вернуться — чтобы найти свой дом, узнать, что произошло с близкими ей людьми, прожить тяжелые воспоминания и наконец справиться со своим прошлым, обретя возможность двигаться дальше.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сара Нович Девочка на войнеРоман
Sara Nоviс
Girl at War
* * *
Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
© 2015 by Sara Novic. All rights reserved
© А. Измайлова, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО «Издательство ACT», 2024 Издательство CORPUS®
* * *
Моей семье и А.
Я приехала в Югославию, чтобы увидеть историю во плоти. И теперь я поняла, что когда погибает империя, даже мир, населенный стойкими мужчинами и женщинами, полный богатых яств и хмельных вин, может казаться театром теней: ведь самый выдающийся человек порой сидит у огня и греет руки в тщетной надежде вытравить холодок, затаившийся отнюдь не во плоти.
Я читаю эту фразу – и картины полевых дорог, пойменных пастбищ и горных лугов сливаются у меня перед глазами с картинами разрушения, и странным образом именно эти последние, а не ставшие совершенно нереальными идиллии раннего детства вызывают во мне что-то вроде любви к родине.
I. Обоих сбили
1
Войну в Загребе развязали из-за пачки сигарет. Обстановка давно накалялась, слухи о беспорядках в других городах передавались шепотом у меня над головой, но без взрывов, ничего такого явного. Зажатый в горах, летом Загреб изнывал от зноя, и на самые жаркие месяцы большинство людей сменяли город на побережье. Сколько я себя помню, в отпуск наша семья ездила с моими крестными в рыбацкую деревушку на юге. Но сербы перекрыли дороги к морю – или по крайней мере так все говорили, – и впервые для меня мы провели лето вдали от побережья.
В городе все стало липко-влажное – дверные ручки и поручни в поездах осклизли от чужого пота, воздух набряк от запахов вчерашнего обеда. Мы то и дело залезали под холодный душ и разгуливали по квартире в нижнем белье. Стоя под струями прохладной воды, я воображала, будто кожа у меня шкворчит, испуская пар. По ночам мы лежали на простынях в ожидании прерывистого сна и горячечных сновидений.
В последнюю неделю августа мне исполнилось десять – праздник, ознаменованный отсырелым тортом и омраченный жарой и тревогой. Родители в те выходные пригласили на ужин своих лучших друзей – моих крестных Петара и Марину Дом, где мы обычно проводили лето, принадлежал деду Петара. Так как мать работала в школе, у нас было целых три месяца каникул – отец к нам приезжал попозже, поездом, – и впятером мы жили на утесах Адриатики. Но теперь мы оказались взаперти на суше, и ужины по выходным превратились в нервную пантомиму обыденности.
Перед приездом Петара и Марины я поругалась с матерью по поводу одежды.
– Ты же не в зверинце, Ана. Чтобы к ужину надела шорты, или ничего не получишь.
– А в Тиске я вообще в одних купальных трусах хожу, – возразила я, но под сердитым взглядом матери оделась.
В тот вечер взрослые опять затеяли свой вечный спор о том, сколько же они все-таки знакомы. Как они любили повторять, в моем возрасте они уже дружили, и неважно, сколько мне на тот момент было, а с добрый час спустя под бутылочку «Феравино» на том и сходились. Петар с Мариной не обзавелись детьми, и поиграть мне было не с кем, так что я сидела за столом с младшей сестренкой на руках и наблюдала их состязание за самое давнее воспоминание. Рахела, всего восьми месяцев от роду, побережья ни разу не видела, и я рассказывала ей про море и про нашу лодочку, а она улыбалась, когда я корчила рожицы, изображая разных рыб.
После ужина Петар подозвал меня и протянул горстку динаров.
– Посмотрим, сможешь ли ты побить свой рекорд, – сказал он.
Игра у нас была такая – я бегала в ларек ему за сигаретами, а он засекал время. Если побью рекорд, он отдаст мне пару динаров со сдачи. Я сунула деньги в карман рваных джинсовых шорт и мигом преодолела девять пролетов лестницы.
Я не сомневалась, что установлю новый рекорд. Свой маршрут я отточила до совершенства: знала, где вплотную огибать углы домов, а где остерегаться кочек в переулках. Я пробежала мимо дома с большущей оранжевой табличкой «Осторожно, злая собака» (хотя не помню, чтобы там вообще жила собака) и перемахнула через бетонные ступени, еле увернувшись от помойных контейнеров. Под бетонной аркой, где все время пахло мочой, я задержала дыхание и понеслась прямиком в город. Обогнув самую крупную рытвину перед баром, облюбованным охотниками пропустить стаканчик днем, я только чуточку притормозила, пробегая мимо старика-зазывалы за складным столиком, торговавшего краденым шоколадом. Красный навес газетного киоска трепыхался под редкими порывами ветра, словно финишный флажок, маячивший передо мной.
Я оперлась локтями о стойку, чтобы привлечь внимание продавца. Господин Петрович знал меня и знал, что мне нужно, но улыбка у него сегодня больше походила на усмешку.
– Тебе какие сигареты, сербские или хорватские?
То, как он нарочно разграничил две национальности, звучало неестественно. Из новостей я уже знала, что люди в том же духе говорят о сербах и хорватах из-за стычек в деревнях, но напрямую мне никто такого не высказывал. А взять не те сигареты я не хотела.
– Можно мне, пожалуйста, как обычно?
– Сербские или хорватские?
– Ну такие. В золотой обертке которые.
Я пыталась выглянуть из-за его здоровенного торса, указывая на полку у него за спиной. Но он только посмеялся и махнул рукой другому покупателю, а тот с ухмылкой глянул на меня.
– Эй! – попыталась я еще раз обратить внимание продавца на себя.
Но он пропустил мой оклик мимо ушей и стал отсчитывать сдачу следующему в очереди. Игру я уже проиграла, но все равно побежала домой со всех ног.
– Мистер Петрович сказал мне выбрать либо сербские, либо хорватские сигареты, – сказала я Петару. – Я не знала, что ответить, и он ничего мне не дал. Извини.
Родители переглянулись, а Петар жестом подозвал меня присесть к нему на колени. Он был высокого роста – выше отца – и раскраснелся от жары и вина. Я взобралась ему на широкую ляжку.
– Ничего, – сказал он, похлопав себя по животу. – Я все равно слишком наелся, чтобы курить.
Я достала деньги из кармана шорт и вернула их Петару. Он сунул мне в ладошку пару динаров.
– Но я же проиграла.
– Да, – ответил он. – Но сегодня ты тут ни при чем.
Тем вечером отец зашел в гостиную, где я спала, и присел на скамью перед стареньким пианино.
Пианино нам досталось в наследство от тети Петара – у них с Мариной дома ему места не нашлось, – но вызвать настройщика нам было не по карману, и первая октава так просела, что все тона звучали одинаково уныло. Я слышала, как отец жмет на педали, по привычке нервно двигая в ритм ногой, но клавиш он не касался. Некоторое время спустя он поднялся, подошел к дивану, где лежала я, и присел на подлокотник. Мы собирались скоро покупать матрас.
– Ана? Не спишь?
Я попыталась приоткрыть глаза и ощутила, как они забегали под веками.
– Не сплю, – выдавила я из себя.
– Фильтр 160. Они хорватские. В следующий раз не ошибешься.
– Фильтр 160, – повторила я, запечатляя в памяти его слова.
Отец поцеловал меня в лоб и пожелал спокойной ночи, но спустя пару секунд я заметила, что он так и стоит на пороге, загородив собой свет кухонной лампы.
– Был бы я рядом, – прошептал отец, но я не поняла, мне он это сказал или нет, поэтому лежала тихо, а он больше ничего говорить не стал.
Утром по телевизору передавали речь Милошевича, и от одного его вида я расхохоталась. У него были большие уши, толстое багровое лицо и обвислые щеки, как у понурого бульдога. Говорил он с гнусавым акцентом, даже близко не похожим на гортанный мягкий голос отца. Он рассерженно стучал кулаком по столу в такт своей речи. Говорил что-то про чистку страны, повторял это снова и снова. О чем он, я не понимала, но чем дольше он говорил и стучал, тем больше багровел. Я так хохотала, что мама выглянула из проема посмотреть, что там такого смешного.
– Ну-ка выключай.
Щеки у меня так и вспыхнули – я подумала, она разозлилась, что я смеялась над какой-то важной речью. Но лицо ее быстро смягчилось.
– Иди поиграй, – предложила она. – Могу поспорить, что Лука тебя уже опередил и сам доехал до Трг[2].
Тем летом мы с Лукой, моим лучшим другом, колесили на велосипедах по площади и гоняли в футбол с одноклассниками. Мы были все в веснушках, загорелые и неизменно в пятнах от травы, а теперь, когда до школы оставалась всего пара недель свободы, стали встречаться даже раньше и задерживаться позже обычного с твердым намерением не потратить зря какие-никакие каникулы. Луку я нагнала на нашем привычном маршруте. Мы ехали бок о бок, и он то и дело вихлял передним колесом в мою сторону так, что мы чуть не падали с великов. Это была его любимая забава, и он хохотал всю дорогу, но у меня из головы никак не шел Петрович. В школе нас учили не придавать значения отличительным этническим признакам, хотя определить происхождение по фамилии было нетрудно. Вместо этого нас приучали бездумно декламировать панславянские слоганы: «Bratstvo i Jedinstvo!» – «Братство и единство». Зато теперь, похоже, оказалось, что различия все же важны. Родные Луки были родом из Боснии, государства разношерстного, какой-то непонятной третьей категории. Сербы писали на кириллице, хорваты – на латинице, а в Боснии использовали оба алфавита, и выговор там отличался еще незначительней. Мне стало интересно, есть ли особый сорт боснийских сигарет и курит ли отец Луки такие.
Добравшись до Трг, мы увидели толпу, и я сразу поняла: тут что-то неладно. В свете недавнего сербо-хорватского раскола все – включая статую бана Елачича с саблей наголо – теперь казалось приметой волнений, которые я прозевала. Во времена Второй мировой саблю бана нацелили на венгров как бы в оборонительном жесте, но потом коммунисты снесли этот памятник в знак нейтрализации национальной символики. Мы с Лукой видели, как после прошедших накануне выборов мужчины с помощью веревок и тяжелой техники вернули Елачича на постамент. Теперь уже лицом на юг, в сторону Белграда.
Трг всегда была излюбленным местом для встреч, но сегодня люди с исступленным видом толклись у подножия статуи среди нагромождения грузовиков и тракторов, припаркованных прямо на булыжной мостовой, где в обычные дни машинам даже проезжать не разрешалось. На площади повсюду валялись пожитки, ящики для перевозки и целая уйма неприкаянной домашней утвари, которыми были битком набиты грузовики.
Мне вспомнился цыганский табор, мимо которого мы с родителями как-то проезжали на машине, когда ездили навестить могилы дедушки с бабушкой в Чаковце, – целые караваны повозок и трейлеров, скрывавших внутри таинственные инструменты и краденых детей.
«Вот возьмут и как плеснут в глаза кислотой, – пригрозила мать, стоило мне заерзать на церковной скамье, пока отец ставил свечи и молился за упокой своих родителей. – Слепые дети-попрошайки зарабатывают в три раза больше, чем зрячие».
Я взяла ее за руку и сидела тихо весь оставшийся день.
Мы с Лукой слезли с великов и стали робко пробираться к скопищу людей и пожитков. Но эти люди были не из кочевого племени с окраин северных деревушек – никто не разводил костров, не устраивал цирковых представлений, здесь не звучало музыки.
Весь лагерь держался буквально на одних лишь веревках. Канаты, бечевка, шнурки, обрывки ткани разной плотности хитросплетением узлов протянулись от машин и тракторов к горам скарба. На веревках раскинулись, образуя импровизированную палатку, простыни, одеяла и самые объемные предметы одежды. Мы с Лукой поглядывали то друг на друга, то на чужаков, не зная, как описать увиденное словами, но понимая, что хорошего тут мало.
Временный лагерь был опоясан свечами, таявшими возле коробок с надписью «Пожертвования в пользу беженцев». Большинство прохожих что-нибудь в коробку да кидали, кто-то даже выворачивал карманы.
– Кто это? – шепнула я.
– Не знаю, – отозвался Лука. – Может, тоже что-нибудь дадим?
Я достала из кармана полученные от Петара динары и отдала их Луке, побоявшись подойти поближе сама. Лука тоже нашарил пару монет, и я осталась сторожить его велосипед, пока он ходил до коробки. Увидев, как он наклонился, я жутко перепугалась, что веревочный город проглотит его, будто ожившие лианы из ужастиков. Когда Лука вернулся, я сунула руль ему в руки в такой силой, что он отшатнулся и чуть не упал. На обратном пути живот у меня будто в узел скрутило, и только много лет спустя я узнала, что это называется синдромом выжившего.
Мы с одноклассниками часто устраивали футбольные матчи ближе к восточной части парка, где в траве было поменьше кочек. Из девчонок я одна играла в футбол, но иногда другие тоже приходили на поле – попрыгать на скакалке и посплетничать.
– Почему ты одеваешься как мальчик? – спросила меня как-то девочка с косичками.
– В футбол удобнее играть в штанах, – ответила я.
На самом же деле я одевалась так потому, что одежду мне отдавал наш сосед, а ничего другого мы себе позволить не могли.
Мы стали собирать истории. Начинались они с перечня замысловатых связей и знакомств – троюродный брат лучшего друга, дядин начальник, – и тот, кому удавалось забить гол в условно обозначенные (и неизбежно подлежавшие дискуссии) ворота, рассказывал первый. У нас возникло негласное состязание в кровавых подробностях, и лавры доставались тому, кто умел изобретательнее всех описать, как вышибли мозги его дальним знакомым. Двоюродные братья Степана видели, как какому-то мальчику миной оторвало ногу, и прилипшие кусочки кожи еще целую неделю находили в ложбинках на тротуаре. Томислав слышал о мальчике, которому в Загоре снайпер прострелил глаз, и глазное яблоко растеклось, словно сырое яйцо, у всех на виду.
Дома мать ходила взад-вперед по кухне, разговаривая по телефону с друзьями из других городов, а потом высовывалась из окна и передавала новости соседям из ближайшего многоквартирного дома. Я стояла рядом и слушала, как она обсуждает с женщинами на другом конце бельевой веревки нараставшие на берегах Дуная волнения, и впитывала все, что только можно, а потом неслась на поиски друзей. Словно охватившая весь город сеть разведчиков, мы обменивались подслушанной информацией и передавали рассказы о жертвах, которые по кругу знакомств подбирались к нам все ближе и ближе.
В первый день после каникул учительница проводила перекличку и обнаружила, что кое-кто в классе отсутствует.
– Никто не знает, где Златко? – спросила она.
– Может, в Сербию свою вернулся, где ему и место, – сказал один мальчишка, Мате, которого я на дух не переносила. Некоторые сдавленно захихикали, и учительница их сразу одернула. Мой сосед по парте, Степан, поднял руку.
– Он переехал, – объяснил Степан.
– Переехал? – Учительница бегло полистала бумаги у себя в папке. – Ты уверен?
– Мы живем в одном доме. Пару дней назад я видел, как его родные вечером тащили в грузовик большущие чемоданы. Он сказал, им надо уехать, пока не начались авианалеты. Просил со всеми за него попрощаться.
В классе развернулось бурное обсуждение:
– А что такое авианалет?
– А кто у нас теперь будет за вратаря?
– Ну и скатертью дорожка!
– Захлопнись, Мате, – огрызнулась я.
– Хватит! – прикрикнула учительница. Мы затихли.
Авианалет, объяснила она, это когда самолеты пролетают над городами и бомбами пытаются разрушить здания. Она нарисовала мелом карту с местоположением убежищ, перечислила необходимые вещи, которые нашим семьям нужно взять с собой в бункер: АМ-приемник, канистру с водой, фонарик, батарейки для фонарика. Я не понимала, чьи это самолеты, что за здания они хотят взорвать и как отличить обычный самолет от опасного, но радовалась передышке от уроков. Вскоре учительница стерла все с доски, подняв сердитое облако меловой пыли. Она вздохнула, будто эти авианалеты ей уже осточертели, и стала стряхивать осевший на оборках юбки мел. Мы переключились на деление в столбик, и на вопросы времени у нас уже не осталось.
Случилось все, когда я бегала кое-куда по поручению матери. Мне нужно было добыть молока, а выдавали его в скользких пластиковых пакетах, которые выворачивались из рук при любых попытках слить содержимое или ухватить пакет покрепче, так что для перевозки строптивого груза я приспособила себе на руль картонную коробку. Но во всех ближайших к дому магазинах молоко закончилось – в магазинах теперь все кончалось, – и я зазвала Луку отправиться на вылазку вместе. Расширяя зону поисков, мы забирались все дальше в город.
Первый самолет пролетел так низко, что мы с Лукой потом любому, кто хотел послушать, клялись, что видели лицо пилота. Я пригнулась, руль перекрутился, и я свалилась с велосипеда. Лука тоже уставился в небо, но машинально продолжал крутить педали и, налетев на мой поваленный велик, грохнулся лицом об мостовую и рассек булыжником подбородок.
Мы кое-как поднялись на ноги и, не чувствуя боли – боль заглушил прилив адреналина, – наспех выправили велики.
И тут завыла сирена. Сквозь трескучие помехи паршивой аудиоаппаратуры. Сирена выла так, как будто женщина вопила в мегафон. Мы бросились бежать. Через улицу и дальше, по закоулкам.
– Какое тут ближе всего? – перекрикивая шум, спросил Лука.
Я мысленно представила карту на школьной доске, где звездочки и стрелочки обозначали разные пути.
– Есть одно под детским садиком.
На нашей первой детской площадке под горкой были цементные ступеньки, ведущие к стальной двери, в три раза толще обычной, похожей на толстенный том словаря. Двое мужчин придерживали открытую дверь, и со всех сторон люди стекались вниз, в потемки. Оставлять велосипеды на произвол судьбы перед лицом неотвратимой гибели нам с Лукой не хотелось, и мы подтащили их как можно ближе ко входу.
В убежище я уловила запах плесени и несвежих тел. Когда глаза привыкли к темноте, я осмотрелась.
В комнате стояли двухъярусные койки, деревянная скамья у входа и велосипед для выработки электричества в дальнем углу. Потом мы с одноклассниками воевали за этот велосипед, локтями выбивая себе право покрутить педали ради выработки электроэнергии, питавшей освещение в убежище. Но в первый раз мы на него едва обратили внимание. Слишком увлеченно мы рассматривали странное сборище людей, вырванных из повседневной жизни и сгрудившихся вместе в логове времен холодной войны. Я оглядела ближайшую ко мне компанию: мужчины в деловых костюмах и в спецовках с накинутой поверх курткой, как у отца, женщины в колготках и строгих юбках. Другие в передниках с детьми по бокам. Я задумалась, куда могли пойти мама с Рахелой; общественных убежищ рядом с домом не было. Тут я услышала крики Луки и поняла, что нас разделило наплывом новоприбывших. Я двинулась по направлению к нему, узнав его по мелькнувшей в толпе копне непослушных волос.
– У тебя кровь, – сказала я.
Лука вытер рукой подбородок и стал искать кровавый след на рукаве.
– Так и знал, что сегодня начнется. Я слышал, как отец вчера об этом говорил.
Отец Луки работал в полицейской академии и отвечал за обучение новобранцев. Меня расстроило, что Лука не сказал мне о возможности налета заранее. Он спокойно переносил темноту и стоял, свесив руку через перекладину лесенки, ведущей на верхнюю койку.
– А мне почему не сказал?
– Не хотел тебя пугать.
– Я и не боюсь, – ответила я.
Я и правда не боялась. Пока что.
Опять взвыла сирена, просигналив отбой. Мужчины, навалившись, отперли дверь, и мы поднялись по лестнице, сами не зная, чего ожидать. Снаружи было еще светло, и солнце ослепило меня, точь-в-точь как тьма в убежище. В глазах зарябило. А когда рябь рассеялась, площадка приняла привычные очертания. Ничего не стряслось.
Домой я ворвалась с парадного входа и объявила матери, что молока во всем Загребе нигде не осталось. Она резко выдвинула стул из-за кухонного стола, за которым проверяла стопку домашних заданий, встала и крепче прижала Рахелу к груди. Рахела заплакала.
– Ты цела? – спросила мать.
Она сгребла меня и с силой сжала в объятиях.
– Я в порядке. Мы ходили к детскому садику. А где были вы с Рахелой?
– В подвале. Около шупы.
Подвал нашего дома имел всего две отличительные черты: грязища и шупы. У каждой семьи была шупа, такая деревянная кладовка на замке. Я обожала заглядывать в щель между дверными петлями и косяком, словно на закрытой церемонии по досмотру скромнейшего семейного имущества. В нашей кладовке мы хранили картошку, и в темноте ей неплохо жилось. Подвал казался местом не самым надежным: ни тебе громадной металлической двери, ни двухъярусных коек, ни электрогенератора. Но когда я позже об этом спросила, мать как будто помрачнела.
– Одно другого не лучше, – сказала она.
Тем вечером отец пришел домой с коробкой из-под обуви, набитой доверху катушками коричневого скотча, который он стащил из трамвайного депо, где иногда подрабатывал. Он натягивал на окна по диагонали большущие липучие кресты, а я следом за ним придавливала скотч, разглаживая воздушные пузыри. Створчатые окна в пол, которые из гостиной вели на балкончик, мы проклеили в два слоя. Балкон был моим любимым местом в квартире. Если на меня вдруг накатывал острый приступ обиды после похода в гости к Луке, в дом, где его маме не приходилось работать и где он спал на настоящей кровати, я выходила на балкон, ложилась на спину, свесив ноги с карниза, и убеждала себя, что ни в каких частных домах не бывает таких высоченных балконов.
Теперь же я испугалась, что отец заклеит створки наглухо.
– Но мы же сможем выходить туда, да?
– Конечно, Ана. Мы просто укрепляем стекла.
Скотч, по идее, должен был не дать окнам разбиться при взрыве.
– Да и вообще, – усталым голосом добавил он, – немного скотча все равно не спасет.
2
– А мы какого цвета, еще раз?
Я подошла к отцу, читавшему газету, со спины, положила подбородок ему на плечо и ткнула пальцем в карту Хорватии, забрызганную красными и синими точками, обозначавшими враждующие армии. Он уже как-то объяснял, но у меня опять из головы вылетело.
– Синего, – ответил отец. – Национальная гвардия Хорватии. Полиция.
– А кто красного?
– Jugoslavenska Narodna Armija. ЮНА.
Я не понимала, зачем Югославская народная армия решила напасть на Хорватию, где жило столько югославов, но когда я спросила об этом отца, он лишь вздохнул и закрыл газету. В этот момент я мельком увидела фото на первой полосе с мужчинами, размахивавшими бензопилами и флагами с эмблемой в виде черепа. Они стояли у поваленного ими поперек дороги дерева, перегородив проезд в обе стороны; внизу страницы жирным черным шрифтом шел заголовок: «Революция бревен!»
– А это кто? – спросила я у отца.
У мужчин были густые бороды и разномастная униформа. Ни на одном военном параде я ни разу не видела, чтобы солдаты ЮНА ходили под пиратскими флагами.
– Четники, – ответил отец, сложив газету и сунув на полочку над телевизором, где мне было ее не достать.
– А что они с деревьями делают? И почему они не бреют бороды, они же в армии?
Я знала, бороды у них не просто так – давно уже подметила, как все лихорадочно бреются. В городе в то время на мужчин с более чем двухдневной щетиной поглядывали настороженно. Отец Луки неделей раньше сбрил бороду, которую носил еще до нашего рождения. Не в силах распрощаться с ней окончательно, он оставил усы, но смотрелось это скорее комично: пышная растительность над верхней губой превратила его лицо в фантом прежнего, каким мы его знали, и придала ему крайне осиротелый вид.
– Они православные. У мужчин в их церкви принято отпускать бороду, когда они скорбят.
– А почему им грустно?
– Они все ждут, когда на трон вернется сербский король.
– Но у нас же нет короля.
– Ну хватит, Ана, – оборвал меня отец.
Мне еще много чего хотелось узнать – какое отношение борода имеет к скорби, почему ЮНА и четники встали на сторону сербов, а у нас осталась только старая полиция, но прежде чем я успела задать очередной вопрос, мать вручила мне ножик и миску неочищенной картошки.
Даже среди царившего хаоса Лука продолжал изыскания. Он имел привычку задавать мне вопросы, на которые мне нечего было ответить, вопросы гипотетические, снабжавшие нас бесконечным запасом тем для разговора, пока мы катались на великах. Болтали мы по большей части о космосе, о том, как так выходит, что мы видим падающую звезду, хотя она уже мертва, или почему самолеты и птицы летают по воздуху, а мы ходим по земле, или придется ли на Луне все пить через трубочку. Но теперь пытливый взгляд Луки сосредоточился сугубо на теме войны – что имел в виду Милошевич, говоря о необходимости очистить страну, и как тут поможет война, если от взрывов все вверх дном? Почему вода течет наверх, если трубы проложены под землей, и если трубы разрывает при бомбежке, то разве в убежище для нас безопаснее, чем у себя дома?
Мне всегда было приятно слушать размышления Луки, приятно, что он дорожил моим мнением. С мальчишками, друзьями из школы, он обычно просто отмалчивался. А учитывая склонность взрослых уходить от моих расспросов, меня утешало, что хоть с кем-то можно было это обсудить. Но Луна была так далеко, а испытующее любопытство Луки било теперь по живому, и у меня трещала голова при мысли, что знакомые лица и городские закоулки стали частью пазла, который мне никак не сложить воедино.
– Вдруг нас убьет во время авианалета? – спросил он как-то раз.
– Ну, пока даже дома не взрывали, – возразила я.
– Ну а вдруг взорвут и кто-нибудь из нас умрет?
Почему-то представить, что умрет только он, оказалось намного страшнее, чем все, что я себе на-воображала до сих пор. От беспокойства меня бросило в пот, и я расстегнула куртку. Я так редко злилась на него, что еле распознала это чувство.
– Не умрешь ты, – ответила я. – Так что хватит голову себе забивать.
Я резко развернулась и бросила его одного на Трг, где беженцы уже собирали пожитки и готовились в дальнейший путь.
Мы вступили в новую эпоху ложной воздушной тревоги. Предупреждений о налетах и досрочных предупреждений. Стоило полицейской разведке заметить на подлете к городу сербские самолеты, как по телевизору вверху экрана пускали бегущую строку с предупреждением. Не звучало никаких сирен, никто не разбегался по укрытиям, но те, кто видел предупреждение, высовывали головы в коридор и заводили: «Zammčenje, zamračenje!» Клич пролетал по лестницам, по бельевым веревкам перекидывался на соседние дома, перемахивал на ту сторону улицы, и в воздухе гудел зловещий шепот: «Тушите свет».
Мы завешивали шторами переклеенные скотчем рамы и поверх закрепляли куски черной материи. Сидя на полу в темноте, я не боялась, скорее ощущала что-то вроде предвкушения во время особенно напряженной игры в прятки.
– Кажется, ей плохо, – как-то вечером сказала мать, пока мы сидели на корточках под подоконником.
Рахела плакала и плакала, не унимаясь, будто под заклятием, наложенным за несколько дней до того.
– Может, она боится темноты, – предположила я, хотя и так уже знала, что дело не в этом.
– Все, отвезу ее к врачу.
– Все с ней хорошо, – отрезал отец не допускавшим возражений тоном.
Был в нашем доме серб, который наотрез отказывался задергивать шторы. Он включал в квартире все лампы и врубал на всю катушку на своей крутейшей магнитоле кассеты с безвкусной оркестровой музыкой, набравшей популярность на подъеме коммунизма. По ночам соседи поочередно ходили умолять его выключить свет. Просили его сжалиться над ними и помочь им защитить своих детей. Когда и это не помогало, они прибегали к логике, внушая ему, что если на дом сбросят бомбу, то он умрет вместе со всеми. Но он, по-видимому, был готов принести себя в жертву.
По выходным, когда он был на автостоянке и чинил свой неисправный «юго», мы часто шныряли вокруг и таскали у него инструменты, пока он не видел. Иногда по утрам перед школой мы высыпали в коридор и собирались у него под дверью. Мы настырно трезвонили и убегали, заслышав по ту сторону двери приближавшийся топот.
Пару недель спустя после прибытия беженцев в город в школе объявились их дети. Не имея записей об их академических успехах, учителя пытались, насколько могли, равномернее распределить их по классам. В наш класс попали два мальчика, и по возрасту они вроде бы вписывались. Приехали они из Вуковара и говорили с забавным акцентом.
Вуковар был городком в паре часов езды от нас и никогда особенно не выделялся в мирное время, зато теперь его все время показывали в новостях. С улиц Вуковара исчезали люди. Одних под дулом пистолета вынуждали уходить на восток, другие в ходе ночных бомбардировок превращались в кровавое облако. Оба мальчика прошли пешком до самого Загреба и распространяться об этом не любили. Даже когда они освоились на новом месте, вид у них всегда был потрепаннее нашего, а темные круги под глазами – всегда потемнее, и относились мы к ним с отстраненным любопытством.
Жили они на складе, который мы за его запустелость прозвали Сахарой; туда ходили ребята постарше – болтать, курить и целоваться в темноте. Поползли всякие слухи: люди, мол, спят на полу, а туалет всего один, или вообще нет никакого туалета, и уж точно нет туалетной бумаги. Мы с Лукой пытались пару раз туда пробраться, но у двери стоял солдат и проверял у всех документы.
Документы скоро стали проверять и на входе в наш дом. Жильцы поочередно посылали кого-то из взрослых на пятичасовые смены караулить парадную дверь, опасаясь какого-нибудь четника, который мог войти и подорваться. Как-то вечером вспыхнула ссора: мужчины так громко орали на улице, что слышно было даже сквозь закрытые окна. Караульный не хотел пускать того серба домой.
– Да ты вообще озверел! Детей наших хочешь угробить! – кричал сторожевой.
– Ничего подобного и в мыслях не было.
– Так вырубай к черту свет, когда затемнение!
– Я тебе сейчас свет вырублю, мусульманин вонючий! – рявкнул серб и потом еще долго кричал и плевался.
Отец открыл окно и высунулся наружу.
– Совсем озверели, вы оба! Мы тут поспать пытаемся!
От шума проснулась Рахела и опять принялась голосить. Мать, сердито зыркнув на отца, ушла в спальню и достала младшенькую из кроватки. Отец надел рабочую обувь и кинулся вниз по лестнице на подмогу, пока не завязалась драка. Всех полицейских отослали нести воинскую службу, так что разбираться больше было некому.
– А тебе когда-нибудь тоже придется уйти в армию? – спросила я у отца.
– Ну, я не полицейский, – ответил он.
– У Степана папа тоже не в полиции, но ему пришлось пойти.
Отец вздохнул и задумчиво потер лоб.
– Давай-ка все-таки ложиться спать.
Легким движением руки он сгреб меня в охапку и закинул на диван.
– По правде, стыдно признаться… Но в армию меня не допустят. Из-за глаза.
Отец страдал косоглазием и плохо чувствовал расстояния. Даже за рулем порой закрывал больной глаз и, прищурив здоровый, наугад держал дистанцию до машины впереди, полагаясь на удачу. Он давно приноровился и любил похвастаться, что в аварию еще ни разу не попадал. Только убедить солдат из бывших полицейских в эффективности методики надежды на удачу было сложнее, особенно когда речь шла о гранатах.
– По крайней мере пока что. Может, если будет нехватка людей, меня возьмут радистом или механиком. Но не в настоящие солдаты, конечно.
– А чего тут стыдного? – сказала я. – Ты же не виноват.
– Но разве не лучше, если бы я мог встать на защиту страны?
– А я вот рада, что тебя не возьмут.
Отец наклонился и поцеловал меня в лоб.
– Ну, по тебе бы я, наверное, скучал.
Свет мигнул и тут же погас.
– Все, все, ложится она! – крикнул он в потолок, и я захихикала.
Отец ушел на кухню, и я слышала, как он, натыкаясь на мебель, шарит в поисках спичек.
– В верхнем ящике у раковины, – крикнула я.
Я выключила лампочку на случай, если среди ночи дадут электричество, и волевым усилием заставила себя заснуть в этой внезапно наступившей тишине.
В силу побочного эффекта современных военных конфликтов нам выпал уникальный шанс наблюдать по телевизору разрушение своей же страны. Работало всего два канала, и поскольку по всему Восточному блоку шло танковое наступление и велась окопная война, а войска ЮНА стояли уже в сотне километров от Загреба, эфир обоих каналов отдали под оповещение населения, новостные сводки и политическую сатиру – жанр, набиравший обороты с тех самых пор, как отпала нужда остерегаться тайной полиции. Страх надолго отходить от телевизора или радио, пропустить очередную весточку от друзей, пребывать в неведении в принципе сковывал настолько, что живот физически крутило, будто от голода. Включать новости фоном во время еды уже вошло в обиход, причем настолько плотно, что даже после окончания войны телевизоры надолго обосновались на кухнях хорватских домов.
Мать у меня была учительницей английского в техникуме, и домой мы с ней из разных школ возвращались почти в одно и то же время: я – вся в грязи, а она – измотанная, с Рахелой на руках, которая на время школьных занятий оставалась у старушки из квартиры в конце коридора. Мы включали новости, и мать передавала мне Рахелу, а сама бралась за деревянную ложку и принималась стряпать очередную похлебку из воды, моркови и кусков куриной тушки. А я садилась за кухонный стол, сажала Рахелу на колени и рассказывала обеим, что узнала за день. Родители строго следили за моей успеваемостью: мать – потому что окончила колледж, отец – потому что колледжа не оканчивал, – и мать периодически спрашивала у меня таблицу умножения или правописание какого-нибудь слова, а после этих мини-контрольных иногда давала в награду кусочек сладкого хлеба, припрятанного в шкафчике под раковиной.
Как-то раз меня привлек особенно длинный текстовый блок экстренных новостей, я даже бросила рассказывать об уроках и включила телевизор погромче. Корреспондент, прижимая к уху наушник, объявил, что поступило срочное сообщение, прямое включение из Шибеника, с южного фронта. Мать тут же бросила суетиться у плиты и кинулась ко мне смотреть репортаж.
Оператор неуклюже спрыгнул с каменного уступа, чтобы удачнее заснять падавший в море сербский самолет с подбитым двигателем, охваченный пламенем и сливавшийся с позднесентябрьским закатом. А справа – второй самолет, полыхнувший прямо в воздухе. Оператор развернулся показать солдата хорватской противовоздушной артиллерии, недоуменно демонстрировавшего дело рук своих: «Oba dva! Oba su pala!» Обоих сбили! Обоих!
Репортаж, так и названный «Oba supala», крутили на обоих каналах весь оставшийся день, да и на протяжении всей войны. Фраза «Oba su pala» стала боевым лозунгом, и каждый раз, когда мы слышали его по телевизору, с улицы или где-то за стеной в адрес серба с верхнего этажа, мы себе напоминали, что даже в меньшинстве и с меньшим количеством вооружения мы все равно тесним врага.
Когда мы с мамой в первый раз это увидели, она похлопала меня по плечу, ведь эти люди защищали Хорватию, а боевые действия с виду казались не слишком опасными. Она улыбалась, на плите кипел суп, даже Рахела в кои-то веки не плакала, и я позволила себе поддаться иллюзии, хотя заранее понимала, что это всего лишь иллюзия, – что здесь, в нашей квартире и в кругу семьи, я в безопасности.
3
– В субботу врач нас уж точно не примет, – сказал отец.
Мать пропустила его слова мимо ушей и продолжила набивать сумочку хлебом и яблоками.
– Доктор Кович ее предупредила. Она нас ждет.
Рахелу уже две недели тошнило, и на вторую мать брала отгул за отгулом, все за свой счет, разбираясь в путаной коммунистической системе здравоохранения – бегала от одного врача к другому, получала направление, потом второе, этот врач принимает только по средам, тот – по вторникам и четвергам, с часу до четырех. У Рахелы брали анализы крови, делали рентген (процедуру проводил один врач, расшифровкой занимался другой), пытались кормить ее специальной дорогущей смесью из бутылочки, хотя достать ее было практически невозможно. Но Рахела только тощала, и теперь родители ночами не спали, по очереди придерживая ее в сидячем положении, чтобы она не захлебнулась собственной рвотой.
– Но это же в Словении, Дияна. Как мы за это заплатим?
– У нас дочь заболела. Мне плевать, как мы за это заплатим.
Я донесла Рахелу до машины и усадила ее в креслице.
В Словении война продлилась десять дней. Эта страна не граничила с Сербией, не имела выхода к морю, и ее население к нежелательной этнической группе не принадлежало. Словения стала свободной. Отдельной страной. Мы проезжали запустелые поля на севере Хорватии, когда отец затормозил по сигналу словенского полицейского, указавшего нам в сторону наспех выстроенной таможенной будки, которая была призвана обозначить новую границу. Отец приоткрыл окно, а мать полезла в сумочку в поисках паспортов. Как-то зимой мы ездили в Словению на денек в Чатеш, крытый аквапарк на самой границе. Странно, думала я, что без паспорта нельзя сходить поплавать. Послюнявив большой палец, полицейский бегло пролистал наши документы.
– Цель визита?
– Навещаем кузенов, – ответил отец.
Я удивилась, зачем он соврал.
– На какой срок приехали?
– Всего на день. На пару часов.
– Ну ясно, – ухмыльнулся в ответ офицер.
Я вспомнила, как однажды мы ездили в Австрию, где нам поставили в паспорта квадратные чернильные штампики, а тут таможенник просто чиркнул ручкой и пропустил нас.
Я могла только догадываться, что нас ждет в другой стране, но, к моему разочарованию, Словения оказалась все той же, какой я ее запомнила – такая же, как Хорватия в ее сельских районах за пределами Загреба: плоская, пустынная, заросшая травой равнина с горами на заднем плане, которые всегда как будто только маячили где-то вдали.
– Ты же знаешь, что на деньги мне наплевать, – сказал отец, нарушив тишину, повисшую еще с отъезда из дома.
– Знаю.
– Я просто беспокоюсь.
– Я знаю.
Отец взял маму за руку и поцеловал внутреннюю сторону запястья.
– Я знаю, – отозвалась она.
На подъезде к столице люди селились плотней, и город опоясывали скученные застройки. По сути, Любляна выглядела как уменьшенная, компактная копия Загреба – за исключением того, что река текла тут прямо через город, а не по окраине. Отличия между хорватским и словенским были нестерпимо мизерны, и слова на витринах и вывесках, с виду знакомые, но не совсем, оставались мучительно недосягаемыми для понимания.
– Поликлиника в другую сторону, – возразил отец, когда мать сказала ему повернуть в какой-то безымянный переулок.
Он всегда преувеличенно отчетливо выговаривал слова, когда раздражался.
– Вот тут, – сказала мать.
Она указала на квартиру на втором этаже с наклеенным поперек двери красным крестом. Отец припарковал машину перед пожарным гидрантом.
– Добрый день, – поприветствовала нас по-английски какая-то женщина и пригласила войти. – Меня зовут доктор Карсон.
Я с первого класса учила английский, но для себя сочла этот язык смутно-невнятным, словно грамматику придумывали на ходу. И все же я твердо решила собраться с мыслями и вслушаться, насколько сумею. Доктор Карсон крепко пожала родителям руки. С порога мы сразу же очутились в гостиной, и женщина подвела нас к дивану, слишком большому для этой комнаты, с протертыми подушками в цветочек. По стенам висели, каждая с плакат размером, черно-белые фото тщедушных детишек в объятиях американских белозубых врачей. Под фотографиями на плакатах крупными печатными буквами было написано: «Медимиссия», а дальше следовали вариации ободряющих слоганов о детях, чудесах и светлом будущем.
Доктор Карсон оказалась стройной блондинкой, и зубы у нее были такие же, как у людей с фотографий, на основании чего я ее категорически невзлюбила, а самоуверенное выражение ее лица напоминало мне присущую учителям манеру говорить с глуповатыми, по их мнению, учениками. Но я понимала, что лучшего шанса на выздоровление у Рахелы не будет, и хотя вместо врачебного халата доктор Карсон носила обычные джинсы и резиновые перчатки со стетоскопом, оборудование у нее было лучше, чем в любой из наших больниц.
Кровь на анализ она взяла прямо на кухне.
– Тут все стерильно, – без конца повторяла она, но нам-то ничего другого не оставалось.
Мне было неприятно видеть, как женщина прижала крохотную ручонку Рахелы к столешнице, хотя та и не плакала с самого приезда сюда. Вид у нее был усталый. Я отвернулась и уставилась на фотографию девочки-азиатки с наполовину обожженным лицом, искореженным, как узловатая кора у деревьев; врач, усадив ребенка себе на колено, накладывал повязку.