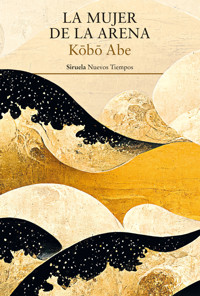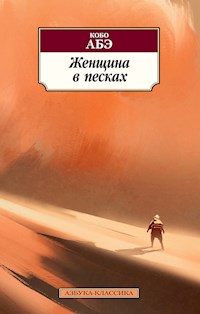Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Азбука
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Азбука-классика
- Sprache: Russisch
Кобо Абэ – знаменитый японский прозаик и драматург. Масштаб его таланта огромен, его книги загадочны, увлекательны и парадоксальны. Эти своеобразные романы-притчи повествуют о людях, находящихся под властью навязчивой идеи или оказавшихся в ситуации, похожей на фантастический сон. Герой романа "Чужое лицо" вследствие несчастного случая вынужден создать себе новое лицо-маску, отгородившись с его помощью от контактов с внешним миром. Однако, изменив свое лицо, он ощущает, как изменяется его личность. Маска не только окутывает надевшего ее человека некоей тайной, но и провоцирует новые, подчас весьма странные желания…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Содержание
Кобо
АБЭ
Чужое лицо
РоманСанкт-Петербург
Kobo Abe
THE FACE OF ANOTHER
Copyright© 1964 by Kobo Abe
Russian translation rights arranged with Neri Abethrough Japan UNI Agency, Inc., Tokyo
All rights reserved
Перевод с японского Владимира Гривнина
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Абэ К.
Чужое лицо : роман / Кобо Абэ ; пер. с яп. В. Гривнина. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-13645-8
16+
Кобо Абэ — знаменитый японский прозаик и драматург. Масштаб его таланта огромен, его книги загадочны, увлекательны и парадоксальны. Эти своеобразные романы-притчи повествуют о людях, находящихся под властью навязчивой идеи или оказавшихся в ситуации, похожей на фантастический сон.
Герой романа «Чужое лицо» вследствие несчастного случая вынужден создать себе новое лицо-маску, отгородившись с его помощью от контактов с внешним миром. Однако, изменив свое лицо, он ощущает, как изменяется его личность. Маска не только окутывает надевшего ее человека некой тайной, но и провоцирует новые, подчас весьма странные желания…
© В. С. Гривнин (наследник), перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017 Издательство АЗБУКА®
Ты все же пришла, преодолев запутанный лабиринт, доверившись полученному от него плану, ты наконец пришла в это убежище. Несмело ступая, ты поднялась по лестнице, поскрипывающей, как педали органа; и вот комната. Затаив дыхание, постучала — ответа почему-то не последовало. Вместо ответа вприпрыжку, как котенок, подбежала девочка и открыла тебе дверь. Ты окликаешь ее, пытаясь узнать, не передавал ли он тебе что-нибудь, но девочка, ничего не ответив, только улыбнулась и убежала.
Тебе был нужен он, и ты заглянула в дверь. Но не увидела его, не увидела ничего, что напоминало бы о нем, — мертвая комната, в которой витает дух запустения. Вид тусклой стены заставил тебя вздрогнуть. Ты собралась было уйти, хотя чувствовала себя виноватой, но вдруг тебе попались на глаза три тетради, лежавшие на столе, и рядом — письмо. Тут ты сообразила, что все-таки попала в ловушку. Какие бы горькие мысли ни овладели тобой в эту минуту, все равно — соблазн непреодолим. Дрожащими руками разрываешь конверт и начинаешь читать письмо...
Ты почувствовала, наверно, злость, почувствовала, наверно, обиду. Но я выдержу твой взгляд, упругий, как сдавленная пружина: я во что бы то ни стало хочу, чтобы ты продолжала читать. У меня нет никакой надежды, что ты благополучно преодолеешь эти минуты и сделаешь шаг в мою сторону. Я уничтожен им или он уничтожен мной? — так или иначе, занавес в трагедии масок опустился. Я убил его, признал себя преступником и хочу сознаться во всем до конца. Из великодушия или нет, но я хочу, чтобы ты продолжала читать. Тот, кто обладает правом казнить, обязан выслушать показания обвиняемого. И так просто отвернуться от меня, стоящего перед тобой на коленях, — не заподозрят ли тебя в том, что ты соучастница преступления? Ну ладно, садись, чувствуй себя как дома. Если в комнате душно, сразу же открой окно. Чайник и чашки, если понадобятся, на кухне. Как только ты спокойно усядешься, это убежище, запрятанное в конце лабиринта, превратится в зал суда. И, пока ты просматриваешь показания, я, чтобы сделать конец трагедии масок еще более достоверным, буду ждать сколько угодно, латая прорехи в занавесе. Да и одни воспоминания о нем не дадут мне скучать.
Итак, возвратимся к тому, что произошло со мной совсем недавно, утром, за три дня до того момента, который для тебя «сейчас». В ту ночь ветер, смешанный с дождем, в котором будто растворили мед, с жалобным стоном сотрясал окно. Весь день я обливался потом, а когда зашло солнце, захотелось погреться у огня. Газеты писали, что еще вернутся холода, но, как бы то ни было, дни стали длиннее, и едва кончится этот дождь, сразу почувствуешь, что наступило лето. Стоило подумать об этом, и сердце начинало тревожно биться. В нынешнем моем положении я похож на фигурку из воска, беззащитную перед жарой. При одной лишь мысли об ослепительном солнце вся моя кожа покрывалась волдырями.
Тогда я решил любым способом покончить со всем, пока не наступило лето. По долгосрочному прогнозу, в течение трех-четырех дней с материка распространится высокое атмосферное давление и возникнут метеорологические явления, характерные для лета. Мое единственное желание — в течение трех дней закончить приготовления для твоей встречи и сделать так, чтобы ты начала читать это письмо. Но нельзя сказать, что три дня — срок достаточный. Как ты сама понимаешь, показания, о которых я упоминал, — это три исписанные убористым почерком тетради, которые охватывают события целого года. В день я должен обработать по тетради, добавлять, вычеркивать, переделывать и оставить тебе текст в таком виде, который бы удовлетворил меня, — труд поистине огромный. Я настроился на работу и, купив на ужин пирожки с мясом, обильно сдобренным чесноком, вернулся сегодня домой часа на два раньше обычного.
Ну и какой же результат?.. Отвратительный... Я вновь ощутил, к чему может привести убийственный недостаток времени. Пробежал написанное и почувствовал омерзение к себе — записки выглядят почти как попытка оправдаться. Но такое неизбежно в эту залитую дождем, будто созданную для гибели ночь, когда промозглая сырость тревожит душу. Не стану отрицать — финал выглядит достаточно жалким, но я тешу себя надеждой, что всегда полностью отдавал себе отчет в происходящем. Без этой уверенности я вряд ли мог бы писать с такой неутолимой жадностью, независимо от того, послужат мои записки подтверждением алиби или, наоборот, вещественным доказательством виновности. Я до сих пор твердо убежден в одном, и не потому, что нелегко признать свое поражение: лабиринт, в который я сам себя загнал, был неизбежен, как Страшный суд. Но вопреки ожиданиям мои записки просят пощады жалобным голосом, похожим на голос приблудной кошки, запертой в комнате. Не знаю, удастся ли мне, забыв, что я располагаю всего тремя днями, обработать записки настолько, чтобы они меня удовлетворили.
Ну, хватит. Настал момент, когда я твердо решил рассказать обо всем откровенно, — ощущение, точно в горле застрял непрожеванный кусок жилистого мяса, стало для меня невыносимым. Если те страницы, которые вопиют, покажутся тебе никчемными и ты их только пролистаешь — ну что ж. Ты, например, не переносишь визг электрической дрели, шуршание тараканов, скрежет гвоздя по стеклу. Но вряд ли можно сказать, что это самое важное в жизни. Почему визг электрической дрели — понять можно: он, видимо, ассоциируется с бормашиной. Два же других звука вызывают — не назовешь иначе — какую-то нервную сыпь. Но мне еще не приходилось слышать, чтобы сыпь была опасна для жизни.
Однако всему есть мера, пора, пожалуй, кончать. Сколько ни нагромождай оправданий, — они ни к чему. Куда важнее, чтобы ты не бросила на полдороге это письмо — мое время кончается, оно накладывается на твое настоящее, — а потом перешла к чтению записок... Я будунеотступно следовать за течением твоего времени, читай их не отрываясь до последней страницы...
Сейчас ты уже, наверное, успокоилась? Чай в низкой зеленой банке. Кипяток — в термосе.
Черная тетрадь
Прежде всего — последовательность тетрадей по цвету обложек: черная, белая, серая. Между цветом и содержанием нет, конечно, никакой связи. Я выбрал их наугад, просто чтобы легче было различать.
* * *
Начну, пожалуй, с рассказа об убежище. Да, собственно, какая разница, с чего начать. Легче всего начать рассказ с того самого дня. Это было примерно полмесяца назад, когда я сказал тебе, что должен поехать на неделю в командировку. Моя первая большая поездка с тех пор, как я вышел из больницы. Я думаю, ты тоже запомнила этот день. Я придумал и цель командировки — проверка хода работ по сооружению завода полиграфической краски в Осаке. Первое, что пришло мне в голову. На самом же деле с того дня я укрылся в доме S. и стал готовиться к осуществлению своего плана.
В тот день я писал в своем дневнике:
«26 мая. Дождь. По газетному объявлению посетил дом. Увидев мое лицо, девочка, игравшая во дворе, заплакала. Решил остановить выбор на этом доме — место прекрасное, расположение квартиры почти идеальное. Бодрит запах нового дерева и краски. Соседняя квартира как будто еще не занята. Хорошо бы и ее снять, но...»
Но я не собирался скрываться в доме S. под чужим именем, не собирался выдавать себя за другого. Это, может быть, покажется неразумным, но у меня был свой расчет. Мое лицо сейчас уж никак ни годилось для мелких плутней. Действительно, игравшая у подъезда девочка, по виду уже школьница, едва увидев меня, расплакалась, как будто вспомнила страшный сон. Правда, управляющий, стараясь как можно лучше обслужить клиента, был невероятно приветлив...
Нет, приветлив был не только управляющий. Как это ни печально, почти все люди, встречавшиеся со мной, были приветливы. И поскольку их не тянуло слишком глубоко вникать в мои дела, каждый делал хорошую мину. И это понятно. Они не решались взглянуть мне прямо в лицо, так что им приходилось быть приветливыми. Потому-то я и имел возможность избегать бессмысленных расспросов. Окруженный непреодолимой стеной приветливости, я всегда был совершенно одинок.
Дом только что построили, так что примерно половина из его восемнадцати квартир еще не была занята. Управляющий, сделав понимающее лицо, без всякой моей просьбы услужливо выбрал самую дальнюю квартиру на втором этаже, рядом с черной лестницей. Во всяком случае, внешне он был чрезвычайно услужлив. Квартира мне понравилась, хотя бы потому, что ее выбрали для меня специально. Разумеется, там была и ванная, а в комнате стояли, хотя и не особо изысканные, стол и два стула, да к тому же она в отличие от других квартир имела эркер, очень большой — почти как застекленная терраса. Черная лестница вела к стоянке для пяти-шести машин, а оттуда можно было выйти на другую улицу. Это, конечно, очень удобно и еще больше повышало ценность квартиры. Я должен был с самого начала все предусмотреть и потому сразу же заплатил за три месяца вперед. Потом я попросил купить мне в ближайшем магазине постельные принадлежности. Управляющий, изображая безмерную радость, болтал без умолку, рассказывал, как хорошо устроена вентиляция и какая квартира солнечная. А покончив с этой темой, готов был перейти к рассказу уже о своей жизни. Но к счастью, когда он отдавал мне ключ от квартиры, тот выскользнул из его пальцев и со звоном покатился по полу. Управляющий в замешательстве ретировался. Я вздохнул с облегчением... Как было бы хорошо, если бы с людей всегда вот так легко можно было содрать налет лжи.
* * *
Стемнело, я уже не мог разглядеть пальцы на руке, даже поднеся к самому лицу. Комната, которая не знала еще человеческого тепла, была безжизненно холодной и неприветливой. Но она казалась мне лучше, чем приветливые люди. К тому же, с тех пор как случилось это несчастье, я больше всего полюбил темноту. Правда, как было бы хорошо, если б все люди на земле вдруг лишились глаз или забыли о существовании света. Наконец удалось бы достигнуть единодушия относительно формы. Все согласились бы, что хлеб — это хлеб, независимо от того, треугольный он или круглый... Да вот, например, как было бы хорошо, если б та маленькая девочка, еще не видя меня, зажмурилась и услыхала только мой голос. Тогда, может быть, мы привыкли бы друг к другу, стали друзьями, — вместе ходили в парк, ели мороженое... И только потому, что всюду лез этот назойливый свет, девочка ошиблась, приняв треугольный хлеб не за хлеб, а за треугольник. То, что называют светом, само по себе прозрачно, но все предметы, попадая в его лучи, становятся непрозрачными.
Однако свет все же существует, и тьма — это лишь строго ограниченная временем отсрочка исполнения приговора. Когда я открыл окно, в комнату, как клуб черного пара, ворвался пропитанный дождем ветер. Захлебнувшись им, я закашлялся, снял темные очки и вытер слезы. Электрические провода, верхушки столбов, карнизы домов, выстроившихся в ряд вдоль широкой улицы, слабо поблескивали, когда фары проносившихся мимо автомобилей скользили по ним белыми столбами света, точно мелом по черной доске.
В коридоре послышались шаги. Привычным движением я снова надел очки. Из магазина принесли постельные принадлежности, которые я заказал через управляющего. Деньги я подсунул под дверь и попросил оставить покупки в коридоре.
Итак, приготовления к старту как будто закончены. Я разделся и открыл платяной шкаф. В створку с внутренней стороны было вделано зеркало. Я снова снял очки, сбросил повязку и, пристально вглядываясь в зеркало, начал разбинтовывать лицо. Намотанные в три слоя бинты насквозь пропитались потом и стали вдвое тяжелее, чем утром, когда я их наматывал.
Как только я освободил лицо от бинтов, на него выползли полчища пиявок — багровые, переплетающиеся келоидные рубцы... Что за отвратительное зрелище!.. Но это повторяется каждый день, как урок, — пора бы привыкнуть.
Меня еще больше разозлил мой, казалось бы, беспричинный испуг. Если вдуматься — не имеющая никаких оснований, неразумная чувствительность. Стоит ли поднимать такой шум из-за какой-то оболочки человека, да еще из-за ее небольшой части — кожи лица? Честно говоря, подобный предрассудок, устоявшийся взгляд ничуть не удивителен. Например, вера в колдовство... расовые предрассудки... безотчетный страх перед змеями (или тот же болезненный страх перед тараканами, о котором я уже писал)... Вот потому-то не прыщавый желторотый юнец, живущий иллюзиями, но даже я, заведующий важной лабораторией в солидном институте и накрепко, чуть ли не корабельным канатом привязанный к обществу, страдал от охватившей меня душевной аллергии. Прекрасно сознавая, что для особой ненависти к этому обиталищу пиявок нет никаких оснований, я ничего не мог поделать с собой и испытывал к нему непреодолимое отвращение.
Я, разумеется, предпринимал бесчисленные попытки преодолеть себя. Чем пройти мимо, отвернувшись, гораздо лучше посмотреть правде в глаза и привыкнуть к своему положению раз и навсегда. Если сам перестанешь обращать внимание, другие поступят так же. Несомненно. Исходя из этого, я и в институте стал часто говорить о своем лице. Я, например, с наигранной веселостью сравнивал себя с чудовищем в маске, которое показывают в телевизионных мультфильмах. Говорил с той же наигранной веселостью, как удобно видеть и не быть видимым, когда можешь подсматривать за другими, для которых выражение твоего лица скрыто. Самый быстрый способ привыкнуть самому — приучать других.
Такой результат был, пожалуй, достигнут. Очень скоро в лаборатории я уже не чувствовал прежней напряженности. Дошло до того, что чудовище в маске тоже перестало быть пугалом, и в бесконечном его появлении на экранах телевизоров и в комиксах мои товарищи стали даже усматривать определенный резон. Действительно, маска, если, конечно, под ней не гнездятся пиявки, безусловно, имеет свои удобства. Если облачение тела в одежды знаменует прогресс цивилизации, то вряд ли можно быть гарантированным от того, что в будущем маска не станет самой обыденной вещью. Даже теперь маски часто используются в важнейших обрядах, на празднествах, и я затрудняюсь дать этому факту исчерпывающее объяснение, но мне представляется, что маска, видимо, делает взаимоотношения между людьми значительно более универсальными, менее индивидуальными, чем когда лицо открыто...
Временами я начинал верить, что хоть и медленно, но все же пошел на поправку. Однако я еще по-настоящему не представлял себе, сколь ужасно мое лицо. А все это время под бинтами продолжалось беспрерывное наступление пиявок. Обмораживание жидким воздухом не поражает так глубоко, как ожог, и, следовательно, заживление должно идти сравнительно быстро. Однако вопреки уверениям врачей, сокрушив все возможные оборонительные рубежи — прием теразина, инъекции кортизона, радиотерапия, — орды пиявок, бросая в бой все новые и новые силы, расширяли и без того обширный плацдарм на моем лице.
Однажды, например... Это случилось в обеденный перерыв, в тот день, когда я возвратился после совещания по согласованию работы нашей лаборатории с другими. Молодая лаборантка, только что окончившая институт, подошла ко мне, перелистывая страницы книги, всем своим видом показывая, что хочет мне что-то сказать. «Посмотрите, сэнсэй1, какая забавная картинка». В книжке, которую она мне со смехом протянула, под ее тоненьким пальчиком был рисунок Клее «Фальшивое лицо». Лицо, расчерченное параллельными горизонтальными линиями, если присмотреться, казалось обмотанным бинтами. Оставались лишь узкие щелочки для глаз и рта — все это безжалостно подчеркивало отсутствие в лице всякого выражения. Я неожиданно почувствовал себя глубоко уязвленным. У девушки не было, конечно, злого умысла. Я ведь сам сознательно своими разговорами спровоцировал ее на такой поступок. Ничего, успокойся!.. Если раздражаться из-за подобного пустяка, то все мои усилия будут лопаться, как пузырьки на воде... Так я уговаривал себя, но вынести этого не мог — рисунок даже начал казаться мне моим собственным лицом, каким оно представляется девушке... «Фальшивое лицо», каким его видят другие, лишенное возможности открыть себя... Меня мучила мысль, что девушке я кажусь именно таким.
Неожиданно для себя я выхватил у нее книжку и разорвал пополам. Вместе с ней разорвалось и мое сердце. И из него, точно из протухшего яйца, хлынула переполнявшая меня горечь. Я растерянно собрал разорванные страницы и с извинениями вернул их девушке. Но было уже поздно. Раздался звук, который в обычных условиях невозможно услышать: такой свистящий шорох слышен, когда в термостате изгибается металлическая пластинка. Должно быть, испуганная девушка изо всех сил сжала под юбкой колени.
* * *
Возможно, я еще не осознал всего, что скрывалось за моей тогдашней тоской. Буквально физически ощущая муки стыда, я все же не мог точноопределить, чего же, собственно, я так стыжусь. Нет, пожалуй, если б захотел, то смог бы, но я инстинктивно избегал смотреть правде в глаза и спасался в тени избитой, банальной фразы: подобное поведение недостойно взрослого человека. Я всегда был убежден, что в жизни человека лицо не должно занимать такое большое место. Значимость человека в конечном счете нужно измерять содержанием выполняемой им работы, а это связано с уровнем интеллекта, лицо же тут ни при чем. И если из-за того, что человек лишился лица, его общественный вес уменьшается, причиной может быть лишь одно — убогий внутренний мир этого человека.
Однако вскоре... Да, через несколько дней после случая с рисунком... Волей-неволей я стал все яснее сознавать, что удельный вес лица значительно больше, чем я наивно предполагал. Осознание этого факта пришло внезапно. Все мое внимание было поглощено подготовкой к защите от внешнего мира, поэтому я был застигнут врасплох и сражен наповал. Причем случилось это столь резко и неожиданно, что я не сразу осознал свое поражение.
Как-то раз, вернувшись вечером домой, я ощутил непреодолимое желание послушать Баха. И не то чтобы я не мог жить без Баха — просто мне казалось, что моему нервному, переменчивому состоянию лучше всего подходит именно Бах, а не джазовая музыка или Моцарт. Я не такой уж тонкий ценитель музыки — скорее ревностный ее потребитель. Когда работа не клеится, я выбираю музыку, способную победить соответствующее нерабочее настроение. Если мне нужно на какое-то время прервать размышления — зажигательный джаз; если надо напряженно поработать — раздумчивый Барток; если хочется почувствовать себя свободным — струнный квартет Бетховена; если нужно на чем-то сосредоточиться — нарастающий по спирали Моцарт; ну а Бах — прежде всего, когда необходимо обрести душевное равновесие.
Но вдруг меня охватило сомнение — не спутал ли я пластинку. А может, проигрыватель неисправен? Потому что мелодия была ни на что не похожа. Такого Баха я еще никогда не слышал. Бах — бальзам, врачующий душу, но то, что я услышал, не было ни ядом, ни бальзамом, а бесформенным комом глины. Все до единой музыкальные фразы казались мне лишенными смысла, тусклыми, словно вывалянные в пыли, приторные леденцы.
Это случилось как раз в тот момент, когда ты с двумя чашками чаю вошла в комнату. Я ничего не сказал, и ты, видимо, подумала, что я погрузился в музыку. Ты тут же тихонько вышла. Значит, это я сошел с ума! И все равно я не мог поверить в это... Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие музыки?.. Сколько я ни вслушивался, умиротворяющий Бах не возвращался, и мне не оставалось ничего другого, как примириться с этой мыслью. Вставляя сигарету в щель между бинтами, я нервно спрашивал себя, не потерял ли я еще чего-то вместе с лицом. Моя философия, касающаяся лица, кажется, нуждалась в коренном пересмотре.
Потом, точно из-под ног вдруг выскользнул пол времени, я погрузился в воспоминания тридцатилетней давности. Случай, о котором я с тех пор ни разу не вспоминал, внезапно предстал передо мной, отчетливый и яркий, точно цветная гравюра. Все вышло из-за парика моей старшей сестры. Трудно объяснить почему, но эти чужие волосы казались мне чем-то невыразимо непристойным, аморальным. Однажды я потихоньку стащил парик и бросил в огонь. Но мать как-то это обнаружила. Ее очень расстроил мой поступок, и она потребовала объяснений. И хотя мне казалось, что я поступил правильно, когда меня стали расспрашивать, я не знал, что ответить, и стоял растерянный, с покрасневшим лицом. Нет, если бы я попытался, то смог бы, конечно, ответить. Но мне казалось, что дажеговорить об этом неприлично, брезгливость сковывала язык... Ну и если заменить словопариксловомлицо, то станет ясно, почему непереносимое внутреннее напряжение так точно совпало с фальшивыми звуками неузнаваемого Баха.
Когда я остановил пластинку и выбежал из кабинета, точно спасаясь от погони, ты вытирала стоявшие на обеденном столе стаканы. То, что произошло дальше, было настолько внезапно, что сейчас я не могу восстановить в памяти, как все это случилось. Столкнувшись с твоим противодействием, я смог наконец полностью осознать, в каком положении оказался. Правой рукой я сжал твои плечи, левой попытался залезть под юбку. Ты закричала и, напрягшись, как пружина, вскочила. Стул отлетел в сторону, стакан упал на пол и разбился.
Схватившись за упавший стул, мы, тяжело дыша, замерли друг против друга. Мои действия, может быть, и правда были слишком грубыми. Но я находил им и некоторое оправдание. Это была отчаянная попытка одним усилием вернуть то, что я начал терять из-за изуродованного лица. Ведь с тех пор, как это случилось, физической близости между нами не было. Хотя теоретически я признавал, что лицо имеет лишь подчиненное значение, но всеже избегал посмотреть на себя со стороны, уходил от этого. Я был загнан в угол, и у меня не оставалось другого выхода, кроме как броситься в лобовую атаку. Видимо, своим поступком я хотел доказать, что барьер, воздвигнутый между нами моим лицом, призрачен, что его не существует.
Но и эта попытка окончилась неудачей. В кончиках моих пальцев все еще живо острое ощущение прикосновений к твоему бархатистому лону. В горле у меня, словно пучок колючек, застрял хриплый вопль. Я хотел сказать что-нибудь. Мне хотелось многое сказать... Но я не мог вымолвить ни слова. Оправдание?.. Сожаление?.. А может быть, обвинение? Если уж говорить — нужно было выбрать что-нибудь из этого, но сделать выбор я, кажется, уже не успевал. Если выбрать оправдание или сожаление, то лучше уж просто улетучиться как дым. Если же выбрать наступление, то я бы разодрал твое лицо, и ты бы стала подобна мне или даже еще страшнее. И тут ты разрыдалась. Это был жалобный, безысходный плач, похожий на утробное урчанье крана, из которого перестала течь вода.
Мне показалось, что на моем лице открылась глубокая рана. Такая огромная, что в ней могло поместиться все мое тело. Откуда-то потекла жидкость, словно гной из лопнувшего флюса, и капли ее застучали по полу. Сопровождающее этот звук зловоние, наполнившее комнату, распространялось отовсюду: из обивки стульев, из шкафа, из водопроводного крана, из выцветшего,засиженного мухами абажура. Нужно было что-то делать — мне захотелось прекратить эту пародию на игру в прятки, в которой не от кого прятаться.
* * *
Отсюда оставался лишь один шаг до моего плана изготовить маску. В том, что такая идея появилась, не было ничего удивительного. Ведь сорняку вполне достаточно клочка земли и капли влаги. Не принимая близко к сердцу, не придавая этому серьезного значения, со следующего дня, как и намечал, я стал просматривать оглавления старых научных журналов. Нужная мне статья об искусственных органах из пластика была опубликована в одном из летних номеров за позапрошлый год. Да, моей целью было сделать пластиковую маску и прикрыть ею дыры на лице. Согласно одной теории, маска служит не простым заменителем, а выразителем метафизического желания заменить свой облик каким-то другим, превосходящим собственный. Собственно, я не думал о маске как о рубахе и брюках, которые можно менять, когда захочется. Не знаю, как поступили бы древние, поклонявшиеся идолам, или юнцы, вступающие в пору половой зрелости, я же не собирался возложить маску на алтарь своей второй жизни. Сколько бы ни было лиц, я неизменно должен был оставаться самим собой. Маленькой «комедией масок» я пытался лишь заполнить затянувшийся антракт в своей жизни.
Мне без особого труда удалось найти нужный журнал. Согласно статье, можно создать части тела, внешне почти не отличающиеся от настоящих. Правда, все это относилось лишь к воспроизведению формы, что же касается подвижности, то здесь оставалось еще много нерешенных проблем. Нужно постараться, чтобы маска, если мне удается ее создать, обладала мимикой. Мне бы хотелось, чтобы она могла свободно растягиваться и сокращаться в плаче и смехе, следуя за движением мускулов лица, управляющих мимикой. И хотя нынешний уровень высокомолекулярной химии вполне позволяет добиться этого, наши возможности в области технологии несколько отстают. Но сама надежда на подобную возможность оказалась для меня в то время прекрасным болеутоляющим. Если нет возможности лечить зубы, остается принимать лекарство.
Прежде всего я решил встретиться с К., автором статьи об искусственных органах, и поговоритьс ним. К. сам подошел к телефону, но был очень неприветлив и разговаривал со мной без всякого интереса. Может быть, он испытывал предубеждение против меня — человека, тоже занимающегося высокомолекулярными соединениями. Но все же обещал уделить мне часок после четырех.
Поручив дежурному проследить за приборами и просмотрев несколько документов, я быстро ушел. Улица сверкала, точно отполированная, ветер разносил запах маслин. Эта сверкающаяулица, этот запах вызывали у меня острое чувство зависти. Пока я ждал такси, мне казалось, что со всех сторон на меня глазеют, будто видят перед собой незаконно вторгшегося пришельца. Но я терпел этот слишком яркий солнечный свет: пока все было лишь негативом, в котором черное — белое, а белое — черное; вот если удастся раздобыть маску, я сразу же смогу получить позитив.
Нужный мне дом находился на улице, тесно застроенной жилыми зданиями, недалеко от станции кольцевой железной дороги. Это был обыкновенный, ничем не примечательный дом, на котором висела малозаметная табличка «Научно-исследовательский институт высокомолекулярной химии К.». Во дворе у ворот как попало были расставлены клетки с кроликами.
В тесной приемной стояла лишь обшарпанная деревянная скамья и пепельница на ножках, лежало несколько старых журналов. Я почему-то пожалел, что пришел сюда. Институт — звучало внушительно, но вряд ли это было то место, где следовало выбирать лечащего врача. Может быть, К. — обыкновенный шарлатан, пользующийся доверчивостью своих пациентов. Обернувшись, я увидел на стене две фотографии в потертых рамках. На одной — снятое в профиль лицо женщины без подбородка, напоминающее мордочку полевой мыши. На другой — оно же, чуть улыбающееся, ставшее несколько привлекательнее, видимо, после пластической операции.
Сказывалась длительная бессонница — что-то давило на переносицу, сидеть на твердой скамье было невыносимо. Наконец вошла сестра и проводила меня в соседнюю комнату. В ней разливалсябелесый свет, проникавший сквозь жалюзи. На столе у окна шприцев не было, зато устрашающе блестели какие-то незнакомые инструменты. Около стола стояли шкаф с историями болезней и вращающееся кресло с подлокотниками, напротив — такое же кресло для пациентов. Несколько поодаль — невысокая ширма и рядом кабинка на колесиках для переодевания. Стандартное оборудование кабинета врача. Оно привело меня в уныние.
Я закурил. И когда, приподнявшись, потянулся к пепельнице, то замер от неожиданности, увидев содержимое эмалированного лотка. Ухо, три пальца, кисть руки, щека от века до губы... Они лежали как попало в лотке, еще дыша жизнью, будто только что отрезанные. Мне стало не по себе. Они казались более настоящими, чем настоящие. Честно говоря, даже и в голову не приходило, что слишком точная копия может производить такое тягостное впечатление. Хотя достаточно было посмотреть на срезы, чтобы убедиться, что это всего лишь пластиковые муляжи, мне все равно казалось, что я ощущаю запах смерти.
Из-за ширмы вдруг появился К. Меня поразила его неожиданно приятная внешность. Волнистые волосы, очки без оправы с толстыми стеклами, похожими на донышки стаканов, мясистый подбородок... И к тому же от К. исходил родной, привычный мне запах химикатов...
Теперь была его очередь испытать беспокойство. Некоторое время он молчал, в замешательстве глядя то на мою визитную карточку, то на мое лицо.
— Итак, вы... — К. замолчал, снова бросил взгляд на мою визитную карточку и голосом, уже совсем другим, нежели по телефону, сдержанно закончил: — Вы пришли ко мне как пациент?
Конечно же как пациент. Но каким бы превосходным ни было искусство К., я не смел питать ни малейшей надежды, что ему удастся выполнить мое желание. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это на совет. С другой стороны, сказать об этом прямо, в лоб и обидеть собеседника тоже было бы невежливо. К., видимо, объяснил мое молчание робостью и продолжал участливо:
— Садитесь, пожалуйста... На что жалуетесь?
— Во время эксперимента произошел взрыв жидкого кислорода. Обычно мы использовали жидкий азот, поэтому по привычке я был не особенно осторожен...
— Келоидные рубцы?
— Как видите, по всему лицу. Наверно, я предрасположен к появлению келоидов. Мой врач решил отказаться от дальнейшего лечения, так как малейшая неосторожность может вызвать рецидив.
— Вокруг губ лицо как будто не пострадало?
Я снял темные очки и показал ему.
— Благодаря очкам глаза тоже уцелели. Мое счастье, что я близорук и ношу очки.
— Да, вам повезло! — И с жаром, будто это касалось его самого: — Ведь речь идет о глазах и губах... Если они теряют подвижность — очень плохо... Одной формой обмануть никого не удастся.
Вроде бы увлеченный своим делом человек. Пристально разглядывая мое лицо, он, казалось, в уме уже вырабатывал план. Чтобы не разочаровывать его, я поспешил переменить тему разговора:
— Мне попалась написанная вами работа. По-моему, летом прошлого года.
— Да, в прошлом году.
— Я был потрясен. Просто не мог представить себе, что достижимо такое искусство.
К. с видимым удовольствием взял из миски согнутый палец и, слегка перекатывая его на ладони, сказал:
— Знали бы вы, какая это кропотливая работа. Разве чем-нибудь отличается дактилограмма этого пальца от настоящего? Потому-то я и получил странное, на первый взгляд, распоряжение полиции — регистрировать все дактилограммы...
— Формой служит гипс?
— Нет, я использую вязкий кремний. Дело в том, что гипс не позволяет передать мельчайшие детали... А здесь, смотрите, даже заусенцы у основания ногтей и те ясно вырисовываются.
Я боязливо прикоснулся к муляжу кончиками пальцев — ощущение, точно потрогал что-то живое. И хотя я понимал, что это нечто искусственное, меня охватил какой-то суеверный страх, будто я прикоснулся к смерти.
— Все-таки мне это представляется кощунством...
— И тем не менее все это — куски человеческого тела...
К. с гордым видом взял другой палец и поставил его вертикально на стол срезом вниз. Казалось, что мертвец, проткнув доску стола, высунул наружу палец.
— Попробуйте-ка сделать, чтобы он был вот таким, чуть грязноватым, это не так просто. Призываешь все свое мастерство, чтобы предельно точно воспроизвести тот или иной орган пациента, стараешься передать почти неуловимое, только ему присущее своеобразие... Это, например, средний палец, и поэтому внутренней стороне первой фаланги придан вот такой оттенок. Разве он не напоминает следы никотина?
— Наносили кисточкой или еще чем-нибудь?
— Отнюдь... — К. впервые громко рассмеялся. — Краска ведь сотрется моментально. Изнутри, слой за слоем, накладываются вещества разных цветов. Например, ногти — тут поливинилацетат... Если нужно — полоска грязи под ногтями... суставы и линии морщин... вены — здесь нужна легкая синева... Вот так-то.
— Чем же они отличаются от обыкновенных ремесленных поделок? Их ведь может изготовить кто угодно?..
— Это конечно. — И, почесывая колено: — Но в сравнении с изготовлением лица все эти вещицы — лишь первые неуверенные шаги. Лицо есть лицо... Во-первых, существует такая вещь, как выражение. Верно? Морщинка или бугорок в какую-то десятую долю миллиметра, оказавшись на лице, приобретают огромное значение.
— Но подвижность-то вы ему не можете придать?
— Вы хотите слишком многого. — К., расставив ноги, повернулся ко мне. — Я отдал все силы, чтобы создать внешний облик, а вот подвижность — до этого еще не дошло. Частично это компенсируется путем выбора наименее подвижных участков лица. И еще одно — существует такаяпроблема, как вентиляция. Возьмем, например, ваш случай. Без детального осмотра сделать окончательное заключение трудно, но, судя по тому, что я вижу, даже сквозь бинты у вас выделяется значительное количество пота... Наверно, потовые железы не затронуты и продолжают исправно функционировать. И поскольку они функционируют, закрыть лицо чем-то таким, что затрудняет вентиляцию, нельзя. Это не только вызовет нарушения физиологического характера, но и приведет к тому, что человек начнет задыхаться и больше чем полдня вряд ли выдержит. Тут нужна большая осторожность. Смешно, когда у старика зубы белые, как у ребенка. То же самое и здесь. Гораздо большего эффекта можно достичь исправлениями, незаметными для посторонних... Бинт вы можете снять сами?
— Могу... но, видите ли... — И, размышляя о том, как бы лучше объяснить ему, что я не тот пациент, каким ему показался: — По правде говоря, я не принял еще окончательного решения, и меня это очень мучит... И пока я не решил, стоит ли делать что-либо с рубцами на лице.
— Конечно стоит. — К., точно подбадривая меня, стал настойчивее. — Шрамы — особенно на лице — нельзя рассматривать лишь как проблему косметическую. Нужно признать, что эта проблема соприкасается с областью профилактики душевных заболеваний. В противном случае разве по доброй воле кто-нибудь стал бы отдавать свои силы подобной ереси? Я же уважаю себя как врач. И никогда не удовлетворился бы ролью ремесленника, изготавливающего муляжи.
— Да, да, понимаю.
— Ну вот, видите? — Он иронически скривил губы. — А ведь не кто иной, как вы, называли мои работы ремесленными поделками.
— Я говорил не в таком смысле.
— Ничего. — И нравоучительно, с видом понимающего все педагога: — Вы не единственный, кто в последнюю минуту начинает колебаться. Внутренний протест против изготовления лица — обычное явление. Пожалуй, начиная с позднего Средневековья... да и сейчас еще люди, находящиеся на низкой ступени развития, охотно меняют свои лица... Корни этого мне, к сожалению, неизвестны, поскольку я не специалист... Но статистически они выявляются достаточно точно... Если взять, например, ранения, то повреждений лица по сравнению с повреждениями конечностей больше примерно в полтора раза. А между тем восемьдесят процентов из всех, кто получил такие ранения, обращаются к врачам по поводу потери конечностей, главным образом пальцев. Ясно, что в отношении лица существует определенное табу. Примерно то же наблюдают и мои коллеги. И самое ужасное — к моей работе относятся как к работе высококвалифицированного косметолога, одержимого страстью наживы...
— Но нет ведь ничего удивительного в том, что содержание предпочитают внешней форме...
— Значит, предпочитают содержание, лишенное формы? Не верю. Я твердо убежден, что душа человека заключена в коже.
— Возможно, выражаясь фигурально...
— Почему фигурально?.. — И спокойным, но решительным тоном: — Душа человека — в коже. Я убежден в этом. Убедился на собственном опыте, приобретенном во время войны, когда я был в армии военным врачом. На войне отрывало руки и ноги, калечило лица — там это происходило изо дня в день. Но что, вы думаете, заботило раненых солдат больше всего? Не жизнь, не восстановлениефункций организма, нет. Прежде всего их беспокоило, сохранится их первоначальный облик или нет. Сначала я тоже смеялся над ними. Ведь все, о чем я говорю, происходило на войне, где ничто не имело цены, кроме количества звездочек в петлицах и здоровья... Но однажды произошел такой случай: один из солдат, у которого было сильно изуродовано лицо, хотя других явных повреждений и не было, перед самой выпиской из госпиталя неожиданно покончил с собой. До этого он был в состоянии шока... И вот с тех пор я стал внимательно изучать внешний вид раненых солдат... И наконец пришел к совершенно определенному выводу. К тому печальному выводу, что последствия серьезного ранения, особенно ранения лица, проявляются позже, словно переводная картинка, в форме душевной травмы...
— Да, такие случаи, видимо, бывают... Но, основываясь на том, что подобных примеров можно привести сколько угодно, нельзя, мне думается, рассматривать это явление как общий закон, пока ему не будет найдено точное научное объяснение. — Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Не затем же пришел я сюда, чтобы вести разговоры о том, что меня ждет. — Впрочем, я еще не разобрался как следует во всем этом... Простите, наговорил, наверно, всяких несуразностей. Совершенно бесцельно отнял у вас так много драгоценного времени, виноват...
— Подождите, подождите. — И самоуверенно, со смешком: — Может быть, вы воспримете это как принуждение, но я хочу сказать вам, и совершенно уверен, что прав... если вы все оставите так, как есть, вам придется всю жизнь прожить в бинтах. Они ведь и сейчас на вас. Это как раз и доказывает: вы сами считаете — лучше пусть бинты, чем то, что под ними. Сейчас в памяти окружающих ваше лицо остается таким, каким оно было до увечья... Но ведь время не ждет... да и память постепенно тускнеет... появляются все новые и новые люди, которые не знали вас в лицо... и в конце концов вас объявят несостоятельным должником за то, что вы не платите по векселю бинтов... и хотя вы останетесь в живых, общество похоронит вас.
— Ну это уж слишком! Что, собственно, вы хотите этим сказать?
— Людей, имеющих одинаковые увечья, если это касается повреждений рук или ног, можно встретить сколько угодно. Никого не удивит слепой или глухой... Но видели ли вы когда-нибудь человека без лица? Нет, наверное. Вы что же, думаете, все они испарились?
— Не знаю. Другие меня не интересуют!
Мой ответ прозвучал непреднамеренно грубо. Пришел в полицейский участок заявить о грабеже — а там, вместо того чтобы помочь, пристают с поучениями и на прощание предлагают купить замок понадежней. Но и мой собеседник не сложил оружия.
— К сожалению, вы меня, по-видимому, не совсем поняли. Лицо — это в конечном счете его выражение. А выражение... как бы это лучше сказать... В общем, это своего рода уравнение, выражающее отношения с другими людьми. Это тропинка, связывающая вас с ними. И если тропинку завалило камнями, то люди, даже пробравшись кое-как по ней, скорее всего, пройдут мимо вашего дома, приняв его за необитаемую развалюху.
— Ну и прекрасно. Мне и не нужно, чтобы попусту заходили.
— Значит, вы хотите сказать, что пойдете своей собственной дорогой?
— А что, нельзя?
— Даже ребенок не может игнорировать устоявшийся взгляд, согласно которому человек узнает, что он собой представляет, только посмотрев на себя глазами другого. Вам случалось когда-нибудь видеть выражение лица идиота или шизофреника? Если вовремя не расчистить засыпанную тропинку, то все в конце концов забудут, что она существовала.
Чтобы не оказаться окончательно загнанным в угол, я попытался возразить.
— Ну что ж, это верно. Предположим, выражение лица представляет собой именно то, что вы говорите. Но вы ведь сами себе противоречите. Почему за неимением лучшего, прикрывая какую-то часть лица, вы считаете, что восстанавливаете его выражение?
— Не беспокойтесь. Прошу вас довериться мне. Это уж по моей специальности. Во всяком случае, я убежден, что смогу дать вам нечто лучшее, чем бинты... Ну что ж, давайте снимем их? Мне бы хотелось сделать несколько фотоснимков. С их помощью методом исключения удастся последовательно отобрать важнейшие элементы, необходимые для восстановления выражения лица. А из них — наименее подвижные, легко фиксируемые...
— Простите... — Теперь у меня в мыслях было одно — бежать отсюда. Отбросив чувство собственного достоинства, я начал упрашивать: — Уступите мне лучше вот этот палец. Пожалуйста!
К. с удивленным видом потирал ладонью колено.
— Палец, вот этот палец?
— Если нельзя палец, я удовлетворюсь ухом или еще чем-нибудь...
— Но ведь вы пришли ко мне по поводу келоидных рубцов на лице.
— Ну что ж, прошу извинить. Нельзя так нельзя...
— Вы не поняли меня, простите... дело не в том, что я не могу продать... но, верите ли, цена непомерно высока... ведь для каждого из них приходится изготовлять отдельную форму... только расходы на материал достигают пяти-шести тысяч иен... по самым скромным подсчетам.
— Прекрасно.
— Не понимаю, что у вас на уме?
Он и не должен понимать... Наш разговор напоминал два рельса, проложенных без точного расчета и расходящихся в разные стороны. Я вынул бумажник и, отсчитывая деньги, без конца извинялся самым искренним образом.
Когда, крепко, будто нож, сжимая в кармане искусственный палец, я вышел на улицу, резкая граница между светом и тенью показалась мне неестественной, прочерченной рукой человека. Дети, игравшие в переулке в мяч, побледнели, увидев меня, и прижались к забору. У них были такие лица, точно их подвесили за уши, прихватив прищепками для белья. Сними я бинты, у них бы поджилки затряслись. А меня так и подмывало ворваться в этот ландшафт, точно сошедший с рекламной открытки. Но для меня, лишенного лица, было немыслимо отойти хоть на шаг от своих бинтов. Представляя себе, как бы я раскромсал этот пейзаж, размахивая искусственным пальцем, который лежал сейчас у меня в кармане, я с трудом переваривал отвратительные слова К. «похоронить себя заживо». Ничего, посмотрим. Если теперь мне удастся прикрыть лицо чем-то таким, что сделает его неотличимым от настоящего, то, каким бы бутафорским ни был ландшафт, он не сможет превратить меня в отверженного...
* * *
В ту ночь... поставив искусственный палец на стол, словно свечку, я, не смыкая глаз, думал об этой «подделке», более похожей на настоящий палец, чем настоящий.
Возможно, я воображал костюмированный бал из какой-то чудесной сказки, на котором я неожиданно появлюсь. Но даже в воображении я не мог не сделать маленького примечания: «сказка». Не символично ли это? Я уже писал, что выбрал этот план, не особенно задумываясь о последствиях,точно переправлялся через узенькую речушку. И уж конечно, у меня не было никакого окончательного решения. Может быть, из-за бессознательного стремления легко относиться к маске, успокаивая себя тем, что потеря лица еще не означает потери чего-то весьма существенного? Поэтому проблему составляет в некотором роде не сама маска — самодовлеющее значение приобретает смысл вызова, который она бросает лицу, авторитету лица. Если бы, столкнувшись с разрушенным Бахом, с твоим отказом, я не был доведен до такого затравленного состояния, то, может быть, посмотрел бы на все более спокойно и даже нашел бы в себе силы подшучивать над своим лицом.
А пока черный мрак, как тушь в стакане воды, разливался в моем сердце. Лицо — тропинка между людьми, такова точка зрения К. Как мне сейчас представляется, если К. и произвел на меня неблагоприятное впечатление, то не из-за самодовольства или стремления навязать свое лечение, а из-за этой идеи. Согласиться с ним — значило признать, что, потеряв лицо, я навечно замурован в одиночной камере, и, следовательно, маска приобретает уже весьма глубокий смысл. Мой план превращался в попытку бежать из тюрьмы, попытку, где на карту было поставлено существование человека. Значит, мое нынешнее положение становится безнадежным и, следовательно, подходящим для подобного плана. По-настоящему угрожающая обстановка — это обстановка, воспринимаемая тобой как угрожающая. При всем желании трудно было согласиться с такой точкой зрения.
Я сам признаю, что не кто иной, как я, нуждаюсь в тропинке, которая связывала бы меня с людьми. И как раз поэтому продолжаю писать тебе эти строки. Но разве лицо — единственная тропинка? Не верится. Моя диссертация, посвященная реологии2, получила поддержку среди людей, которые ни разу не видели моего лица. Конечно, устанавли