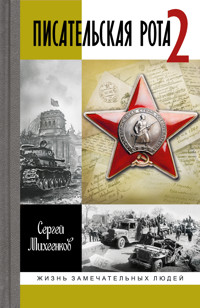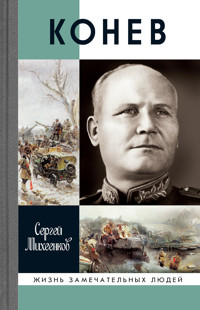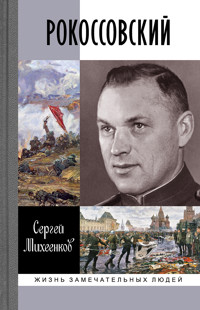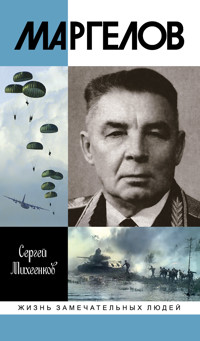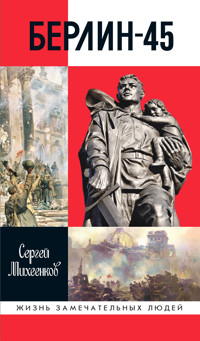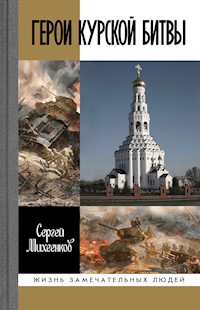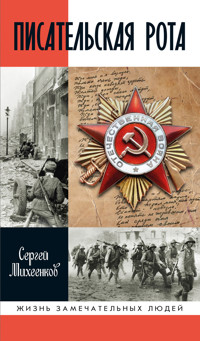
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Жизнь замечательных людей
- Sprache: Russisch
Писатели, поэты, драматурги, пожалуй, как никто из людей искусства, по-мужски решительно и по-солдатски храбро шагнули в войну. Из студенческих аудиторий, из редакций журналов и издательств, из московских квартир и глухих деревень, с заводов и из колхозов — поодиночке, отделениями, взводами, ротами — на фронт, в пекло. Среди них были уже сложившиеся мастера слова, такие как Константин Симонов и Алексей Сурков, были и малоизвестные, публиковавшиеся разве что в дивизионных малотиражках и армейских газетах, такие как Сергей Орлов и Василий Субботин, были и совсем неизвестные, кто напишет свои шедевры спустя годы, такие как Юрий Белаш. Такой книги ещё не было. Уникальность «Писательской роты» ещё и в том, что её можно без конца дописывать и пополнять
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Михеенков
ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА
МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023
Информацияот издательства
Михеенков С. Е.
Писательская рота / Сергей Михеенков. — М.: Молодая гвардия, 2022. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1918).
ISBN 978-5-235-04775-4
Писатели, поэты, драматурги, пожалуй, как никто из людей искусства, по-мужски решительно и по-солдатски храбро шагнули в войну. Из студенческих аудиторий, из редакций журналов и издательств, из московских квартир и глухих деревень, с заводов и из колхозов — поодиночке, отделениями, взводами, ротами — на фронт, в пекло. Среди них были уже сложившиеся мастера слова, такие как Константин Симонов и Алексей Сурков, были и малоизвестные, публиковавшиеся разве что в дивизионных малотиражках и армейских газетах, такие как Сергей Орлов и Василий Субботин, были и совсем неизвестные, кто напишет свои шедевры спустя годы, такие как Юрий Белаш. Такой книги ещё не было. Уникальность «Писательской роты» ещё и в том, что её можно без конца дописывать и пополнять.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Михеенков С. Е., 2022
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022
ПРЕДИСЛОВИЕ
Это название — «Писательская рота» — конечно же, условное. Но и писательская рота была. В буквальном смысле этого сочетания слов, и оно, похоже, стало, как говорят языковеды, устойчивым. Была писательская рота. И даже не одна. Потому что в состав одной стрелковой роты все писатели, ушедшие добровольцами на фронт, не вместились. Пришлось командованию формировать вторую. Они воевали под Вязьмой и попали в самую кровавую мясорубку первого вяземского сражения и сгинули в первом вяземском окружении. А сколько писателей и поэтов воевали в других стрелковых ротах, в танковых частях, в партизанских отрядах и на боевых кораблях! Так что война сформировала и третью, и четвёртую, и пятую…
Говорят, в годы Первой мировой войны Франция потеряла в боях триста молодых поэтов. И они, триста поэтов республики, одетые в солдатские шинели, удержали свои Фермопилы…
А ещё говорят: когда Верховному главнокомандующему доложили, что в боях слишком часто гибнут писатели и поэты, тот, отложив свою погасшую трубку, покачал головой и сказал:
— Они очень горячие люди. Им не терпится стать героями. Отзовите их с передовой. Пусть работают в редакциях газет. Там тоже нужны талантливые писатели и поэты.
Но не всех успели отозвать, многие уже погибли, стали инвалидами, калеками. Других не отозвали, потому что они были хорошими солдатами, и командиры всеми способами старались удержать их в своих частях и подразделениях: они храбро и умело дрались и заменить их было некем.
Но если это правда, то Сталин, как ни суди, спас от гибели многих, кто потом создал целую литературу о войне, и не только о ней. И эта литература в истории мировой уникальна и беспрецедентна. И хотя ни одна из книг военных писателей не отмечена Нобелевской премией, до некоторых пор являвшейся наивысшей и как бы эталонной, по художественным достоинствам многие из упомянутых здесь, в этом своде, стоят вровень с книгами Хемингуэя и Ремарка. А по достоверности изображаемого и правде жизни куда выше многих лауреатов этой пока ещё престижной литературной премии.
Каждый год в канун 9 Мая и 23 февраля интернет заполняет коллаж: советские актёры, любимцы публики — участники Великой Отечественной войны, их портреты и ордена, которыми они были награждены за свои подвиги и раны. Их немного, по пальцам перечесть. И орденов немного. Но — неоспоримо! — они герои. Однако тут же всплывает закономерный вопрос: а почему забыли писателей? Их гораздо больше — целые взводы, роты. Может, целый батальон! И орденов гораздо больше. Среди них есть даже удостоенные звания Героя Советского Союза. Почему же их нет? Где их портреты, молодых, мужественных, с боевыми наградами на солдатских и офицерских гимнастёрках?
Судьба каждого писателя-солдата — это отдельный и неповторимый сюжет, порою закрученный почище самого лихого приключенческого романа. И в то же время он намертво влит в судьбу и историю русского воинства, отстоявшего в 1941—1945 годах свою землю, своё Отечество и прославившего в очередной раз русское оружие и боевые знамёна. Видимо, в том и суть — раствориться в общем подвиге победившего народа, стать незаметной, но неотделимой частью его.
Эта книга — поклон поколения сыновей и внуков солдат Великой Отечественной войны и одновременно слово признательности поколению наших учителей в русской и советской литературе.
Военная литература, созданная фронтовиками, это не просто книги о войне, хотя читатель в них найдёт и точность деталей, и батальные сцены, и правдивое описание окопного быта, но, самое ценное, это ещё и литература о любви к Родине. Своего рода учебники на тему любви к своей земле. Учебники верности долгу, присяге, Отечеству.
Историки порой скептически, свысока посматривают на книги фронтовиков, мол, это же не документы. Непродуктивный снобизм! Как бы там ни было, а книги написаны действующими лицами, в крайнем случае очевидцами. Иногда от первого лица. И та же «лейтенантская проза» куда правдивей, точней и глубже некоторых «окопных мемуаров», появившихся в последнее время на волне «откровений» и «разоблачений», а также сомнительных исследований, написанных с привлечением этих «откровений». Скепсис историков здесь неуместен уже потому, что настоящий историк обязан учитывать и рассматривать свидетельства очевидцев и участников, так как это тоже источник. Как и документ. Который, кстати, не всегда отражал правду жизни и правду войны. Некоторые документы создавались под влиянием обстоятельств в угоду им или отдельным лицам, либо непомерно раздувая их славу и скромные достижения ради получения званий и наград. Либо пряча причины неудач, а порой и воинских преступлений.
Лев Николаевич Толстой преподнёс урок на все времена: не воевавший под Вязьмой, при Тарутине и под Бородином, он создал величайшую книгу — роман! — который стал летописью войны 1812 года. Ту, первую Отечественную вот уже не первое столетие мы изучаем и знаем по «Войне и миру»!
Они всегда и в любых обстоятельствах чувствовали и осознавали себя фронтовиками. Братьями и сёстрами.
Невозможно было в одну рукопись вместить судьбы всех писателей-фронтовиков. Здесь нет артиллериста Юрия Васильевича Бондарева, автора романов «Горячий снег» и «Берег»; Василя Владимировича Быкова, создавшего жгучие в своей человеческой правде повести «Сотников», «Третья ракета», «Альпийская баллада»; Виктора Петровича Астафьева, Михаила Петровича Лобанова, многих других. Это — только начало проекта издательства «Молодая гвардия». Их судьбы и истории — впереди.
Глава первая
ЮЛИЯ ДРУНИНА
«Я родом не из детства, из войны…»
Родилась 10 мая 1924 года в Москве в семье интеллигентов. Отец, Владимир Павлович, был учителем истории, мать, Матильда Борисовна, работала библиотекарем и подрабатывала частными уроками музыки. Жили в тесной коммуналке. Друнина вспоминала, что особенно сильным было влияние отца, который с самых ранних лет прививал ей любовь к книге, к чтению — «от Гомера до Достоевского». А она украдкой читала романы Дюма и Чарской. Ей казалось, что классика слишком громоздка и официальна и самую глубину и искренность чувств читателю не открывает.
Своим идеалом Юлия избрала кавалерист-девицу Надежду Дурову. С детства дружила с мальчиками. Даже косу себе отрезала — вместе с бантом!
В 1931 году Юлия пошла в школу. Уже тогда писала стихи. Украдкой. Вскоре пришла в литературную студию, которая работала при Центральном доме художественного воспитания детей, располагавшемся в здании Театра юного зрителя. Через несколько лет стала победительницей литературного конкурса. Её стихотворение «Мы вместе за школьной партой сидели…» напечатала «Учительская газета», его читали по Всесоюзному радио. Ранний успех! «И никогда я не сомневалась, что буду литератором, — вспоминала Юлия Друнина. — Меня не могли поколебать ни серьёзные доводы, ни ядовитые насмешки отца, пытающегося уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробиваются единицы. Почему я должна быть в их числе?..»
Отец Юлии тоже писал стихи и даже скромно издавался. Уж он-то знал, какой это трудный и скудный хлеб и какая горькая участь — быть поэтом. Неверие отца, попытки отвести дочь от опасной, но захватывающей стези ранили, но не лишали крыльев.
Поколение родившихся в начале 1920-х — роковое поколение. Оно впитало романтику Гражданской войны как яркое героическое прошлое своих отцов и энтузиазм строительства нового общества как царства справедливости, в котором всегда есть место подвигу и возможность реализоваться самым светлым помыслам. Жестокий век развеет их юношеские грёзы, но это будет потом.
«Спасение челюскинцев, тревога за плутающую в тайге Марину Раскову, покорение полюса, Испания — вот чем жили мы в детстве. И огорчались, что родились слишком поздно…»
В 1941 году это поколение станет поколением добровольцев.
Школьный выпускной бал совпал с началом войны. Юлия пошла в военкомат. Её, семнадцатилетнюю, из этого сурового учреждения попросту прогнали. Подростки валом валили тогда в военкоматы, просились на войну, бить фашистов, спасать страну. Вначале к ним относились снисходительно, потом они начали мешать работать, а потом…
Юлия завидовала своим подругам, которые были старше её на год: их зачисляли на курсы санинструкторов, радистов, авиатехников, и они могли вскоре попасть в действующую армию.
Эти переживания вскоре переплавятся в стихи:
Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
Текла красавиц юных череда —
…………………………………………….
Всё шли и шли они —
Из средней школы,
С филфаков,
Из МЭИ и из МАИ,
Цвет юности,
Элита комсомола,
Тургеневские девушки мои!
В конце концов добилась зачисления на курсы медсестёр и она. Какое-то время работала санитаркой в глазном госпитале. А потом была зачислена в отряд, который направлялся на запад от столицы — на строительство оборонительных сооружений. Рыли окопы и противотанковые рвы.
Фронт приближался. На недостроенные объекты начали налетать немецкие самолёты, бомбить, обстреливать из пулемётов. Случались и агитационные налёты: снег листовок падал на рвы и окопы, где притаились испуганные девушки:
Московские дамочки,
Не копайте ямочки.
Приедут наши таночки
И зароют ваши ямочки.
Какие-никакие, а тоже — стихи.
А потом начались бомбёжки. Во время одной из них прошёл слух, что в их район прорвались немецкие танки и через несколько минут они будут здесь. Девушки бросили лопаты и начали разбегаться кто куда. В суматохе Юлия потерялась. Сколько ни плутала по лесу, своего отряда найти так и не смогла. Вскоре набрела на группу красноармейцев. Это были остатки стрелкового батальона, который прорывался из окружения. Некоторые бойцы были в кровавых бинтах и нуждались в перевязке. Юлия начала перевязывать их. Молодой комбат, который вёл отряд, понимая её положение, предложил идти вместе с ними. Сказал: «Будете санинструктором». Она, конечно же, согласилась.
Тринадцать суток пробирались они по лесам, мимо занятых немцами деревень к линии фронта, к своим. «Мы шли, — вспоминала Юлия Друнина, — ползли, бежали, натыкаясь на немцев, теряя товарищей, опухшие, измученные, ведомые одной страстью — пробиться! Случались и минуты отчаяния, безразличия, отупения, но чаще для этого просто не было времени — все душевные и физические силы были сконцентрированы на какой-нибудь одной конкретной задаче: незаметно проскочить шоссе, по которому то и дело проносились немецкие машины, или, вжавшись в землю, молиться, чтобы фашист, забредший по нужде в кусты, не обнаружил тебя, или пробежать несколько метров до спасительного оврага, пока товарищи прикрывают твой отход. А надо всем — панический ужас, ужас перед пленом. У меня, девушки, он был острее, чем у мужчин. Наверное, этот ужас здорово помогал мне, потому что был сильнее страха смерти».
Один из биографов поэтессы писал: «…именно там, в этом пехотном батальоне — вернее, в той группе, что осталась от батальона, попавшего в окружение, — Юля встретила свою первую любовь, самую возвышенную и романтическую. В стихах и в воспоминаниях она называет его Комбат — с большой буквы. Но нигде не упоминается его имени. Хотя память о нём пронесла через всю войну и сохранила навсегда. Он был не намного старше её… Красивый парень с голубыми глазами и ямочками на щеках. А может, красивым он стал потом, в воспоминаниях поэтессы, в её воображении: “…конечно, помогла моя вера в Комбата, преклонение перед ним, моя детская влюблённость. Наш Комбат, молодой учитель из Минска, действительно оказался человеком незаурядным. Такого самообладания, понимания людей и таланта молниеносно выбрать в самой безнадёжной ситуации оптимальный вариант я больше не встречала ни у кого, хотя повидала немало хороших командиров. С ним солдаты чувствовали себя как за каменной стеной, хотя какие “стены” могли быть в нашем положении?”
После долгого пути и стычек с немцами в отряде осталось девять человек. Включая Комбата и санинструктора. Вышли к фронту. Вначале надо было пройти немецкие окопы. Выслали разведку. Разведка вернулась: окопы заняты немецкой пехотой, но есть разрыв, где немцев нет — минное поле. Первым пошёл Комбат. Мины оказались противотанковыми, на вес человека взрыватели не срабатывали. За Комбатом пошли остальные. Когда поле, казалось, уже было пройдено, началась полоса противопехотных мин. Комбат и двое бойцов, которые шли за ним, погибли. Юлия шла четвёртой и уцелела. “Мина, убившая Комбата, — вспоминала она, — надолго оглушила меня. А потом, через годы, в стихах моих часто будут появляться Комбаты”…»
«Мина, убившая Комбата, надолго оглушила меня…» Надолго… На всю жизнь… Только не оглушила, наоборот, сделала чуткой — к страданиям своего поколения, к пережитому им, этим суровым поколением.
КОМБАТ
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули —
Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперёд.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шёл на пулемёт.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что… смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!
И вот она в Москве. Осень. Октябрь. Москва переживает тяжелейшие дни. Немецкие танки в тридцати километрах от города. В городе паника. Погромы. Народ грабит магазины и склады. Дезертиры. Патрули. Комендантский час.
Родители Юлии уехали в эвакуацию, в Сибирь, в далёкий посёлок, название которого и запомнить невозможно. Юлия снова начала осаждать военкомат, убеждать военкома зачислить её в штат какой-нибудь части, направляющейся на фронт. Ну и что, что нет восемнадцати! Она должна быть на фронте! Ведь она там уже была!
Пришло письмо от мамы: отец смертельно болен, лежит, ждёт дочь… Поехала. Отец лежал парализованный и медленно угасал. Он умер в начале 1942 года. После похорон отца Юлия поняла, что больше ничто в эвакуации её не держит. С матерью отношения всегда были сложными. Она уехала в Хабаровск и там поступила на курсы в школу младших авиаспециалистов. Школа готовила авиатехников. Заправка самолёта горючим, подготовка пулемётов…
Однажды старшина-инвалид объявил, что всю их команду переводят в женский запасной полк: «Будете там, как положено бабам, мужиков обшивать да обстирывать. Зато живыми останетесь и неувечными. Так что поздравляю!» После паузы добавил: «Окромя тех, у кого медицинское образование. Без них пока обойтись не можем. Больно много медицины там выбивает».
Юлия обрадовалась, предъявила старшине своё свидетельство об окончании курсов медсестёр. «Он пожал плечами, — вспоминала Юлия Друнина, и пробормотал: “Жизнь молодая надоела?” Но, видимо, медики и впрямь до зарезу были нужны действующей армии: уже на другой день я получила направление в санупр Второго Белорусского фронта. Я бежала на Белорусский вокзал, а в голове неотступно крутилось: “Нет, это не заслуга, а удача — стать девушке солдатом на войне, нет, это не заслуга, а удача…”»
После войны пройдут многие годы, и она напишет:
Нет, это не заслуга, а удача —
Стать девушке солдатом на войне,
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!..
Женщине на войне стократ тяжелее. Война — дело мужское. Бомбёжки, затяжные марши, грязь, кровь, холод, простуды, чирьи, нечистоты, негде обогреться, помыться… «И сколько раз случалось, — вспоминала она, — нужно вынести тяжело раненного из-под огня, а силёнок не хватает. Хочу разжать пальцы бойца, чтобы высвободить винтовку, — всё-таки тащить его будет легче. Но боец вцепился в свою трёхлинейку образца 1891 года мёртвой хваткой. Почти без сознания, а руки помнят первую солдатскую заповедь — никогда, ни при каких обстоятельствах не бросать оружия! Девчонки могли бы рассказать ещё и о своих дополнительных трудностях. О том, например, как, раненные в грудь или в живот, стеснялись мужчин и порой пытались скрыть свои раны… Или о том, как боялись попасть в санбат в грязном бельишке. И смех и грех!..»
Она тоже попала в госпиталь. Осколок мины на излёте застрял в шее в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Попыталась вытащить его сама, ничего не вышло. Тогда перебинтовала рану и в горячке боя, местами переходящего в рукопашные схватки, продолжила вытаскивать раненых. Но вскоре потеряла сознание…
Это было в 1943-м. Наши войска наступали. В госпитале, ещё не сняв бинты, и, наверное, чтобы освободиться от видений, преследующих её даже во сне, написала короткое стихотворение, ставшее шедевром фронтовой поэзии:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Из госпиталя Юлия была комиссована подчистую. Инвалид…
Вернулась в Москву. Пошла в собес, чтобы получить продовольственные карточки и пенсионные. Получила. И на все деньги накупила мороженого. Хватило на три порции — по тридцать рублей каждая. Не удержалась и купила красивое платье и кое-что из белья. Не всё же в солдатском ходить…
Насладившись мороженым, пошла в Литинститут. Показала свои стихи. Но их признали слабыми, так что творческий конкурс она не прошла. В поступлении в Литинститут вчерашней фронтовичке было отказано. Так или иначе, дверь в литературу для неё оказалась наглухо закрытой.
Рана на шее уже не беспокоила. Гораздо больнее оказалась другая, свежая. Решила: если не Литинститут, то в Москве ей делать нечего. И снова пошла в военкомат. Санинструкторов на фронте по-прежнему не хватало. Военкоматских уговорить и убедить в своей нужности оказалось легче, чем литинститутских. Военные — родной народ. Она уже знала, как и чем их взять…
Прибалтика. 1944 год. Наши войска наступали по эстонской земле. «Полковая разведка, — вспоминала она, — притащила “языка”. Перед тем как передать его в штаб, ребята попросили меня “чуток отремонтировать фрица”. “Фриц” — молодой обер-лейтенант — лежал на спине с закрученными назад руками. Светловолосый, с правильными резкими чертами мужественного лица, он был красив той плакатной “арийской” красотой, которой, между прочим, так не хватало самому фюреру. Пленного даже не слишком портили здоровенная ссадина на скуле и медленная змейка крови, выползавшая из уголка рта. На секунду его голубые глаза встретились с моими, потом немец отвёл их и продолжал спокойно смотреть в осеннее небо с белыми облачками разрывов — били русские зенитки… <…> Что-то вроде сочувствия шевельнулось во мне. Я смочила перекисью ватный тампон и наклонилась над раненым. И тут же у меня помутилось в глазах от боли. Рассвирепевшие ребята подняли меня с земли. Я не сразу поняла, что случилось. Фашист, которому я хотела помочь, изо всей силы ударил меня подкованным сапогом в живот…»
Осенью 1944 года во время боя попала под огонь немецкой артиллерии. Была контужена. Контузия, как известно, куда хуже и коварней ранения. Снова госпиталь. Медицинская комиссия. Из истории болезни: частые обмороки, частое кровотечение из полости носа, сильные головные боли, кашель с кровавой мокротой… «Не годен к несению военной службы с переосвидетельствованием через шесть месяцев».
В Москву приехала в декабре. После госпиталя, когда уже очевидным стало, что — домой, постоянно думала о том, как придёт в Литинститут, сочиняла, что сказать. Хотелось учиться, но только в Литинституте и больше нигде.
Пришла в гимнастёрке, в сапогах. Тщательно, до блеска, их начистила. На груди сияли фронтовые награды — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Была середина учебного года. Заглянула в аудиторию: там сидели первокурсники, слушали лекцию, что-то записывали в тетрадях. Вошла и села среди них. Просто вошла и села на свободное место. «Моё неожиданное появление вызвало смятение в учебной части, но не выгонять же инвалида войны!»
Из грязного окопа она попала в свою мечту.
Сессию сдала успешно. Получила стипендию — 40 рублей. Правда, это было ничто, ведь килограмм картошки на рынке стоил 100 рублей! Но на картошку хватало военной пенсии и выплат за боевые награды. Одежда… В тот год почти весь Литинститут ходил в гимнастёрках, шинелях и сапогах. У неё же, для особых, не гимнастёрочных дней было чёрное платье, которое она купила в день первого приезда с фронта, вместе с мороженым, несколько пар чулок, кофточка…
В аудиториях было холодно, замерзали чернила. Вспоминала: «Несмотря на невыносимо тяжёлый быт, время это осталось в памяти ярким и прекрасным. Хорошо быть ветераном в двадцать лет! Мы ловили друг друга в коридорах, заталкивали в угол и зачитывались переполнявшими нас стихами. И никогда не обижались на критику, которая была прямой и резкой. Мы ещё и понятия не имели о дипломатии».
Первая публикация появилась в журнале «Знамя». Не одно стихотворение, а целая подборка. С этого времени она стала Юлией Друниной.
В личной жизни тоже произошли перемены. Она вышла замуж за однокурсника и тоже поэта Николая Старшинова. У них было много общего. Фронтовики. Инвалиды. Общей была и бедность.
Николай Старшинов: «Она была измучена войной — полуголодным существованием, была бледна, худа и очень красива. Я тоже был достаточно заморённым. Но настроение у нас было высоким — предпобедным…»
В 1946 году у поэтов родилась дочь Лена.
В 1947 году состоялось Первое Всесоюзное совещание молодых писателей.
В 1948 году вышла первая книга стихов в «Солдатской шинели». И сразу — успех. Публикации. Немного поправилось материальное положение.
В последующие годы сборники выходили регулярно.
Тема войны — солдатская, мужская тема. Юлия Друнина привнесла в эту суровую тему женское, трепетное, но не беззащитное.
Шли годы, а военная тема не уходила. Вернувшимся с войны только казалось, что они вернулись…
Николай Старшинов: «Юля была очень красивой и очень обаятельной. В чертах её лица было что-то общее с очень популярной тогда актрисой Любовью Орловой. Привлекательная внешность нередко помогала молодым поэтессам “пробиться”, попасть на страницы журналов и газет, обратить особое внимание на их творчество, доброжелательнее отнестись к их поэтической судьбе. Друниной она — напротив — часто мешала в силу её неуступчивого характера, её бескомпромиссности…»
Случился скандал. Семинар в Литинституте в её группе вёл известный поэт Павел Григорьевич Антокольский. Мэтр вначале хвалил свою ученицу, «а потом вдруг объявил бездарной и предложил исключить из института как творчески несамостоятельную».
Друнина, хорошо понимая подоплёку внезапной холодности профессора, перевелась в другую группу. Но несправедливый приговор, замешанный на злобе отвергнутого мужчины, запомнила. И на писательском собрании, когда по всей стране громили «безродных космополитов», она «очень резко выступила против Антокольского».
Так что же всё-таки стало причиной такой взаимной неприязни Друниной и Антокольского?
Павел Григорьевич, как это частенько случается с преклонных лет наставниками, увлёкся юной студенткой. Та взаимностью не отвечала. Как пишет биограф Юлии Друниной, «в конце 1945 года в издательстве “Молодая гвардия” под редакцией Антокольского вышла первая книга стихов Вероники Тушновой, с которой Друнина и Старшинов дружили. На ужин в честь выхода книги она пригласила и Антокольского — само собой! — и многих своих друзей, в том числе и ещё не женатых, но уже влюблённых друг в друга Друнину и Старшинова».
Николай Старшинов: «Где-то между тостами Юля вышла в коридор. Вышел и Антокольский. Вскоре я услышал шум и возню в коридоре и, когда вышел туда, увидел, как Павел Григорьевич тащит упирающуюся Юлю в ванную. Я попытался помешать ему. Он рассвирепел — какой-то мальчишка смеет ему перечить! — обматюгал меня. Впрочем, я ему ответил тем же, но настоял на своём».
Друнина-то перевелась в другую группу, а Старшинов остался. Теперь ему доставалось от Антокольского за двоих.
Вот на писательском собрании и прилетела старому фавну «ответка» от оскорблённой женщины.
Её не печатали в журналах «Красноармеец» и «Октябрь», где членом редколлегии, заместителем главного редактора был поэт Степан Щипачёв. Какой-то разлад произошёл и с Константином Симоновым. Константин Михайлович препятствовал её вступлению в Союз писателей. Но на собрании вмешался Александр Твардовский, и из кандидатов Юлию Друнину перевели в члены Союза писателей СССР.
Постепенно, как это часто случалось и случается с поэтами, семейная жизнь зашла в тупик и стала разваливаться. Дочь выросла, поступила в Московскую ветеринарную академию.
Во второй раз Юлия Друнина вышла замуж за известного сценариста Алексея Каплера. Каплер был старше её на двадцать лет. Этот брак был счастливым.
Что любят единожды — бредни,
Внимательней в судьбы всмотрись.
От первой любви до последней
У каждого целая жизнь.
И появились стихи о любви. Среди московской литературной богемы существовало устойчивое мнение, что Каплер «снял с Юли сапоги и обул в хрустальные туфельки». Было именно так. И в прямом, и в переносном смысле.
Каплер был преуспевающим сценаристом: фильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек-амфибия» (в соавторстве), «Полосатый рейс». Кроме того, на телевидении вёл «Кинопанораму». Как многие кинодеятели, умеющие вести свои дела, он был богат.
Николай Старшинов: «Я знаю, что Алексей Яковлевич Каплер относился к Юле очень трогательно — заменял ей и мамку, и няньку, и отца. Все заботы по быту брал на себя. Он уладил её отношения с П. Антокольским и К. Симоновым. Он помогал ей выйти к широкому читателю. При выходе её книг он даже объезжал книжные магазины, договаривался о том, чтобы они делали побольше заказы на них, обязуясь, в случае, если они будут залёживаться, немедленно выкупить. Так, во всяком случае, мне сказали в магазине “Поэзия”… Она стала много и упорно работать всё время. Расширялся круг её жанров: она обратилась к публицистике и прозе. А если посмотреть её двухтомник, вышедший в издательстве “Художественная литература” в 1989 году, то окажется, что с 1943 по 1969 год, то есть за семнадцать лет, она написала вдвое меньше стихов, чем за такой же следующий отрезок времени. А если к этому прибавить написанную в эти же годы прозу, то получится, что её “производительность” возросла вчетверо, а то и впятеро».
С Алексеем Каплером Юлия Друнина прожила девятнадцать лет. Каплер её боготворил. Она отвечала ему взаимностью. Говорят, когда она уезжала в командировку за рубеж, он ехал в Брест, на пограничный пост, её встречать.
Каплер умер в 1979 году. Похоронили его в Старом Крыму. Так он завещал.
Друнина сразу осиротела.
Дочь вышла замуж и жила своими заботами, своей семьёй.
Николай Старшинов: «После смерти Каплера, лишившись его опеки, она, по-моему, оказалась в растерянности. У неё было немалое хозяйство: большая квартира, дача, машина, гараж — за всем этим надо было следить, поддерживать порядок. А этого делать она не умела, не привыкла. Ну и переломить себя в таком возрасте было уже очень трудно, вернее — невозможно. Вообще она не вписывалась в наступившее прагматическое время, она стала старомодной со своим романтическим характером».
Друнина в последние годы жизни почти ни с кем не общалась. Лишь Виолетта, вдова поэта Сергея Орлова, скрашивала её одинокое существование. Последняя подруга.
Наступила перестройка. Безумный энтузиазм Горбачёва без конца транслировали по радио и телевидению. Власть разрушала то, за что она воевала на фронте, за что умирали её братья. Она уже завидовала Каплеру: муж вовремя умер…
Как я завидую тому,
Кто сгинул на войне!
Кто верил, верил до конца
В «любимого отца»!
Был счастлив тот солдат…
Живых разбитые сердца
Недолго простучат…
В 1990 году она была избрана в Верховный Совет. Но вскоре добровольно сложила депутатские полномочия. Почему? «Мне нечего там делать, там одна говорильня. Я была наивна и думала, что смогу как-то помочь нашей армии, которая сейчас в таком тяжёлом положении… Пробовала и поняла: всё напрасно! Стена. Не прошибёшь!»
Стала чаще бывать на даче. С тоской вспоминала, как весело было жить здесь с Каплером. Как вольно писалось. Теперь от той лёгкости не осталось и следа. Сидела у окна, закутавшись в тёплый платок, и смотрела на осенний сад, где тоже всё умирало. Должно быть, в один из таких приездов в одиночестве написалось, из самой глубины, уже из сумерек: «Тяжко! Порой мне даже приходят в голову строки Бориса Слуцкого: “А если кто больше терпеть не в силах, партком разрешает самоубийство слабым”…» В газете «Правда», уже утратившей большую часть своего тиража и влияния, 15 сентября 1991 года она опубликовала статью, где было и это стихотворение:
Живых в душе
не осталось мест —
Была, как и все, слепа я.
А всё-таки надо на прошлом —
Крест,
Иначе мы все пропали.
Иначе всех изведёт тоска,
Как дуло чёрное у виска…
Прежде чем поставить на прошлом крест, она привела в порядок все свои дела: закончила работу над поэтическим сборником «Судный час», посвящённым Алексею Каплеру, на даче села за стол и написала письма: зятю Андрею, дочери, внучке, подруге Виолетте, редактору, в Союз писателей, в милицию. Входной дверью придавила записку зятю, потому что знала: первым её найдёт он: «Андрюша, не пугайся. Вызови милицию, и вскройте гараж».
Из предсмертного письма: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл… А я к тому же потеряла два своих главных посоха — ненормальную любовь к Старокрымским лесам1 и потребность творить… Оно лучше — уйти физически неразрушенной, душевно несостарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, неверующая. Но если Бог есть, он поймёт меня…»
Её похоронили в Старом Крыму рядом с Алексеем Каплером. Так она просила.
Астрономы назвали одну из вновь открытых планет нашей галактики именем Юлии Друниной. Но и не будь планеты, она всё равно будет светить всегда своим романтичным, немного грустным и суровым и одновременно нежным светом.
ЗИНКА
1
Мы легли у разбитой ели.
Ждём, когда же начнёт светлеть.
Под шинелью вдвоём теплее
На продрогшей, гнилой земле.
— Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живёт.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную девочку ждёт…
Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперёд!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идёт.
2
С каждым днём становилось горше.
Шли без митингов и знамён.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрёпанный батальон.
Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав…
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
3
— Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счёт.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живёт.
У меня есть друзья, любимый,
У неё ты была одна.
Пахнет в хате квашнёй и дымом,
За порогом стоит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
…Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!
1944
«НА НОСИЛКАХ, ОКОЛО САРАЯ…»
На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
И бойцы вокруг неё толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть…
Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и отойдёт к окошку,
Закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.
Там, где возле чёрного сарая,
На краю разбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я ещё, ребята, не жила…
1974
Награды и премии
Ордена: Красной Звезды (1944), «Знак Почёта» (1967), Трудового Красного Знамени (1974, 1984), Отечественной войны 1-й степени (1985).
Медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Государственная премия РСФСР им. М. Горького (1975) — за книгу стихов «Не бывает любви несчастливой» (1973).
Серебряная медаль им. А. А. Фадеева (1973).
Публикации
В солдатской шинели. М.: Советский писатель, 1948.
Мой друг. М.: Московский рабочий, 1965.
Избранная лирика. М.: Молодая гвардия, 1968.
Алиска. М.: Советская Россия, 1973.
Я родом не из детства… М.: Современник, 1973.
Избранное. М.: Художественная литература, 1977.
Избранное: В 2 т. М.: Художественная литература, 1981.
Это имя… М.: Современник, 1984.
Метель. М.: Советский писатель, 1988.
Избранное: В 2 т. М.: Художественная литература, 1989.
Полынь. М.: Современник, 1989.
Мир до невозможности запутан… М.: Русская книга, 1997.
Стихотворения. М.: Эксмо-Пресс, 2002.
Есть время любить. М.: Эксмо, 2004.
Не бывает любви несчастливой… М.: Эксмо, 2005
Стихи о любви. М.: Эксмо, 2009.
За минуту до боя… М.: АСТ, Астрель, 2010.
Стихи о войне. М.: Эксмо, 2010.
Ты — рядом, и всё прекрасно… М.: Эксмо, 2014.
Зинка: Лучшие стихи о войне. М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015.
Глава вторая
БОРИС СЛУЦКИЙ
«Рыжий ветхозаветный пророк в роли политрука»
Всех, о ком я здесь пишу, — всех! — писателями, поэтами, драматургами сделала война.
Поэта Бориса Слуцкого — тоже.
Он родился 7 мая 1919 года в Славянске Изюмского уезда Харьковской губернии. Потом родители перебрались в Харьков. Отец, Абрам Наумович, был мелким торговцем, имел лавку на городском рынке. В семье Борис был первенцем, потом появились брат Ефим и сестра Мура.
Мать, Александра Абрамовна, называла старшего сына Боб, в три года научила его читать, и к шести годам мальчик прочитал все книги Харьковской детской библиотеки.
Восьми лет Борис пошёл в школу. Учился легко, из первого класса его перевели сразу в третий. В пятнадцать лет он начал посещать литературный кружок при Доме пионеров. Приблизительно в эти же годы началась его дружба с Михаилом Кульчицким, тоже начинающим поэтом. Биограф Слуцкого Илья Фаликов пишет: «Юный Слуцкий — кровное дитя Интернационала. Коммунистического. Нацвопрос как бы отменялся, но оставался в подкорке. Лучший друг в Харькове — Миша Кульчицкий, сын царского офицера, дворянин. Слуцкий ставил его выше себя как поэта, и это походило на то, как в будущем впереди себя он будет видеть Леонида Мартынова. <…> …отношения с Мишей — “постоянное соревнование”».
Племянница поэта Ольга Слуцкая рассказывала: «…родители говорили на идише, отмечали еврейские праздники и тайно обучали своих мальчиков ивриту — видимо, собирались уехать в Палестину. Братья деда перебрались туда ещё в 1919 или в 1920 г. Шла переписка, и бабушка поинтересовалась, смогут ли её дети получить там хорошее образование. Ответ, видимо, не был конкретным, что её не устроило, и в Палестину не поехали».
Кульчицкого он действительно ставил высоко. Когда появлялось новое стихотворение, показывал вначале Михаилу, а потом, в зависимости от его реакции, читал другим. Кульчицкий же ставил стихи Бориса выше своих.
Летом 1937 года Борис уехал в Москву и поступил в Московский юридический институт (МЮИ). Жил в общежитии, посещал литературный кружок Осипа Брика при МЮИ.
Однажды студента Слуцкого как будущего юриста привлекли к обычному в общем-то практикуму: помогать судебному исполнителю «описывать имущество жулика». Впоследствии бывший студент-юрист описал эту незабываемую историю:
«В 1938 году, осенью, я описывал имущество у писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.
Это звучит ужасно. Тридцать без малого лет спустя я рассказал эту историю старшей дочери Бабеля, и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса, а не от чего-нибудь иного.
На самом же деле всё происходило весело и безобидно.
Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось поприсутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — всё это в первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:
— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдаёт себя за писателя. Заключил договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?
— Как фамилия жулика? — спросил я.
Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:
— Бабель, Исаак Эммануилович.
Мы вдвоём пошли описывать жулика.
К тому времени, к сентябрю 1938 года, я перечёл нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз. К тому времени я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. 23 трамвайные остановки отделяли Алексеевский студенческий городок от улицы Герцена и Московского юридического института. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях.
Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.
— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них споёт.
У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.
В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество.
Много лет спустя я снова побывал в этой квартире и запомнил её — длинную, узкую, сумрачную.
В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель».
Через год Бабеля арестовали, а в 1940-м расстреляли.
Параллельно с МЮИ Слуцкий учился в Литературном институте, в который поступил в 1939 году — сразу на третий курс, семинар Ильи Сельвинского. Сельвинский мгновенно почувствовал в юном Слуцком силу большого поэта, всячески поддерживал его, толкал вперёд. Именно благодаря Сельвинскому Слуцкого приняли сразу на третий курс. Редкий случай. В Литинституте он сблизился с поэтами Павлом Коганом, Сергеем Наровчатовым, Давидом Самойловым, Михаилом Лукониным. Все — будущие солдаты.
Первые стихи появились в печати в самый канун Великой Отечественной войны — в марте 1941 года.
В автобиографии, хранящейся в архиве Союза писателей, Слуцкий писал: «Когда началась война, поспешно сдал множество экзаменов, получил диплом и 13 июля уехал на фронт. 30 июля был ранен (на Смоленщине). Два месяца пролежал в госпиталях. 4 декабря нашу 60-ю стрелковую бригаду выгрузили в Подмосковье и бросили в бой. С тех пор и до конца войны я на фронте…»
60-я стрелковая бригада была сформирована в Саратове в октябре — ноябре 1941 года. Тогда, осенью, после тяжёлого лета, а затем разгрома Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы и Рославля, Ставка Верховного главнокомандования начала спешно формировать стрелковые бригады, потому что дивизии формировать было уже некогда. В ноябре 60-я стрелковая бригада прибыла на железнодорожную станцию Кубинка в Подмосковье и была введена в состав 5-й общевойсковой армии Западного фронта. Шли тяжелейшие бои. До декабрьского контрнаступления, как известно, был ещё ноябрьский, последний удар немцев на Москву.
Как пишет биограф Слуцкого Илья Фаликов, после госпиталя Слуцкий, как человек, имевший юридическое образование, «по решению военкомата <…> был определён следователем военной прокуратуры, где служил полгода».
Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтобы судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождём, а массой.
Давид Самойлов вспоминал их встречу, которая произошла в Москве, по всей вероятности, когда Слуцкий после ранения получил в военкомате направление в 60-ю стрелковую бригаду и по пути заехал в Москву:
«Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий — лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпиталя, снисходительный к моей штатской растерянности.
— Таким, как ты, на войне делать нечего, — решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашались воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.
Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября2 он был деятелен, увлечён, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию. Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала “Иностранная литература”. Пришёл проститься.
— Ну, прощай, брат, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Уезжай из Москвы поскорей.
Я малодушно всхлипнул. Слуцкий, слегка отворотясь лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице».
В феврале 1943 года на базе 3-й танковой армии была сформирована 57-я общевойсковая армия (2-е формирование). Армия заняла оборону на рубеже реки Северский Донец и впоследствии вошла в состав 3-го Украинского фронта. В штате полевого управления 57-й армии и служил Слуцкий.
Из пехоты ещё под Москвой Слуцкого перевели в дивизионную прокуратуру. Какие рычаги здесь сработали, неизвестно. Служил он вначале секретарём, потом следователем. Следователь дивизионной прокуратуры — должность сложная. Пришлось молодому поэту разбирать не рифмы, а судьбы.
Осенью 1942 года Слуцкий был переведён в политотдел 57-й армии. Весной 1943 года он уже старший инструктор политотдела армии. «Несмотря на то, что был политработником, — читаем в официальной биографии поэта, — постоянно лично ходил в разведпоиски».
Я говорил от имени России,
Её уполномочен правотой,
Её приказов формулы простые
Я разъяснял с достойной прямотой.
Я был политработником. Три года:
Сорок второй и два ещё потом,
Политработа — трудная работа.
Работали её таким путём:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
В бою,
Перед голодными,
перед холодными.
Голодный и холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан,
им патрон недодано,
Который день поспать им не дают.
Но я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Всё то, что в письмах им писали из дому,
Всё то, что в песнях с их душой слилось,
Всё это снова, заново и сызнова
Высоким словом — Родина — звалось.
Я этот день,
воспоминанье это,
Как справку
собираюсь предъявить
Затем,
чтоб в новой должности
поэта
От имени России говорить.
На фронте Слуцкий вступил в ВКП(б). Должно быть, поэтому и сделал довольно стремительную карьеру: от рядового пехоты до гвардии майора, начальника 7-го отделения политотдела армии. 7-й отдел — подразделение, занимавшееся разложением войск противника агитацией через листовки, радиотрансляции и т. д. Слуцкий со своими подчинёнными занимался также изучением политической обстановки в стане противника, держал, насколько это было возможно, связь с политическими партиями, общественными и религиозными организациями стран, в пределы которых Красная армия вошла, громя фашистские режимы. На основании этих данных отдел готовил рекомендации для командования. Поэт для такой работы был существом, прямо скажем, неподходящим, но Слуцкий справлялся. Может быть, потому, что во время войны стихов почти не писал.
После войны стихи буквально хлынули.
Написалась и книга прозы. Нечто среднее между мемуарами и философским трактатом на тему войны. Так появились «Записки о войне». Константин Ваншенкин вспоминал: «Когда-то он сказал мне, что сразу после Победы заперся на две недели и записал свою войну в прозе: “Пусть будет…”».
Поэт, вернувшись с войны, начинал с прозы.
Проза начиналась так: «То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленные к сложным и отдалённым от врага формам борьбы, испытали внезапное желание: лечь с пулемётом за кустом, какой поплоше и помокрее, дождаться, пока станет видно в прорезь прицела — простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча».
«Тогда ещё никто не знал, что слово “славяне”, казавшееся хитрой выдумкой партработников и профессоров, уже собрало в Белграде студентов и работников под знамёна КПЮ3.
6 ноября 1941. Я проезжал через Саратов. Была метель — первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещённой радужными фонарями, продавалось мороженое пятьдесят копеек порция — сахарин, крашеный снег, подслащённый и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках, и невидимыми ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей, и Саратов — последним углом, закутком её.
На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб тёмно-коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Его отпускали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Тёплый запах, окутывавший её в ноябрьской неморозной измороси, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.
На войне пели: “Когда я на почте служил ямщиком…”, “Вот мчится тройка удалая…”, “Как во той степи замерзал ямщик…” Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно ямщицкие. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?»
«Идеология воина, фронтовика составляется из нескольких сегментов, чётко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко “состукивалось” с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.
Один из самых тяжёлых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравнён только с трудом коллектива “Правды” или “Красной Звезды”. Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть. Иногда она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию, — почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена её жителям — фрицы, её глаголам — выстоять… Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: “Знаете ли, я всё-таки согласен с Эренбургом” — и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.
Эренбург не ушёл, он отступил, оставшись “моральной левой оппозицией” к спокойной политике наших оккупационных властей.
Вред его и польза не измеряются большими мерами. Так или иначе петые им песни ещё гудят в ушах наших, ещё ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели поставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы».
Комментировать философию войны Слуцкого трудно. Во-первых, наверняка многое было написано во время боёв и маршей, на фронте. А это для нас, нынешних, не нюхавших запаха того пороха, заведомо бесспорно. Во-вторых, это всё же изъятия из общего текста. Но что касается Эренбурга и его «Убей немца!» — то здесь можно и поспорить. Причём здесь спорно всё. Даже не в столь уж пространной цитате явно чувствуется, что Слуцкий пытается оправдать Эренбурга. Перед читателем? Перед совестью? Вряд ли Эренбург не понимал, когда писал свои исполненные ненависти к врагу газетные заметки для политруков, а значит, и для солдат, что во враге, каким бы чудовищем он ни был, есть и человеческие черты. И эти черты, по мере продвижения Красной армии в глубину Европы, проявлялись всё более отчётливо. Солдату-освободителю, видевшему до перехода через рубеж границы только «фрицев» и «гансов», теперь пришлось увидеть семьи, жён, матерей, детей и сестёр этих чудовищ, терзавших на советской земле их жён, их матерей и сестёр. Эренбург прекрасно понимал, что с его «Убей!» в солдатском вещмешке освободительный поход Красной армии может превратиться в повальную и неуправляемую средневековую резню, в тотальную Хатынь от Одера до Рейна и Альп. Как гуманист он не мог не видеть конечность, а значит и тупик своей философии ненависти.
Так что здесь, в размышлениях Слуцкого об Эренбурге, многое спорно. Будь он хоть трижды автору «Убей!» друг и брат. Более «хладнокровного реализма», чем газетный Эренбург, который на агитационном поприще действительно был стократ мощнее целой редакции «Правды» и «Красной Звезды», не существовало. И сила этого «хладнокровного реализма», вопреки утверждению Слуцкого, была огромна. Эту силу в 1944-м и 1945-м командование гасило грозными приказами и расстрелами насильников и мародёров. А ведь у насильников и мародёров была своя жизненная философия, своя, пусть извращённая, но всё же правда, и частью её было как раз это «Убей!». И Эренбург её разогрел до состояния катастрофического.
«Запрещение сдаваться в плен, немыслимое в любой другой армии, привело к тому, что окружение было не только катастрофой, но и толчком к образованию мощных лесных соединений. Приказ выполнило меньшинство, но меньшинство, достаточное для моральной победы. В штурмовых батальонах4 ещё долго встречалось обиженное начальство. Они сдались в плен, порвали партбилеты, чтобы сохранить себя для коммунизма и даже для борьбы в эту войну “в более благоприятных условиях”. Их ведь не предупреждали о том, что нормы героизма будут настолько повышены».
«Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паёк шоколад, голландский сыр, конфеты.
Зимой 1941/42 года под Москвой наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным норам. В 1942 году солдатские газеты прокричали об утверждённых Гитлером проектах благоустроенных солдатских блиндажей, без выполнения этого обещания немцы не стали бы воевать ещё зиму.
Почти всю войну кормёжка была изрядно скудной. Люди с хорошим интеллигентским стажем мечтали о мире, как о ярко освещённом ресторане с пивом, с горячим мясным. Москвичи конкретизировали: “Савой”, “Прага”, “Метрополь”.
Офицерский дополнительный паёк вызывал реальную зависть у солдат5.
В окопах шла оживлённая меновая торговлишка! Табак на сухари, порция водки на две порции сахара. Прокуратура тщетно боролась с меной.
Первой военной весной, когда подвоз стал маловероятен, стали есть конину. Убивали здоровых лошадей (нелегально); до сих пор помню сладкий потный запах супа с кониной. Офицеры резали конину на тонкие ломти, поджаривали на железных листах до тех пор, пока она не становилась твёрдой, хрусткой, съедобной».
«В Констанце мы впервые встретились с борделями.
Командир трофейной роты Говоров закупил один из таких домов на сутки. Тогда ещё рубль был очень дорог, существовал “стихийно найденный” паритет: “один рубль равняется сто лей” — вполне символизировавший финансовую политику нашего солдата. Характерно, что курс завышался также и в Болгарии, а в Югославии он, наоборот, был занижен до того, что на один рубль там брали 9,6 недичевских динаров, и солдаты переплачивали “из уважения”.
Закупив бордель, Говоров поставил хозяина на дверях — отгонять посетителей, а сам устроил смотр нагим проституткам. Их было, кажется, двадцать четыре. “За свои деньги” он заставил их маршировать, делать гимнастические упражнения и т. д. Насытившись, Говоров привёл в дом свою роту и предоставил женщин сотне пожилых, семейных, измучившихся без бабы, солдат.
Первые восторги наших перед фактом существования свободной любви быстро проходят. Сказывается не только страх перед заражением и дороговизна, но и презрение к самой возможности купить человека».
«Осенью 1944 года 75-й стрелковый корпус, покоряя Западную Румынию, освободил огромные шеститысячные лагеря наших военнопленных. Этих-то пленных и прочили в партизаны.
Корпус не пополнялся с августовских боёв, и новобранцев немедленно распределили по полкам — огромными партиями по шестьсот-семьсот человек. Так и шли они разноцветными ордами, замыкавшими тусклые полковые колонны, — защитники Одессы и Севастополя, кадровые бойцы 1941 года, слишком выносливые, чтобы поддаться режиму румынских лагерей, слишком голодные, чтобы не ненавидеть этот режим всей обидой души.
Шли тельняшки, слинявшие до полного слияния белых и синих полос, шли немецкие шинели, шли румынские мундиры, выменянные у охраны. Шли. И румынские деревни отшатывались перед их потоком, разбегались в стороны от шоссе.
Это были отличные солдаты, сберёгшие довоенное уважение к сержантам и почтение к офицерам. Большинство из них крепко усвоило военное словечко: “Мы себя оправдаем”, — сопряжённое с осознанием своей вины (или согласием: мой поступок можно рассматривать как вину) и неслезливым раскаянием».
«Седьмого сентября две армии приготовились к прыжку через болгарскую границу. 7-му отделению было приказано отпечатать двадцать тысяч листовок. Болгарских шрифтов не было. Печатали по-русски, догадываясь, что болгары поймут. Однако листовки оказались напрасными. Навстречу нашим танкам выходили целые деревни — с хлебом, с солью, виноградом, попами. После румынской латыни танкисты быстро разобрались в малёванных кириллицей дорожных указателях. Пёрли на Варну, Бургас, на Шумен. Утром 8 сентября шуменский гарнизон арестовал сотню немцев, застрявших в городе. Вечером того же дня шуменский гарнизон был сам арестован подоспевшими танкистами. 9-го, когда я приехал в город, в немецком штабе ещё оставались посылки — кексы, сушёная колбаса, мятные лепёшки. Ночью мы долго стучались в запертые ворота. Помучившись более часа, я перелез через забор и вскоре пил чай с пирожками в гостеприимной, хотя и осторожной семье. Меня спрашивали: “Как же вы вошли? Ведь ворота остались запертыми!” Я отвечал: “Что такое ворота для гвардейского офицера!” Какой-то гимназист с дрожью в голосе говорил мне: “Так нехорошо! Вы — не братушки!”
Братушка — слово, рождённое во времена походов Паскевича или Дибича, рикошетом отскочило от нашего солдата и надолго пристало ко всем “желательным иностранцам”. Братушками называли даже австрийцев и мадьяр».
«В сентябре 1944 года я осматривал в Разграде лагерь пленных немцев — главным образом дунайских пловцов, бежавших сюда из Румынии. Всего — сто два человека. Партизаны, ещё не привыкшие быть субъектами, а не объектами пенитенциарной системы, кормили их четырьмястами граммами хлеба в день, давали ещё какую-то горячую баланду. Фрицы роптали, и братушки смущённо консультировались у меня, правильно ли они поступают. В Югославии такие нахалы, как эти фрицы, давно уже лежали бы штабелями. Такова разница национальных темпераментов, а главным образом, двух вариантов накала борьбы».
«После украинского благодушия, после румынского разврата суровая недоступность болгарских женщин поразила наших людей. Почти никто не хвастался победами. Это была единственная страна, где офицеров на гулянье сопровождали очень часто мужчины, почти никогда — женщины. Позже болгары гордились, когда им рассказывали, что русские собираются вернуться в Болгарию за невестами — единственными в мире оставшимися чистыми и нетронутыми.
Случаи насилия вызывали всеобщее возмущение. В Австрии болгарские цифры остались бы незамеченными. В Болгарии австрийские цифры привели бы к всенародному восстанию против нас — несмотря на симпатии и танки.
Мужья оставляли изнасилованных жён, с горечью, скрепя сердце, но всё же оставляли».
«Проза войны, — точно заметил Илья Фаликов, — стала прозой поэта — и в стихах, и в не-стихах, то есть в прозе как таковой. Она была готова к осени 1945 года. Десять глав. На одном дыхании. Заведомый самиздат — такого не опубликуешь».
Потом всё было опубликовано. И не раз переиздавалось.
«Записки о войне», эти «десять глав», появились, по всей вероятности, потому, что поэт ещё не был уверен в том, что сможет всё, что пережил и постиг в эти четыре года, выразить в стихах.
Боевой путь Слуцкого лежал от Подмосковья и Смоленщины через Сталинград и Украину, Румынию и Венгрию на Болгарию и Австрию.
В конце войны и после неё какое-то время служил в Венгрии, потом в Австрии. Илья Фаликов: «…формировал правительство в южно-австрийской Штирии».
Из южно-австрийской Штирии Слуцкий вернулся в Москву. Начали сказываться ранения и серьёзная контузия. Таких в кадрах не задерживали. После войны многие офицеры оставались служить. Но не всех желающих оставляли.
Илья Фаликов: «Он привёз свою прозу в первое послевоенное посещение Москвы осенью 1945-го. Остановился у Лены Ржевской, только что вернувшейся с войны, видел уцелевших друзей, задумывался об уходе из армии, откуда его пока что не отпускали. Уехав из Москвы в Грац (Австрия), где стояла его часть, сообщил другу Исааку Крамову: “…написал три больших стиха, которые я могу читать тебе или Сергею <Наровчатову>…”
Затем, в ближайшие месяцы, происходили всяческие хлопоты по разным гадательным направлениям: либо аспирантура одного из исторических институтов Академии наук, либо адъюнктура Высших военно-партийных курсов. Сорвалось там и там».
Дальше был госпиталь, потом военно-врачебная комиссия. По результатам комиссии — инвалидность. «Мне дали инвалидность второй группы. Я потрясён. Ты знаешь, кому дают вторую группу? Обрубкам без ног и рук, а я? Я-то ведь с руками и ногами».
Обострился пансинусит, последствие простуды на фронте. Простуда была осложнена сильнейшей контузией. Слуцкого мучили постоянные головные боли, бессонница, депрессия. Надо было ложиться в госпиталь. Перенёс две тяжелейшие операции — трепанация черепа. Остался шрам над бровью. Но головные боли не ушли. Не спал ночами.
Один фронтовик, бывший командир стрелковой роты, рассказал мне однажды: войну он начал лейтенантом, в 1943 году, после окончания Ташкентского пехотного училища. Во время первых же боёв, ночью, немецкая разведка дважды утаскивала из роты бойцов. Командир батальона вызвал его и сказал, что, если это произойдёт и в третий раз, он, командир роты, загремит прямым ходом в штрафбат. После этого, когда наступала ночь, ротный не спал, ходил по траншее, заглядывал в землянки, пересчитывал своих бойцов, прислушивался к нейтральной полосе и на каждый шорох и подозрительный звук бросал за бруствер гранату «Ф-1». Войну, так же как и майор Слуцкий, мой ротный закончил в Австрии. До середины 1960-х продолжал служить. Спать по ночам научился только спустя пять лет после последних боёв в Австрии.
У Слуцкого, возможно, было нечто подобное, но, вдобавок ко всему, это нечто было осложнено ещё и контузией. А последствия контузии, как известно, не всегда лечатся.
Татьяна Кузовлева: «Война оставила Слуцкому не только шрамы на теле, но и в результате сильной контузии — стойкую, изнурительную бессонницу.
И — то ли война разбудила в нём одно удивительное свойство, то ли оно было врождённым, но он мог обходиться без часов. Они словно жили у него внутри — он в любой момент с точностью до минуты определял время».
Послевоенная жизнь поэта была скудной. А какой тогда могла быть жизнь поэта?
«Когда я впервые после войны приехал (в ноябре 1945) <в Москву>, я позвонил по телефону Сельвинскому, его жена спросила меня:
— Это студент Слуцкий?
— Нет, это майор Слуцкий, — ответил я надменно».
Таким, майором, и даже гвардии майором, он и останется в русской поэзии XX века. Но жить на первых порах было не на что. Поэтому время от времени уезжал в Харьков. «Как инвалид Отечественной войны второй группы я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве — нет… В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном». Какое-то время приплачивали ещё за ордена, потом выплаты отменили. Для фронтовиков эта государственная мера, пусть даже вынужденная — каждую копейку пускали на создание ядерной бомбы, — была сильнейшим моральным ударом.
После прозы волной пошли стихи.
Дружил с Давидом Самойловым и Сергеем Наровчатовым. У фронтовиков было много общего и кроме поэзии и литературных новостей.
Когда появлялись свободные деньги, покупал книги. Любил букинистические магазины, завёл знакомства с известными букинистами. Покупал книги, которые давно искал, и тогда, когда денег не хватало даже на еду.
Быть мерой времени — вот мера для стиха!
Или:
Я — ухо мира! Я — его рука!
Мерой времени всё ещё оставалась война. Боевые товарищи. Всю меру определяли они. Особенно погибшие. Они стояли над поэтом как иконы. Достаточно поднять глаза — вот они. Ни солгать, ни увильнуть — ни-ни, как под дулом автомата…
Илья Фаликов: «Странное было время. Стихи били фонтаном. Густо и регулярно проходили вечера поэзии — и в Политехническом, и в Литературном институте, и в Комаудитории МГУ, и во второй аудитории филологического факультета, и в университетском общежитии на Стромынке, и на многих других площадках».
Начались публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя».
Его опекал Эренбург, отмечал в своих публикациях. Ему, покровителю и учителю, Слуцкий посвятил одно из лучших своих стихотворений — «Лошади в океане» (1950).
В 1956 году вышел первый выпуск альманаха «День поэзии», который станет ежегодником и своего рода поэтическим эталоном. В нём были и стихи Слуцкого.
Боготворил Николая Заболоцкого. Когда Заболоцкий скоропостижно умер от инфаркта, Слуцкий был потрясён. С Заболоцким он ездил в Италию в составе писательской делегации, бывал у него в Тарусе, откуда Николай Алексеевич привёз цикл своих последних стихов, своих поздних шедевров. На похоронах Заболоцкого Слуцкий сказал: «Наша многострадальная литература понесла тяжелейшую утрату…» Присутствовавшие вжали головы в плечи: многострадальная… Тогда это было не просто смело, но и опасно. Хотя Сталина уже не было, был Хрущев.
Слуцкий вспоминал: «Несколько раз я приносил Заболоцкому книги — из нововышедших, и почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полок:
— Что ж мне, Тютчева и Баратынского выбросить, а это поставить?»
Его поэтическую судьбу, его высоту в литературе и его кредо точно определил поэт и литературовед Илья Фаликов: «Случай Слуцкого — случай добровольного и волевым образом вменённого себе в долг идеализма, усиленного генной памятью пророческого библейского прошлого. Рыжий ветхозаветный пророк в роли политрука. Моисей и Аарон в одном лице. Косноязычие первого и красноречие второго. Точнее, их языковая смесь».
А вот определение Станислава Куняева, более конкретное: «Он вообще был в своих пристрастиях полным новатором, как любили говорить тогда, и модернистом. Всё, что было связано с традицией, не интересовало его и воспринималось им как искусство второго сорта. Высшим достижением Николая Заболоцкого Борис Абрамович считал его первую книгу “Столбцы” и весьма холодно отзывался о классическом последнем Заболоцком. Судя по всему, ему были чужды и Ахматова, и Твардовский, но зато он ценил лианозовского художника Рабина, певца барачного быта, его кумиром был Леонид Мартынов, который для Слуцкого как бы продолжал футуристическую линию нашей поэзии, а из ровесников он почти молился (чего я никак не могу понять) на Николая Глазкова за то, что последний, по убеждению Слуцкого, был прямым продолжателем Велимира Хлебникова. При упоминании имён Давида Самойлова, Наума Коржавина, Александра Межирова Борис Абрамович скептически шевелил усами: они были для него чересчур традиционны. Но когда он вспоминал Глазкова, в его голосе начинало звучать что-то похожее на нежность».
И ещё: «Слуцкий был демократичен. Он даже не пил коньяк, говоря, что народ пьёт водку и поэт не должен отрываться от народа и в этом деле. Привлекала в творчестве Слуцкого насыщенность его поэзии прозой жизни. Проза жизни — её картины, её грубый реализм…»
Он был частью поколения, выкарабкавшегося в поэзию из окопов. Раненый, контуженый. Солдатам и офицерам, вернувшимся на гражданку, очень скоро дали понять, что война окончена и солдат в новой жизни — человек лишний. Обесценились, в прямом и переносном смысле, ордена и звания. Упразднён как государственный праздник День Победы.
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлёбываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
В 1957 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга его стихов, в ней было стихотворение, начинавшееся так:
Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастёрку до дыр износил
И надел заурядный пиджак…
Дальше — полупроза о Ковалёвой Марии Петровне — солдатской вдове. Но первая строфа — о своей поэзии и той эволюции, которую она невольно, с течением лет и времён претерпела.
На симпозиуме «Литература и война» в 1985 году Иосиф Бродский сказал: «Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной лёгкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком XX века… Его интонация — жёсткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, как и в чём он выжил».
В этом признании есть, конечно же, доля преувеличения, но в остальном — правда.
Пристально вглядывался в молодых. Читал их стихи. Внимательно слушал. Отмечал талантливых, перспективных. И помогал. Сразу высоко оценил Станислава Куняева, Анатолия Передреева, Леонида Агеева, Юрия Кузнецова, Николая Рубцова. Хотя категорически не принял стихотворение Рубцова «Журавли», заподозрив в нём, как отмечал Станислав Куняев, архаику, «сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: “Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих вдаль…”» Однако написал положительную рецензию на сборник Рубцова «Звезда полей». Нуждавшимся давал в долг, чаще без отдачи. Молодые поэты из провинции могли просто позвонить ему домой, представиться: я — начинающий поэт из провинции такой-то, — и он назначал встречу и часами слушал стихи.
Молодые его любили и между собой уважительно называли Абрамыч.
Конечно, невозможно обойти тему «Слуцкий и власть».
Станислав Куняев в своей мемуарной книге «Поэзия. Судьба. Россия» выдал по этой теме достаточно лаконичную и точную формулу: «Слуцкий был человеком присяги. Партийно-идеологической присяги социализму».
Человек присяги… Снова военная терминология.
Должно быть, как человек присяги он и выступил против Пастернака, осудил автора «Доктора Живаго» за публикацию романа за рубежом. Евтушенко сказал, что Слуцкий совершил в своей жизни «одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его». На что Куняев, хорошо знавший Слуцкого, тут же возразил: «Думаю, что Евтушенко здесь недооценивает цельности и твёрдости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы ещё в конце пятидесятых годов. С их высоты он мог осудить не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, некий моральный вред социалистическому отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре. О, ирония истории — которая заставила лично добрейшего человека порой надевать на себя чуть ли не мундир смершевца! Но он как поэт был настолько честен, что и не скрывал этого, и в его сталинистском подсознании на иррациональном уровне шла мучительная борьба, обессиливающая поэта.
“Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно”, “В тылу стучал машинкой трибунал”, “Кто я — дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу его ходить по свету я? Или переправлю под прицел…”, “За три факта, за три анекдота вынут пулемётчика из дота, вытащат, рассудят и осудят…” Глухо, сквозь зубы, но с откровенной мужественной горечью.
Думаю, что воспоминания об этом периоде жизни мучили Слуцкого куда сильнее, нежели пропагандистская история с Пастернаком, в конечном счёте лишь пролившая воду на мельницу мировой славы поэта».
Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерёг.
Не выдержал. Не смог. Убёг.
Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.
Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унёс в могилу эту тайну.
Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.
До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Всё это сделано с утра,
зане жара была в то лето.
Шедевр! Мороз по коже…
А дальше, немного успокоившись, можно размышлять.
Трагедия? Трагедия. И прежде всего — автора. Уж он-то знал, что одна из пуль, которые зарыли Ивана в песок, — его, дознавателя военной прокуратуры.
За что расстреляли взводного? С позиции нынешнего времени и нынешнего читателя — ни за что. За то, что случайно не убили на том берегу «речки» Днепра. Что в живых из всего взвода один остался. Тоже случайно.
Но поэт есть поэт. Для него человек — это Человек. И потому по сравнению с Иваном даже Днепр всего лишь речка… Да и Лета — тоже.
В этом стихотворении поэт Слуцкий раздвоился на человека Слуцкого и майора Слуцкого. У каждого из них своя правда и своё изначальное поручение, которое надо исполнить. Они, оба, его исполнили.
И сталинистом он был, и демократом (по-некрасовски), и коммунистом. «Себя считал коммунистом и буду считать…» Раздвоенность Слуцкого чувствуется во многих его стихах. Куняев точно заметил: «Сталин не любил таких “сомневающихся фанатиков”, как Слуцкий. Но такие, как Слуцкий, любили Сталина».
О Сталине я думал всяко — разное,
Ещё не скоро подобью итог.
Но это слово, от страданья красное,
За ним я утаить не мог.
И ещё:
Он был мне маяком и пристанью.
И всё. И больше ничего.
Тем не менее в 1966 году Слуцкий подписал «Письмо двадцати пяти» — письмо деятелей науки и культуры Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.
Сталина он отделял от сталинизма. Возврата сталинизма не хотел, хорошо понимая, какие люди могут за это взяться и какие силы поднимутся из чудовищной преисподней.
В биографии Слуцкого лежала некая тайна. Вернее, не в его личной биографии, а в истории семьи. И это касается его еврейства, которое он, как утверждают некоторые исследователи, постепенно, начиная с фронта, по крупицам из себя изживал.
Что же это была за тайна?