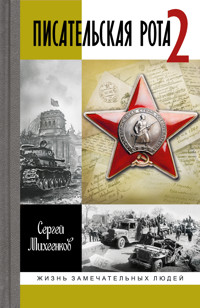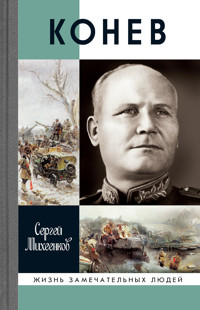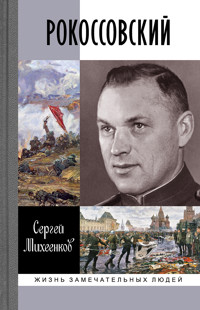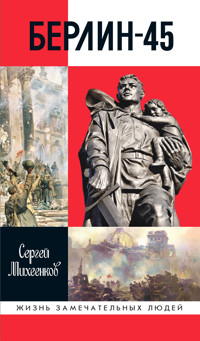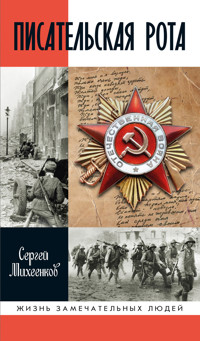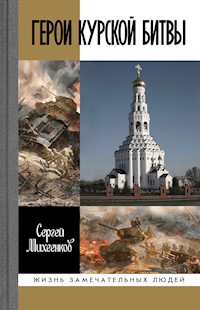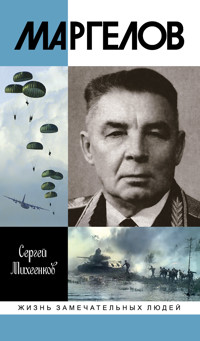
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Жизнь замечательных людей
- Sprache: Russisch
Генерал армии Василий Филиппович Маргелов (1909-1990) — пожалуй, самый известный советский военачальник послевоенного времени. Он командовал самыми героическими войсками — Воздушно-десантными. Вооружил их самым современным оружием, провел со своими «орлами» ряд блистательных операций, после которых за ВДВ прочно закрепилась слава самых мобильных и дерзких войск, способных выполнять задачи, которые по плечу только им. Слова Маргелова: «Никто, кроме нас» — стали девизом ВДВ, где имя десантника № 1 и поныне окружено легендами. Известный военный писатель Сергей Михеенков подробно и проникновенно рассказывает о жизни генерала Маргелова, куда вписаны Польский поход, советско-финляндская война, Великая Отечественная, особые миссии ВДВ в Венгрии и Чехословакии. В книге использованы редкие документы из архива семьи Маргеловых, многие из них публикуются впервые.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Михеенков
МАРГЕЛОВ
МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023
Информацияот издательства
Спонсорами издания являются АО «Авиаагрегат» и АО «УАП «Гидравлика».
Издательство благодарит за предоставленные иллюстрации Виталия Васильевича Маргелова, Михаила Витальевича Маргелова, Лидию Константиновну Маргелову и Виктора Васильевича Хоменко.
Михеенков С. Е.
Маргелов / Сергей Михеенков. — М.: Молодая гвардия, 2019. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1769).
ISBN 978-5-235-04773-0
Генерал армии Василий Филиппович Маргелов (1909-1990) — пожалуй, самый известный советский военачальник послевоенного времени. Он командовал самыми героическими войсками — Воздушно-десантными. Вооружил их самым современным оружием, провел со своими «орлами» ряд блистательных операций, после которых за ВДВ прочно закрепилась слава самых мобильных и дерзких войск, способных выполнять задачи, которые по плечу только им. Слова Маргелова: «Никто, кроме нас» — стали девизом ВДВ, где имя десантника № 1 и поныне окружено легендами. Известный военный писатель Сергей Михеенков подробно и проникновенно рассказывает о жизни генерала Маргелова, куда вписаны Польский поход, советско-финляндская война, Великая Отечественная, особые миссии ВДВ в Венгрии и Чехословакии. В книге использованы редкие документы из архива семьи Маргеловых, многие из них публикуются впервые.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Михеенков С. Е., 2019
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2019
Часть первая
ВОЙНЫ
На войне себя забудь.
Помни честь, однако.
Рвись до дела — грудь на грудь.
Драка — значит, драка.
А. Твардовский.
Василий Теркин
Глава первая
ПОЛЬСКИЙ ПОХОД
Еще в июне 1939 года 8-я стрелковая дивизия им. Ф. Э. Дзержинского покинула свои зимние квартиры и выехала в летние лагеря, расположенные близ Бобруйска. Командиром разведывательного батальона в ней служил капитан Василий Маргелов.
В начале сентября пришло известие: немцы напали на Польшу, быстро продвигаются своими танковыми и моторизованными соединениями вглубь польской территории.
Понимая, что схватка с вермахтом для Красной армии, а значит, и для страны будет убийственной, советское правительство подписало с Германией договор о ненападении и секретный протокол к нему. В истории Европы существовала целая эпоха, по времени непродолжительная, но все же — эпоха, когда соседи Польши не сочувствовали полякам. В том числе и восточные. Начальник нового Польского государства маршал Юзеф Пилсудский заявил: «Мы не желаем существовать рядом с Советской Россией». Поляки, захваченные волнами национального подъема, жаждали создания новой Великой Польши от моря до моря. В 1919-1920 годах Польша активно расширяла свои территории за счет восточных соседей — Белоруссии, Литвы, Украины. В 1939 году все изменилось. Когда карлику дали понять, что могущество его закончилось, он в это не поверил. И тогда с запада в его царство вошли чужие танки. Он не смог их остановить. Танки кромсали его пехоту и кавалерию. Они заползали все глубже и глубже в пределы царства растерявшегося карлика. И тогда, чтобы остановить их движение на восток, навстречу вышли другие танки и другая пехота.
По секретному дополнительному протоколу «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, границы сфер интересов Германии и СССР будут проходить по линии рек Нарева, Вислы, Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития».
Карлика держали за бороду, приподняв над землей, и ноги его болтались в пустоте.
Союзники, защищавшие в Польше свои интересы, не доверяли друг другу. Маршал Жуков пишет в воспоминаниях: «Что касается оценки пакта о ненападении, заключенного с Германией в 1939 году, в момент, когда наша страна могла быть атакована с двух фронтов — со стороны Германии и со стороны Японии, нет никаких оснований утверждать, что И. В. Сталин полагался на него. ЦК ВКП(б) и Советское правительство исходили из того, что пакт не избавлял СССР от угрозы фашистской агрессии, но давал возможность выиграть время в интересах укрепления нашей обороны, препятствовать созданию единого антисоветского фронта. Во всяком случае, мне не приходилось слышать от И. В. Сталина каких-либо успокоительных суждений, связанных с пактом о ненападении».
В пограничных областях шла мобилизация. Призывные возраста спешно ставили под ружье для срочного доукомплектования дивизий, направляемых на запад.
В 8-ю Минскую верстали из Жлобина, Рогачева, Бобруйска и окрестных сел и деревень. Транспортные средства должны были прийти из центральных областей России. Но в это время шла уборка урожая. Колхозы и совхозы сами нуждались в дополнительном транспорте. Когда начали пополнять некомплектные подразделения до положенных штатов, выяснилось, что некоторые из запасников еще не принимали присяги. Маргелову тут же поручили выявить всех неприсягнувших и провести ритуал в соответствии с уставом и полным пониманием того, когда и в каких обстоятельствах бойцы клянутся на верность социалистическому Отечеству. Дивизионная газета об этом нерядовом событии в жизни 8-й Минской писала: «Могучее красноармейское “ура” в честь мудрого Сталина, в честь любимого наркома тов. Ворошилова далеко и гулко прокатывалось по сосновому лесу».
Маргелов был честолюбив, и служба давала ему возможность утолить эту жажду, в той или иной мере свойственную любому служивому человеку. Он понимал, что служба состоит в постоянной, каждодневной, ежечасной и ежеминутной работе, что работа эта бывает разной, но красному командиру, офицеру, нельзя делить ее на черную и белую, а потом выбирать лучшую. Надо уметь делать всё и всё научиться любить и ценить. И еще: он получал очередное звание, новую, более высокую должность, но при этом не переставал быть солдатом, готовым выполнить любое задание, какое обычно поручают рядовому или сержанту. И так — до генерала. До лампасов.
К началу сентября дивизия была почти полностью укомплектована, доведена до 15 011 человек и вскоре сорока восемью составами переброшена к государственной границе. Полки расположились по линии Большая Раевка — Дубровичи — Конотоп — Пруссы. Дивизия вошла в состав 4-й армии Белорусского фронта и нацеливалась на Барановичское направление. Армия была создана в кратчайшие сроки на базе Бобруйской армейской группировки.
К середине сентября немцы захватили Брест и Белосток. Польские войска не могли противопоставить их танковому блицкригу ничего, кроме отчаянных контратак своих улан.
Тем временем на Дальнем Востоке в районе реки Халхин-Гол комкор Г. К. Жуков со своей 1-й армейской группой наголову разбил 6-ю армию японцев. 16 сентября боевые действия были прекращены. Японцы запросили перемирия, чтобы собрать тела своих солдат и похоронить их согласно кодексу бусидо. Дальневосточная победа конечно же подстегнула командование Красной армии, вдохновила Сталина на новые свершения. Сроки окончания военных действий на Дальнем Востоке и начала их на западе к северу и югу от Припятских болот совпали не случайно.
Семнадцатого сентября нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов вручил послу Польши ноту Правительства Советского Союза:
«Господин посол!
Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава как столица Польши не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не может нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными.
Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии.
Одновременно Советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью. Примите, господин посол, уверения в совершенном к Вам почтении».
Уже больше двух недель шла война. Ее тогда еще не называли Второй мировой: в советских официальных документах той поры она упоминалась как «вторая империалистическая». Но она уже гремела, полыхала, растекаясь по Европе и захватывая всё новые земли и государства. Остановить это расползание никто уже не мог да и не желал.
Англо-франко-советские переговоры не дали положительного результата. Ни Великобритания, ни Франция не приняли предложений Советского Союза о совместных действиях. В результате появился пакт с Германией. Ненадежный, во многом двусмысленный, он все же длился почти два года. Красная армия, военная промышленность Советского Союза получили целых два года на подготовку, перевооружение и переоснащение войск.
Европа тем временем уже полыхала в огне, и тот огонь перерастал в нечто большее, чем Европа и ее интересы.
Первого сентября Германия объявила войну Польше.
Третьего сентября Германии объявили войну Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Британская Индия.
Шестого сентября к антигерманской коалиции примкнул Южно-Африканский Союз.
Десятого сентября — Канада.
Через несколько лет благодаря стойкости бойцов и командиров Красной армии, а также усилиям советской дипломатии все эти страны станут союзниками Советского Союза в войне против Германии и общеевропейского фашизма.
А пока Советский Союз стоял перед лицом истории один на один. И польская армия в оперативных резервах держала против Красной армии 15 дивизий.
Четвертая армия комкора Чуйкова имела четыре стрелковые дивизии, две танковые бригады, батальоны охраны и связи, другие армейские части. 15 сентября командарм прибыл в расположение Минской дивизии, привез усиление. 8-й стрелковой дивизии передавалась 29-я танковая бригада вместе с долгожданным приказом о выступлении: перейти советско-польскую границу 17 сентября в 5.00 на участке Оступ — Дегтяны.
Дивизионная газета с присущим моменту пафосом писала о переходе границы и первой атаке: «Это был неожиданный переход, отделяющий светлый социалистический мир от мира нищеты и эксплуатации. Красноармейцы с мыслью о Сталине и с мыслью о родине начали резать проволоку».
Капитан Маргелов в ту ночь с 16-го на 17-е находился в первом эшелоне во главе разведбата дивизии. И проволоку первыми довелось резать именно его разведчикам. Батальон Маргелова пересек границу еще до начала общего наступления. К польской погранзаставе разведчики подошли скрытно, сняли часовых, окружили казарму. Во время короткой стычки не обошлось без пальбы. Размен оказался таким: один поляк убит, трое разведчиков ранены. Вся погранзастава — 35 человек — разоружена и захвачена в плен. Дальше дивизия двигалась без значительных помех, в походной колонне. Разведбат капитана Маргелова — в авангарде.
В Несвиже колонну красноармейцев встретили хлебом-солью. К городской ратуше с разных концов города быстро сбежался духовой оркестр и заиграл бравурный марш. Бойницы Несвижского замка князей Радзивиллов смотрели на идущие с востока советские войска с угрюмым спокойствием. Ни одного выстрела не прозвучало. Местная администрация разбежалась. Горожане, как всегда, разделились на тех, кто встретил солдат сопредельного государства как освободителей, и на тех, кто смотрел на происходящее враждебно. Одни ликовали, другие молчали и ждали, что будет дальше. Русские войска входили в Несвиж не в первый раз…
Вскоре поступили тревожные сведения: гарнизон Ляховичей приведен в полную боевую готовность и намерен сражаться до последнего солдата. Ляховичи, небольшой белорусский городок, лежали в нескольких десятках километров юго-восточнее Барановичей, которые оставались справа. Что произошло дальше, впоследствии рассказал сам Маргелов:
«— Василий Филиппович, — обратился ко мне комдив. — Ни о том, какой в Ляховичах гарнизон, ни об обороне поляков сведений нет. Дерзости тебе не занимать. Бери броневик, отделение автоматчиков. Но только, прошу, не лезь на рожон и действуй аккуратно. Город мы должны взять малой кровью. Задача ясна?
— Так точно! — ответил я.
— На знакомство с группой и подготовку к выполнению боевой задачи даю один час, а затем — вперед.
— Есть, — козырнув, ответил я.
Водитель и автоматчики были не новичками в Красной армии, и долго объяснять им суть предстоящего не пришлось. На мой вопрос, есть ли у них какие-либо предложения или просьбы, они попросили взять побольше боеприпасов.
Убедившись в надежности своих бойцов, я проверил, как они подготовились к выполнению боевой задачи, после чего доложил командованию о том, что через пять минут отправляемся на выполнение задания.
Получив “добро”, мы двинулись в путь. Дорога была длинной. Спустя некоторое время увидели скелет сгоревшей легковушки, а через несколько километров — взорванную танкетку. Остановились, огляделись. Мост через речушку был свободен. Пролетев его на бешеной скорости, выехали на окраину. На улицах — ни единой души. Казалось, город знал, что скоро штурм. Жители попрятались как перед бурей, магазины были закрыты.
Вдруг, откуда ни возьмись, к броневику подбежал мальчонка лет двенадцати.
— Вы советские? — спросил он.
— Да. А ты кто такой? — спросил я.
— Советские — значит, наши. А я местный, — ответил паренек, — зовут Янко.
— Ладно, Янко, раз ты местный, то и показывай дорогу.
Мальчонка проворно вскарабкался на переднее сиденье, и спустя некоторое время броневик подскочил к ратуше. Поблагодарив хлопчика и пожав ему на прощание руку, я с автоматчиками направился к входу в здание, условившись с водителем о том, чтобы минут через десять он дал из пулемета очередь в воздух.
Возле входной двери стояли два полусонных полицейских, которые, завидев нас и броневик со звездой на башне, стали изумленно протирать глаза. Сообразив, что это не сон, они бросили оружие и пустились наутек.
Путь в ратушу был свободен, и мы смело шагнули в здание. На первом этаже никого. На втором — тоже. На третьем путь нам преградили два польских жандарма, но направленные дула автоматов поумерили их пыл. Я понимал польский и уяснил, что сейчас у бургомистра идет совет, решавший, как и чем предстоит оборонять городок.
Связав на всякий случай перепуганных до смерти жандармов, мы ворвались в большую комнату.
— Шановне панове! Руки вверх! — громко скомандовал я. — Вы арестованы! Сопротивление бесполезно. Наши войска уже заняли все подходы к городу. Вам, полковник, советую прямо сейчас связаться со своим полком и распорядиться о сдаче частям Красной армии.
И тут, в подтверждение моих слов, прогремела длинная пулеметная очередь. Эффект ее был впечатляющим. Трясущимися руками командир польских жолнежей взял телефонную трубку и слово в слово повторил в нее мой ультиматум. Мы вывели из ратуши городского голову, начальника полиции, полковника, дав еще для острастки вверх несколько очередей, отправились в обратный путь. Город был занят нашей дивизией без единого выстрела».
Разные биографы живописуют этот эпизод по-разному. Но все сводят к единому результату: благодаря дерзким и стремительным действиям группы автоматчиков под командованием капитана Маргелова городок Ляховичи был занят без пролития крови. За столь блестяще проведенную операцию в другое время командира подразделения, проводившего ее, конечно же представили бы к боевой награде. Но на той войне награждали крайне редко. Да и войной она не считалась. В официальных документах той поры польская кампания именовалась то «большими маневрами», то «учебными сборами». Затем появился термин «освободительный поход», нынешние историки чаще пишут о просто «походе». Поход 1939 года в Западную Белоруссию, Западную Украину, Виленскую область, Бессарабию и Северную Буковину.
Дальше дивизия двинулась на Барановичи, крупный город и железнодорожный узел. На станции в тупиках обнаружили целые составы, груженные продовольствием, оружием, техникой. Польская армия покидала белорусские города, не успевая вывозить свои склады. В Барановичах трофеями 8-й дивизии стали 850 винтовок, 80 пистолетов, 15 тысяч патронов, 35 легковых машин, 15 грузовиков, два эшелона с продовольствием, четыре противотанковых орудия. Было захвачено в плен пять тысяч солдат и офицеров польской армии. Линию укреплений в районе Барановичей польские войска занять так и не осмелились, опасаясь штурма со всеми вытекающими последствиями.
Дальше были Пружаны, Каменец и Западный Буг. Все чаще случались перестрелки с отходящими польскими гарнизонами. Батальон капитана Маргелова был усилен стрелковым батальоном и бронемашинами. Из донесения командира сводного передового отряда: «В д. Стриженец обнаружил небольшую группу конных. При перестрелке они отошли, оставив убитыми 2-х польских драгун. Разведкой под командой начальника 2-й части штадива капитана Маргелова было установлено наличие мелких групп конницы. В перестрелке ранен один красноармеец».
Очень скоро польско-белорусские леса и глухие дальние хутора заполнят солдаты и офицеры разбитых польских дивизий и полков, бывшие полицейские, осадники1, служащие лесной охраны, помещики, предприниматели и чиновники разогнанных Красной армией и вермахтом учреждений. Уже 27 сентября 1939 года они создадут организацию «Служба победы Польши», затем, через две с половиной недели, реорганизуют ее в Союз вооруженной борьбы, из которого выйдет партизанская Армия Крайова. Она будет выполнять приказы так называемого польского правительства в изгнании, находящегося в Англии. Другая часть польских патриотов вольется в Гвардию Людову, Крестьянские батальоны, «Народове силы збройне» и подобные им формирования.
Армия комкора Чуйкова надвигалась на Брест. Минская дивизия вышла к Бугу севернее Бреста. В Брест вошла 29-я танковая бригада комбрига С. М. Кривошеина. 22 сентября командир 19-го моторизованного корпуса вермахта генерал Гейнц Гудериан передал Кривошеину город со всей инфраструктурой, цитаделью и складами, которые, к чести германской армии, оставались нетронутыми после ухода поляков.
Если комбрига Кривошеина немцы встретили хлебом-солью и дружеским коньяком, то разведбат капитана Маргелова у Видомля — осколочными снарядами. Стреляли сразу несколько танков. Все произошло неожиданно. Разведчики, не предполагая такой встречи с союзниками, шли открыто, колонной. Огонь открыли экипажи 10-й танковой дивизии. Сразу появились убитые и раненые. Капитан приказал батальону развернуться в боевой порядок и открыть ответный огонь. После непродолжительной перестрелки из немецкого стана пустили красную ракету, что означало: «Я — свой». Маргелов отрядил грузовик, в него сложили убитых, погрузили раненых. Водителю передал донесение: «23.10.1939 г., 16.00 конный разъезд РБ2 был обстрелян пулеметным огнем из немецких танков. Есть убитые и раненые, убиты 2 и ранены 2 человека и убиты 3 лошади… В ответ на это из бронемашин батальона был открыт огонь по германским танкам, ответным огнем разбит один германский танк и уничтожен экипаж».
В этот день батальон капитана Маргелова вошел в Пружаны. Соседняя 143-я стрелковая дивизия 4-й армии, которая двигалась параллельным маршрутом, заняла Березу-Картузскую.
Двадцать четвертого сентября, подождав отхода танков 10-й танковой дивизии вермахта, разведбат и бронемашины двинулись вперед. Вторые эшелоны зачищали местность от остатков польских частей и подразделений.
Двадцать шестого сентября батальон вошел в Бялу-Подляску, занял Янув-Подляски и остановился. В этот день соседний 6-й кавалерийский корпус 4-й армии вошел в городок Высоке-Мазовецк. Городок оказался почти целиком выжжен — месть 10-й танковой дивизии за убитого поляками немецкого солдата.
В полночь 27 сентября накануне «приема городов Седльце и Лукув» от союзников командир 23-го стрелкового корпуса, в состав которого несколько дней назад влилась 8-я Минская дивизия, издал приказ. Комбриг С. Д. Акимов3, учитывая обстоятельства и события тех дней, когда немецкие части неохотно покидали захваченные вопреки договоренностям города и территории, строго предписывал: «Высланные представители должны в корректной форме потребовать от представителей немецкой армии освободить 29.9 город Седлец4, Лукув и предупредить, что Красная армия эти пункты займет, если даже они и не будут полностью освобождены частями немецкой армии. Конфликтов с немецкой армией избегать, но требовать увода немецких войск настойчиво и с полным достоинством, как подобает представителям Великой Непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной армии».
Когда командир 8-й стрелковой дивизии В. Я. Колпакчи получил приказ, он тут же потребовал к себе начальника своего 2-го отделения. Ибо знал на деле: самым способным представителем дивизии является начальник дивизионной разведки капитан Маргелов. Именно он мог выполнить этот приказ быстро и, как того требовал приказ комкора Акимова, «настойчиво и с полным достоинством».
Еще 20 сентября, после переговоров по дипломатическим каналам, Гитлер подписал приказ об отводе германских войск к демаркационной линии по рекам Тиса, Нарев, Висла и далее по железной дороге вдоль Сана к Перемышлю. Таким образом, немцы отводили свои части и боевую технику далеко от той линии, к которой они фактически вышли до ввода советских войск на территорию Польши. Директива фюрера предписывала немецким частям немедленно прекратить боевые действия против поляков, которые кое-где еще продолжали сопротивление.
Отвод войск союзников был сопряжен с рядом трудностей: эвакуацией нетранспортабельных раненых, находившихся в местных госпиталях, и вывозом трофеев (военной техники, вооружения, снаряжения и военных складов с продовольствием и фуражом). Командованию немецких частей делегировалось право вести переговоры с командованием советских войск, если те будут обгонять немецкие. Особо договорились о порядке эвакуации раненых: их предполагалось оставлять на неопределенное время на месте до возможности их перевозки, обеспечив на это время всем необходимым. Уход за ними и лечение продолжал немецкий медперсонал. В случае невозможности вывезти захваченные трофеи предполагалось оставлять их русским. Что же касается имущества германской армии, то, по договоренности с советской стороной, оно оставалось на складах до момента вывоза. Поврежденные новейшие танки T-IV, которые, по классификации того времени, относились к категории тяжелых, Гитлер приказал эвакуировать во что бы то ни стало. Либо взрывать, уничтожая каждую деталь до состояния невозможности ее идентификации.
Двадцать третьего сентября газета «Правда» опубликовала советско-германское коммюнике об установлении демаркационной линии между войсками Красной армии и вермахта по вышеназванным рекам. В тот же день газету доставили во все батальоны и роты действующей армии.
К исходу дня 29 сентября авангарды корпуса комкора Акимова вышли на линию Соколув-Подляски — Седльце — Лукув. Колонны были остановлены на ночевку. Вперед ушли разведбаты, усиленные бронетехникой. В штаб корпуса поступали тревожные вести с левого фланга — там части 143-й стрелковой дивизии вели бой с оперативной группой польских войск «Полесье».
В Седльце боевая группа капитана Маргелова влетела на предельной скорости. Немецкие патрули едва успевали передавать в свой штаб по проводам с промежуточных пунктов о стремительном продвижении советской колонны. Коменданту немецкого гарнизона было вручено предупреждение: «Красная армия займет этот пункт, даже если он не будет освобожден частями немецкой армии». Комендант гарнизона принял бумагу из рук начальника штаба Минской дивизии майора Концевого, прочитал «предложения». Подошел к окну. Там, внизу, возле ратуши стояли советские бронемашины. По брусчатке ходил стройный капитан, затянутый ремнями и с массивной деревянной колодкой кобуры, из которой, как рычаг, высовывалась рукоятка маузера. Капитан прохаживался вдоль каре бронемашин, что-то говорил, останавливаясь возле каждого экипажа. Походка и жесты его, спокойная манера отдавать приказы источали уверенность на грани нахальства.
Комендант еще раз попросил переводчика зачитать ему привезенный советским майором документ и после короткой паузы сказал:
— Gut, Herr major. Geben Sie uns noch ein paar Stunden, und am morgen die Stadt letztzer deutscher Soldat verlässt dise Stadt5.
Переводчик завершил фразу вежливой улыбкой. Майор Концевой кивнул и тоже улыбнулся. Им оставалось пожать друг другу руки, и два майора, русский и немец, это сделали.
В первых числах октября полки 8-й стрелковой дивизии начали строить оборону вдоль линии демаркации. Из немецкой зоны оккупации через Буг массово бежали белорусы и евреи. Пришлось договариваться с немцами о том, чтобы процесс добровольного переселения прошел как можно более безболезненно. В свою очередь, за Буг уходили поляки, которые ненавидели большевиков, советские законы и порядки. Были среди них и бывшие граждане Российской империи, которые в годы Гражданской войны с оружием в руках сражались против Красной армии на различных фронтах. Маргелову было поручено всячески способствовать переселению белорусов из Белостокского воеводства.
Вскоре Минская дивизия передала свой участок обороны пограничникам и отошла на тыловой рубеж — в район городка Высокое севернее Бреста. Операция длилась около двух недель. Командование подвело итоги. Поделило награды. Капитану Маргелову и его боевым товарищам, с кем он шел впереди Минской дивизии, за весь этот рейд от Несвижа до Седльце достался веселый ужин за свой счет в ресторане польского городка.
«Вся группа, — рассказывал о своей первой войне генерал Маргелов, — получила благодарность от командира дивизии за образцовое выполнение боевой задачи и была представлена к правительственным наградам.
На радостях мои друзья-сослуживцы собрались вечером в ресторане городка, уже занятого к тому времени без единого выстрела нашими войсками. Отметив мою удачу, которую боевые друзья единодушно назвали подвигом, обильными возлияниями, мы захотели потанцевать с местными паненками, оставшимися в городке. Девушки с удовольствием танцевали с молодыми статными офицерами и с неменьшим удовольствием присаживались за наш стол выпить и закусить в веселой компании.
Веселье наше расстроили, судя по всему, зажиточные местные граждане еврейской национальности, тоже находившиеся в ресторане и праздновавшие что-то.
— Вася, — сказал один из моих товарищей, — над тобой жиды смеются.
Действительно, за одним из столов еврейская компания показывала на мою перевязанную щеку и легкомысленно между собой пересмеивалась.
Офицеры схватились за пистолеты, а я — за свой маузер, который направил вверх. Выстрел прозвучал неожиданно — люстра, висевшая под потолком, разлетелась вдребезги. Насмешников как ветром сдуло. Зато почти мгновенно появились наши ребята из военной комендатуры и препроводили всех на гауптвахту, где оставили нас отдохнуть до утра на свежем сене.
Утром при разборе происшествия я взял вину на себя. Боевую награду мне не дали, но зато для моих друзей все закончилось без последствий».
Не баловали наградами и однополчан капитана Маргелова.
Минская дивизия начала демобилизовывать резервистов. Однако увольняли не всех, кого призвали в «западный поход», а только тех, «кто занят на производстве и в учреждениях наркоматов боеприпасов, вооружения, авиации, химической промышленности». Численность дивизии по новому штату сократили до 14 тысяч человек. Демобилизованным в военных билетах делали отметку как призванных на «большие учебные сборы». Выдавалось предписание: «Приписку военнообязанного сохранить». Всем остальным: «Призванных 7 сентября на сборы военнообязанных запаса начальствующего и рядового состава в порядке специального распоряжения по Московскому, Калининскому, Ленинградскому, Белорусскому, Киевскому, Харьковскому и Орловскому округам, ввиду особых внешних условий, считать мобилизованными до особого распоряжения…»
В «польском походе» Красная армия потеряла 1173 человека убитыми, 2002 ранеными и 302 пропавшими без вести. 8-я стрелковая дивизия потеряла девять человек убитыми и 21 — ранеными. Капитан Маргелов попал в последнюю графу. Хотя ни дивизия его, бравого капитана, ни он свою дивизию не потеряли.
Сталин весной 1940 года, уже после «зимней войны» с финнами, которые, в отличие от поляков, дрались за каждый метр своей земли, сказал своим краскомам: «Нам страшно повредила польская кампания — она избаловала нас. В войсках и командном составе возникли шапкозакидательские настроения. Это помешало нашей армии перестроиться и понять свои недостатки. Наша армия не сразу поняла, что война в Польше это не война, а военная прогулка».
Василий Филиппович Маргелов польскую историю вспоминать особо не любил. Об ордене, который пронесли мимо него, не тужил. Впоследствии, на других войнах, такое случалось часто, и не только с ним. По этому поводу он любил пересказывать, и всякий раз с разным оттенком, один анекдот:
— Было у матери с отцом двенадцать дочерей. Одиннадцать — строевых, одна — нестроевая…
Глава вторая
ДЕТСТВО, СЕМЬЯ, РОДИТЕЛИ
Первую войну капитан Маргелов отвоевал, по сути, на родине.
Родился он в Екатеринославе, куда его родители приехали на заработки из родных Костюковичей Могилевской губернии. Дата рождения, как почти у всех людей этого поколения, спорна. Сам Василий Филиппович в автобиографии 1939 года писал: «Родился в 1906 году 27 декабря в г. Днепропетровске…» Послевоенные справочники и биографы называют другую дату — 1908 год. Этой же даты придерживались автор книги об отце Александр Васильевич Маргелов и все семейство Маргеловых.
Первоначально фамилия писалась с «к» — Маркелов. Буква «г», по словам Александра Васильевича, появилась позже, когда Василию Филипповичу оформляли партбилет. Такому варианту написания фамилии он не воспротивился, напротив, неправильная согласная придавала фамилии, как ему казалось, то, чего в ней недоставало, — звучность.
Семья Маркеловых была большой — трое сыновей и дочь: Иван, Василий, Николай и Мария. Отец Филипп Иванович работал в горячем цехе — литейном. Характер имел крутой, порывистый. Хорошо сохранившийся портрет Филиппа Ивановича, который, по всей вероятности, относится к году призыва его на военную службу в 1914 году, свидетельствует именно об этих ярко выраженных чертах его характера.
В Екатеринославе семья литейщика занимала небольшую комнату в рабочем бараке. Здесь и родился будущий десантник № 1. Мать Агафья Степановна вела домашнее хозяйство, готовила еду, обстирывала растущую семью. В 1913 году Маркеловы оставили рабочий барак и вернулись в родные Костюковичи. Причина отъезда из Екатеринослава неизвестна. Возможно, растущей семье стало слишком тесно в казенной комнате. А тут еще Агафья Степановна получила наследство — дом с обширным огородом на Муравильской улице и налаженное хозяйство. На скопленные деньги Филипп Иванович отремонтировал и надстроил дом, занялся хозяйством. Домашнюю скотину, которой были полны закуты, надо было кормить, поить, обихаживать. Зажили в достатке и сытости.
Война всегда приходит не вовремя.
Двадцатого июня 1914 года забил большой колокол Крестовоздвиженской церкви в центре Костюковичей. Его неурочный и настойчивый бас быстро собрал православный люд на главную городскую площадь. Из храма вынесли иконы, готовились к молебну. Пожарная команда и полицейские выстраивали народ в правильное каре для чтения важного сообщения. Обычно так извещали граждан Костюковичей о прибавлении в царской семье или о войне. Так было, когда подданным сообщали о рождении наследника и о войне с Японией.
И вот начали читать:
«Божию милостию, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, прочая, прочая… объявляем всем верным Нашим подданным: следуя историческим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и с особой силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования… Вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоинством Наших подданных, прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров… Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство и целостность России и положение ее среди великих держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все Наши подданные.
В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага… Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестные войска Наши Божие благословение».
Народ выслушал царский манифест и вздохнул единым вздохом:
— Война…
Тут же отслужили молебен.
А уже на следующий день заиграли в Костюковичах гармошки, захлопали двери кабака, запели то заунывные, то бодрые песни в местной пивной старые солдаты-инвалиды, ветераны Русско-японской войны. Девки во дворах пели озорные частушки, а бабы выли и бились оземь. Так что и не понять, то ли великая радость пришла на Русскую землю, то ли великое горе.
Филиппа Ивановича, как и всех годных мужиков первой категории, приписанных к призывным участкам Климовичской волости Могилевской губернии, под «красну шапку» определили сразу, в первые же дни. На хмельных проводах родня наставляла: «Помни, Филюшка, у нас, у Маркеловых, все мужики служили! И служили так: либо грудь в крестах, либо голова в кустах!»
Голову свою на фронте Филипп Иванович сберег. Понапрасну ее германской пуле не подставлял, всё же дома четверо по лавкам и жена. Кто без него их кормить будет? А кресты при его храбрости, которую в минуты боя сдержать было невозможно, при огромной физической силе и умении держать в руках винтовку, — его кресты, казалось, сами пришли к нему. К осени 1917 года на гимнастерке Филиппа Ивановича позвякивали боевым серебром два солдатских Георгия. Был представлен и к третьему, но представление к Георгиевскому кресту 1-й степени начальство затерло после одного случая. Полк тогда готовился к очередной атаке. Две закончились ничем. Предполье перед траншеей было усеяно серыми бугорками убитых. Немецкие пулеметчики на той стороне, за колючей проволокой в три кола уже изготовились, зарядив свежие ленты, чтобы точно таким же манером положить перед проволокой и третью лаву русских. И вот по траншее пошел полковой командир со свитой штабных офицеров. Подошел к рослому солдату, который прилаживал к винтовке штык, и спросил его:
— Ну что, голубчик, на этот-то раз добежите до германца? Посадите его на штык?
Солдат взглянул на полковника тяжелым взглядом. Вытягиваться перед ним не стал. Достал портсигар и сказал угрюмо:
— До немца, ваше высокоблагородие, господин полковник, мы и на этот раз не добежим, а вот того, кто разрабатывал эту операцию, на штык посадить бы надобно. Либо впереди нашей цепи пустить.
— А может, ты, солдат, и полком сможешь командовать?
— Нет, ваше высокоблагородие, господин полковник, не смогу. Над нами и полком вы царем поставлены и командованием. Вы образование имеете, штаб, офицеров. Вот и решите со своим штабом, как нам этого немца взять без лобовых атак, да чтобы православной кровушкой ковыль не удобрять понапрасну. А мое дело — солдатское. — И Филипп Иванович погладил широкой ладонью штык.
Третью атаку отменили. Но и представление к награде отозвали.
Однако авторитета георгиевскому кавалеру та стычка в траншее заметно прибавила. Товарищи стали больше уважать его, избрали в полковой комитет.
Неизвестно, какой дорогой вернулся Филипп Иванович в родные Костюковичи. То ли полк расформировали и нежелающих служить распустили по домам. То ли он дезертировал, что было тогда не редкостью и в обществе не порицалось. Известно лишь, что вскоре он был снова призван, воевал в Красной армии и вернулся домой, к семье и детям, лишь в 1920 году.
Дома, в Костюковичах снова занялся хозяйством. Дел за время отсутствия хозяина в доме накопилось много. Дети взрослели. Их надо было не только кормить, но и учить. В 1921 году второй его сын, Василий, окончил школу.
Революция революцией, но городок и после великих потрясений, чуть только они унялись, зажил спокойной патриархальной жизнью. Новая власть пыталась встряхнуть это провинциальное болото, но это было не так-то просто. Обещаниям большевиков народ вроде бы верил, но верил осторожно. К примеру, несколько раз Филиппу Ивановичу предлагали проявить сознательность и вступить в ряды ВКП(б), но старый солдат, повидавший на фронте не только большевиков, но и эсеров, анархистов и прочих, от агитаторов отмахивался проверенным универсальным средством: «Еще не созрел…» Многое в новой жизни ему нравилось, он с удовлетворением понимал, что советская власть даст дорогу его детям, не оттолкнет, не отодвинет в сторону. Особенные надежды старый солдат возлагал на второго сына, Ваську. И смышлен, и учится в школе с отличием, и стаˊтью пошел в маркеловский корень, от трудностей не увиливает, невзгоды принимает спокойно и хладнокровно перемалывает их, перед несправедливостью шапку не ломает и всегда готов ее встретить в кулаки.
Однако многое из того, чем жила молодежь, Филиппу Ивановичу было не по душе. С Крестовоздвиженской церкви сняли колокола. Сбросили и большой вечевик, и густой его бас уже не звал Костюковичи на праздники, не предупреждал о бедах. Онемела жизнь тихого городка. Но этим разор не закончился. Пришли активисты и начали ломами и кувалдами крушить стены храма. А ведь в нем Филиппа Ивановича венчали с верной его подругой и матерью его детей, а тогда простой девушкой с Муравильской улицы Агашей, за которую он не раз дрался с городскими парнями. В этой церкви крестил он всех своих детей и отпевал стариков. Закрыли церковно-приходскую школу…
В 1931 году Маркеловы вступили в колхоз «Парижская коммуна». Филипп Иванович отвел на общественный двор коня и другую животину помельче. Но, видимо, колхозная жизнь пришлась ему не по душе. Чуть позже он перешел на работу в леспромхоз, работал там на лесопильном заводе.
Жизнь вокруг все же наполнялась новыми, молодыми силами. В больших городах заработали фабрики и заводы, ожили шахты. Новая власть стала создавать МТС. На колхозные поля выехали тракторы, заработали жнейки, молотилки, лобогрейки. Девчата по вечерам пели веселые песни. Войны затихли. И слава богу, думал старый солдат. Он не хотел, чтобы его сыновья испытали и сотую долю того, что довелось испытать ему на двух войнах. Поглядывал на внука, и сердце его холодело за судьбу мальчонки. Видел не раз, что от войны больше всего страдают самые беззащитные — дети, женщины, старики.
Но вот пришла весточка от Василия. Сын писал о своей службе уклончиво, общо — мол, все хорошо, победа будет за нами. Только что отгремело на Дальнем Востоке, зато загремело на западе. И Филипп Иванович сердцем отца и старого солдата понял: Василий — там.
Лето 1941 года было жарким, каким-то торопливым: быстро поднялись травы и к середине июня выстоялись для косы. Хлеба тоже заколосились и обещали хороший урожай. Утром 22 июня на площади городка черная «тарелка» Московского радио голосом Левитана известила: «Внимание! Передаем важное правительственное сообщение…»
Так началась вторая германская.
Из сводок первых дней толком ничего понять было нельзя. Передавали: идут приграничные бои… Красная армия дает отпор… сбито столько-то самолетов… Филипп Иванович молча выслушивал очередную сводку с фронта и молча шел с площади домой. Дома заставал Агафью Степановну в темном углу возле икон. Пахло лампадным маслом. На душе было лихо. Думал о сыновьях, и больше всего о Василии. Он уже майор, командир полка. Таких погонят первым потоком… Внук играл на улице, скакал на деревянном коне, рубил деревянной шашкой врагов…
Через неделю немецкие танки вошли в столицу Белоруссии. Слухи бродили нерадостные: что западнее Минска в Налибокской пуще немцы окружили несколько наших корпусов или даже армий, что фронт рухнул, Красная армия разбита и скоро немцы будут в Могилеве. Слухи были не напрасными: под Белостоком и Минском оказались в окружении сотни тысяч наших солдат и командиров. Приграничное сражение стало трагедией для войск Западного фронта. Сталин в те дни сказал членам Политбюро: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, все это просрали…» Вскоре за обвал фронта в горячке расстреляют почти все командование Западного фронта, семерых генералов, в том числе командующего генерала армии Д. Г. Павлова, начальника штаба фронта В. Е. Климовских, начальника связи А. Т. Григорьева, командующего 4-й армией А. А. Коробкова. Некоторые генералы и старшие офицеры покончат с собой.
В один из вечеров Филипп Иванович и Агафья Степановна на семейном совете решили так: ей надо уезжать в Россию, в тыл, увозить подальше от войны внука Генку, а он останется здесь, в Костюковичах, присматривать за домом и хозяйством. Решал, конечно, Филипп Иванович. Агафья Степановна безропотно подчинилась его решению.
Семейная жизнь у Василия не заладилась, с женой он развелся. Внук жил с дедом и бабкой в Костюковичах.
Глава третья
ЮНОСТЬ В СЕРОЙ ШИНЕЛИ
В те годы подростки рано становились юношами, а юноши — мужчинами. Раннее взросление происходило не только по причине того, что человек рано начинал взрослую жизнь — работать, зарабатывать хлеб насущный для себя и своей семьи. То поколение рано осознало себя ответственным за своих близких, братьев и сестер, за свою родину.
В 13 лет Василий Маргелов уже работал учеником мастера в кожевенной мастерской. Он быстро осваивал скорняжное дело и вскоре стал помощником мастера. Но в кожевенной мастерской Василий не задержался. В 1923 году он поступил чернорабочим на костюковичскую фабрику «Хлебопродукт». Хорошо развитый физически, прямодушный и честный, он сразу влился в рабочий коллектив, заслужил уважение. В 15 лет его уже называли по имени-отчеству.
В это время комсомольцы предложили ему вступить в их ячейку. Василий готовился к вступлению основательно, штудировал устав и программу комсомола. Но на собрании произошел казус. Кандидат вступил в принципиальный спор с секретарем ячейки по вопросу, не относящемуся ни к теме собрания, ни к положениям устава и программы Коммунистического союза молодежи, и его прием был отложен.
В комсомол Василия все же приняли — и вместе с членским билетом вручили комсомольскую путевку на шахту. Промышленность Советской республики, города и поселки нуждались в угле, в топливе. В те годы именно каменный уголь был мерилом всего в экономике, как сейчас баррель нефти. И Василий едет в Екатеринослав, на шахту имени М. И. Калинина. Поскольку профессии он не имел, его берут чернорабочим, затем назначают коногоном. На лошадях, запряженных в вагонетки, по узкоколейке он вывозил из забоя уголь — работа непростая. Затем стал забойщиком.
Основными орудиями труда шахтера-забойщика в то время были кайло и лопата. А значит, для того чтобы отработать смену, он должен был обладать силой и выносливостью. Каждое утро Василий начинал с зарядки. Тело свое держал в чистоте и постоянном физическом напряжении. Природа наделила его гвардейским ростом и хорошим сложением, и он усиленно развивал свои физические данные.
Однажды бригада пробивала новый штрек. То ли слабым оказался крепеж, то ли давление грунта слишком сильным, но произошел обвал. Забойщики оказались отрезаны от внешнего мира толстым слоем земли и породы. Попытались найти выход — тщетно. Некоторые стали падать духом. Другие молились, стараясь смириться с концом и без ропота принять его. Но Василий собрал вокруг себя группу, и шахтеры продолжали упорно разбирать завал. Более трех суток без воды и пищи они пробивались из забоя. И вот после очередного удара кайлом в стену завала в глаза ударил свет. С той поры Маргелов усвоил один из жизненных принципов: если обстоятельства загнали в угол и отрезали все пути для отхода и выхода, никогда не сдавайся.
Шахтеров поместили в больницу. После курса лечения медкомиссия признала Василия негодным для работы в шахте. Несколько суток, проведенных в замкнутом пространстве, в полной темноте, без притока свежего воздуха, притом что организм не получал воды и пищи… Всё это сказалось на здоровье. Врачи советовали какое-то время находиться на свежем воздухе, вне замкнутого пространства, на природе, на просторе. И его направили на родину, в Белоруссию, в леспромхоз, который поставлял шахте крепежный материал.
Василия назначили лесником. Обход оказался довольно обширным — сотни квадратных километров. По чернотропу на лошади, зимой — на лыжах. Лыжи для восемнадцатилетнего юноши, который всерьез увлечен совершенствованием своего тела, — не только забава, но и отличное средство для достижения цели. Великолепно овладел он и навыками верховой езды. Начальство, видя его успехи в охране леса от самовольных порубщиков и браконьеров, подарило молодому объездчику новенькое кавалерийское седло.
Пройдут годы, и на фронте солдаты из сибиряков-охотников будут считать его своим, а казаки — своим.
И это тоже черта характера Маргелова — куда бы ни бросала его судьба, на какой участок ни ставило руководство, везде он старался дойти до самых глубин порученного дела, изучить его досконально, чтобы выполнять работу быстро, безупречно, с азартом.
Иногда выходил из сторожки затемно, пробегал с полсотни километров по кварталам и возвращался под звездами. В пути изучал следы. В основном звериные, но случалось, и человечьи. Не раз настигал браконьеров. Забирал ружья, составлял протоколы. Вскоре о молодом лесном обходчике по округе пошла молва: этого не подкупить, не запугать.
В Костюковичском леспромхозе Василий проработал до 1928 года. За эти годы сделал неплохую карьеру, став председателем рабочего комитета леспромхоза. Рабочие избрали его членом местного совета и председателем налоговой комиссии. По комсомольской линии назначили уполномоченным по работе среди батраков и по военной работе. Коммунисты на одном из собраний приняли его кандидатом в члены партии. В те времена это открывало самую широкую дорогу вперед. Только вот куда выведет его эта дорога, Василий еще и не догадывался.
Повестку в армию он получил в 1928 году. Военком внимательно изучил его документы и порекомендовал: за плечами семилетка, хороший трудовой опыт, положительные характеристики, комсомолец, да еще и кандидат в действительные члены ВКП(б)… «Хочешь стать красным командиром?» Согласился. Правда, высказал военкому свою заветную мечту: нельзя ли направить в танковые войска? Однажды он наблюдал марш танковой колонны, видел танкистов в кожаных шлемах и промасленных комбинезонах. «Да ты посмотри на себя! — изумился военком. — С таким ростом, гвардеец ты мой, ни в один танк тебя не засунешь!» Подключился уком комсомола, и из Костюковичей Маргелов был направлен по комсомольской путевке на учебу в Минск — в Объединенную Белорусскую военную школу.
Родители устроили проводы. Собрались родня, соседи, сослуживцы из леспромхоза, охотники. Рядом сидела Мария, можно сказать, невеста. Она жила в деревне неподалеку от Костюковичей, обещала ждать.
Во время застолья, когда уже махнули не по первой, старый дед Лученок, служивший еще при генерале Скобелеве и ходивший в штыковую атаку на Шипке, вскинул над своей белой, как одуванчик, головой стопку с самогоном и воскликнул голосом заправского унтера:
— Ты, Василь Филипыч, к службе повнимательней присматривайся! И без лампасов и аксельбантов домой не ворочайся!
Знал бы старый шипкинский ветеран, что Василий в точности исполнит его пожелание, должно быть, завернул тост поцветистее…
Отец же, все время молчавший, пока родня пила да гуляла, когда вышли из-за стола, сурово посмотрел сыну в глаза и то ли всерьез, то ли желая хоть чем-то развеселить, поскольку хмельное не брало, сказал:
— Смотри, сынок, не обосри родную деревню, — и кивнул на веселящуюся родню.
Шутку отца Василий принял с юмором. Но потом задумался и запомнил на всю жизнь.
Объединенная Белорусская военная школа им. ЦИК БССР размещалась в здании бывшей духовной семинарии, где после Гражданской войны действовали Минские пехотные курсы. Учебный процесс был налажен хорошо. Преподаватели набраны из бывших военспецов. Курсанты получали достаточно глубокие знания не только по основным дисциплинам, но и по предметам, касающимся общего развития.
Василий Маргелов учился в Минске с сентября 1928 года по апрель 1931 года. 7 ноября 1928 года принял присягу — это событие в школе приурочили к празднованию 11-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В Советском Союзе до последних лет его существования этот праздник отмечали с особым торжеством, ему посвящали трудовые и ратные победы, подводили трудовые итоги, награждали лучших. Достаточно вспомнить парад 7 ноября 1941 года, когда войска с Красной площади уходили прямо на фронт, в подмосковные поля, где стоял враг.
С первого же курса Василий Маргелов начал выделяться из курсантской среды своим рвением к службе и природными качествами: жаждой к знаниям, легкостью их усвоения, высокими физическими данными. Со второго курса его назначили старшиной пулеметной роты. И тут сокурсники почувствовали в нем не только надежного товарища по боевой учебе, но и требовательного командира. За год он вывел роту в число лучших по физической и боевой подготовке, особенно хорошо она ходила на лыжах. Курсанты школы, а точнее, роты старшины Маргелова, неоднократно становились победителями городских лыжных кроссов и окружных соревнований.
Партийные поручения Маргелов выполнял с той же аккуратностью, и в 1929 году на партсобрании школы его перевели из кандидатов в действительные члены ВКП(б). Членство в партии большевиков тогда решало многое. Как говорят теперь, социальные лифты в годы строительства социализма работали безотказно во всех сферах народного хозяйства, в культуре и искусстве и в РККА тоже. Из самых глубин народа выбивались такие самородки, таланты и трудяги, что уже в молодые годы показывали высокие, а порой и великолепные результаты. Изобретатели, артисты, инженеры, рабочие, агрономы, спортсмены, летчики, полярники, геологи, красные командиры, строители, металлурги, врачи…
В самом начале 1931 года в Белорусской школе родилась инициатива: совершить лыжный пробег из района дислокации в Москву. Столицу оповестили заблаговременно, и она ждала команду минских воинов-спортсменов 23 февраля, к очередной годовщине Красной армии и, что особенно важно, к пятидесятилетнему юбилею наркома по военным и морским делам, председателя Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилова. В стране объявили всенародный сбор средств на дирижабль «Клим Ворошилов». Курсанты Белорусской военной школы готовили свой подарок к юбилею наркома и годовщине РККА.
Тогда это было модно: трудовые подвиги Алексея Стаханова, Паши Ангелиной, рекорды Валерия Чкалова. В те же годы курсант Ленинградских кавалерийских курсов усовершенствования командного состава Георгий Жуков со своими однокурсниками совершил тысячеверстный марш на лошадях, поставив своеобразный рекорд. Курсантам же Белорусской военной школы предстояло пройти 800 километров по лыжне и без лыжни.
Команду лыжников формировал старшина Маргелов. Отбирал строго, учитывал все качества — выносливость, умение подчиняться командам, способность сохранять чувство товарищества в любых обстоятельствах. Во время формирования группы произошел эпизод, о котором ему, бывшему курсантскому старшине, напомнят через десятилетия. Из всех кандидатов он отобрал девятерых. Команду возглавил командир курса Федорович. Из списка кандидатов, в чем-то усомнившись, Маргелов вычеркнул даже своего друга и однокурсника Ивана Якубовского. Уже занимая пост заместителя министра обороны СССР, Якубовский напомнит своему бывшему старшине:
— А помнишь, Василий Филиппович, как ты не взял меня в лыжную команду?
— Не жалей, Иван Игнатьевич, — ответил Маргелов. — Зато ты маршалом стал!
В лыжной команде тогда бежал и курсант Иван Лисов, впоследствии генерал-лейтенант и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками. Он вспоминал: «Тогда у нас не было спортивных лыж, хорошего крепления, одежды и обуви, хоть приблизительно похожих на нынешнее снаряжение спортсменов. Шли мы на армейских лыжах-досках, с плохим креплением, в сапогах, в буденовках.
Февраль был снежный и морозный. Шли мы вдоль железной дороги, по обочине. Был случай, когда курсанта Володю Котова, крепенького паренька небольшого росточка, порывом сильного ветра сорвало с насыпи под откос в глубокий снег и тут же занесло. Он шел в группе последним, и в пургу никто не заметил этой потери.
Уже прошли порядочно от места исчезновения курсанта, и Маргелов, пропуская мимо себя цепочку ребят, обнаружил “недостачу” в строю и, доложив курсовому командиру, старшему нашего перехода, тут же повернул всех назад на поиск “самовольщика”, оставившего без разрешения строй. Долго мы искали его в этой метельной круговерти, рассыпавшись по всей насыпи, и только случайно перед наступлением темноты по торчащей из сугроба лыже нашли его. Видимо, от усталости Володя нечаянно уснул, укрыв лицо подшлемником.
После этого случая Маргелов не шел по старшинству впереди за курсовым командиром, а по своей инициативе стал замыкающим. Больше до самой Москвы у нас не было отстающих. В столицу пришли без обмороженных или исхудавших, крепкими, загорелыми. Только лыжи наши превратились действительно в гладкие доски, даже продольные борозды стерлись до основания, но задачу мы свою выполнили, в Москву прибыли вовремя.
Мы не раз вспоминали с Василием Филипповичем этот далекий поход тридцатых годов и нашу курсантскую жизнь, отправляясь на лыжную прогулку, уже будучи в больших чинах и званиях».
В начале каждого дня перехода Маргелов намечал маршрут, вечером записывал количество пройденных километров. Дневная норма была 60 — 70 километров, а в последний день поставили рекорд — 104 километра!
Иван Лисов вел нечто вроде дневника, чтобы потом подготовить подробный отчет. Вот одна из записей перед финишем: «Участники лыжного пробега достигли Медыни! Все здоровы. 243-м полком и общественными организациями была организована торжественная встреча. Отлично проведен митинг. Переход совершается в полосе метелей и заносов, в среднем команда двигается по 60 км в сутки. В Юхнове проведен сбор средств на дирижабль “Клим Ворошилов”. Собрано 430 рублей. Прибытие в Москву 21 февраля в 4:00 часов».
Старшина Маргелов доложил наркому об успешном завершении 800-километрового лыжного пробега и от имени курсантов Объединенной Белорусской военной школы вручил растроганному маршалу рапорт. Нарком, восхищенный мужеством и высокой физической подготовкой белорусских лыжников, наградил всю команду памятными подарками. Маргелову вручил серебряные часы-луковицу, с которыми он не расставался все годы войны.
К оружию Маргелов всегда относился бережно, с любовью и заботой. Еще когда служил лесным обходчиком, получил казенную одностволку, изготовленную на Тульском оружейном заводе. Маргелов всегда содержал ее в чистоте, трущиеся части смазывал. Никогда у него не было ни единой осечки. Ему нравилось прикасаться к оружию. Запах смазки и деревянных частей бодрил, возбуждал. Нравилась та прочность, с которой была изготовлена винтовка системы Мосина, которую он получил в военной школе как личное оружие. Нравилось разбирать ее. Потом начали изучать пулемет системы «максим». Пулемет восхищал своей мощью и огневой силой, способностью в умелых руках и на правильно занятой позиции решить задачу целого взвода и роты, а в некоторых обстоятельствах и батальона.
В военной школе никто не мог сравниться со старшиной Маргеловым в умении владеть револьвером, винтовкой, пулеметом. Во время стрельб он неизменно демонстрировал наивысшие результаты, восхищая даже опытных инструкторов. Успехи его были поощрены: Маргелова зачислили в группу снайперов. Револьвером он владел виртуозно. И руководство военной школы это отметило особо, вручив ему личное оружие — пистолет ТК, «тульский Коровина». Как вспоминал один из сыновей генерала Маргелова, «этот маленький пистолет в начале 30-х годов очень любили командиры Красной армии, и отец, доставая свой ТК, неоднократно замечал восхищенные, а иногда и завистливые взгляды товарищей».
На втором курсе Маргелов женился — съездил в Костюковичи и привез Марию. Курсанты часто устраивали вечера отдыха, танцы. В праздники к ним приходили целыми курсами студентки минских вузов. Да и сами они бывали в подшефных коллективах. Ходили в увольнения. Знакомились. Заводили романы, которые часто перерастали в семьи. Были знакомые и у Василия, но сердце уже прильнуло к Марии. Подумал: учиться еще долго, уведут Марию костюковичские женихи. Впрочем, впоследствии так оно и случилось.
Началась другая жизнь. Надо было успевать и службу служить, и семью строить. Не так-то это просто…
Семьи с Марией у него не сложилось. Ее стала тяготить участь жены военного: постоянные переезды, неустроенность, долгое, порой по несколько суток, отсутствие мужа дома. Частые отлучки мужа стали раздражать — молодость проходит… Женщина есть женщина.
* * *
Весна 1931 года для выпускников Белорусской военной школы была радостной. Вчерашние курсанты переоделись в новенькие мундиры. В малиновых петлицах поблескивали кубики командиров РККА — лейтенантских званий тогда еще не было. Выпускникам школ присваивалась третья служебная категория с правом занимать должность командира взвода. Маргелов окончил курс «по первому разряду», то есть с отличием. Минский горисполком, проявляя материальную заботу о молодых кадрах РККА, приготовил выпускникам солидное «приданое»: матрац, подушку, одеяло, комплект постельного белья и пару добротных командирских хромовых сапог.
После окончания военной школы Василия Маргелова направили в 33-ю стрелковую дивизию командиром пулеметного взвода 99-го стрелкового полка. В короткий срок по всем показателям он вывел свой взвод в передовые: лыжные кроссы, физподготовка, стрельбы. Дни напролет он проводил со своими бойцами в учебных классах и на полигоне. Вскоре последовал перевод: «Назначить командиром взвода в полковую школу».
Полковые школы — великое детище Красной армии. Через них прошли многие командиры, будущие Герои Советского Союза, выдающиеся солдаты, специалисты — пулеметчики, минометчики, саперы, санитары, командиры отделений, взводов, рот, командиры расчетов и экипажей, механики-водители танков и самоходок. Полковые школы готовили специалистов самых массовых и ходовых армейских профессий для фронта в годы войны.
Шел 1932 год. В войсках начался массовый призыв бойцов, младших командиров и офицеров в Военно-воздушные силы. Отбирали наиболее грамотных, физически крепких, «способных к летно-подъемной работе». Возраст добровольцев ограничивался. Некоторые биографы Маргелова предполагают, что именно тогда, подавая рапорт о переводе в ВВС, он «помолодел» на целых два года.
В тот же год Маргелова зачислили в Оренбургскую школу летчиков и летнабов. Новую военную профессию он осваивал легко, азартно, и, видимо, вскоре Военно-воздушные силы РККА обрели бы еще одного талантливого военлета и лихого аса, но, как впоследствии пояснял сам Маргелов, «случилась неприятность».
Сидел он в учебном классе и чистил пистолет. Со своим именным ТК он не расставался. Вполголоса напевал популярную тогда в курсантской среде шуточную песенку о Буденном и Ворошилове на мотив «Песни о Конармии»:
Сидел бы ты, Буденный, на коне верхом,
Держался с Ворошиловым за хвост вдвоем.
Сидеть вам на кобыле,
Не летать на «Либерти».
Зануды вы, зануды, мать вашу ети…
Курсанты ему подпевали хором, посмеивались. Красная армия менялась, кавалерия уходила в прошлое, эскадроны пересаживались на колеса. На смену клинку пришло автоматическое оружие. Легендарных краскомов, героев Гражданской войны числили по разряду ретроградов. И это выплескивалось в том числе и в солдатский фольклор. Но, на беду певцов, в учебный класс тихо вошел комиссар. И как всякий бдительный комиссар, обязанный следить за чистотой нравов личного состава вверенного ему подразделения, зафиксировал проступок курсантов и дал делу ход.
Можно, конечно, и усомниться в правдивости легенды о песне — никаких подтверждений ей нет. Но как бы там ни было, спустя несколько дней Маргелов снова появился в Минске в родной военной школе, которая называлась уже Минским военно-пехотным училищем им. М. И. Калинина. Теперь училище расширилось и готовило кадры не только для Белорусского военного округа, но и для всей Красной армии.
В феврале 1934 года со взвода Маргелова перевели на должность помощника командира роты, в мае 1936 года назначили командиром 4-й пулеметной роты. Одновременно он исполнял обязанности политрука роты. Вот расписание занятий в училище той поры:
«Огневая подготовка
Темы: “Управление огнем” (3 часа). “Приборы управления огнем” (3 часа). “Внутренняя и внешняя баллистика” (3 часа).
Преподаватель: Маргелов.
Тактическая подготовка
Темы: “Пулеметный взвод в наступлении и обороне” (6 часов). “Взаимодействие со стрелковыми подразделениями” (6 часов).
Преподаватель: Маргелов.
Строевая подготовка
Тема: “Парадные строи”.
Старший лейтенант Маргелов.
Физическая подготовка
Темы: “Упражнение на гимнастических снарядах”. “Трамплин и лыжи”.
Преподаватель: Маргелов».
В училище часто приезжали военачальники, командующие армиями, командиры корпусов и дивизий Белорусского особого военного округа. Их лекции, беседы, встречи с курсантами и преподавателями были незабываемыми. Семен Константинович Тимошенко, Иван Степанович Конев, Константин Константинович Рокоссовский…
Трудолюбивому и добросовестному командиру работы всегда хватает. Занятия, подготовка, самоподготовка, аттестация, подготовка к аттестации.
Вот одна из аттестаций, которую старший лейтенант Маргелов, объективно оценивая все достоинства и недостатки, написал на своего непосредственного подчиненного старшего лейтенанта Ф. И. Вепринского: «Технически подготовлен хорошо. Дисциплинирован. Но недостаточно выдержан. Плохо разграничивает как командир отношения на службе и вне службы к подчиненным. На работе бывает недостаточно серьезен. Должности соответствует вполне. Желательно перевести в воинскую часть на должность помощника командира батальона».
В то же время сам Маргелов в это время получил следующую аттестацию: «Старший лейтенант Маргелов, командир пулеметной роты (Приказ НКО № 878 от 21. 05. 1936 г.), с должности помощника ком. роты, 1906 г. р., рабочий из крестьян, русский, закончил нормальную военную школу в 1931 году. Политически подготовлен хорошо. В партийной жизни активен. Парторг, член бюро. В училище с 1933 года. Военная подготовка хорошая. Энергичный, подвижный. Выдержанный и напористый в работе, растущий командир. Занимаемой должности вполне соответствует. Может быть выдвинут помощником комполка по строевой части».
Личная жизнь между тем пошла под откос. Женщина требует внимания — а что он мог дать своей Марии, когда день и ночь на службе? В какой-то момент ей показалось, что жизнь проходит мимо, что муж настолько одержим службой, что сделать жену счастливой не сможет. И она ушла. Сына оставила отцу. Немного погодя он отвез мальчика в Костюковичи. Родители были рады, что внук теперь будет жить с ними — Генка был копией отца. Когда случались выходные, Маргелов навещал сына. Теперь к родителям в Костюковичи он стал приезжать почаще.
* * *
Двадцать лет спустя, в 1957 году, уже генерал-лейтенант, командующий ВДВ Советской армии, Маргелов приехал в Белоруссию на войсковые учения. В учениях принимали участие его десантники. Когда случился свободный день, он поехал в ту деревню на Могилевщине, куда уехала от него Мария. Он знал, что там она вышла замуж, что у нее родилась дочь и что муж погиб на войне. Всё он знал о ней. Знал и свекра Марии, и тот знал его, лесного объездчика.
Когда встретились, старик не узнал его, но пригласил в дом, усадил за стол. Василий Филиппович достал выпивку, закуску. Старик, растроганный таким вниманием незнакомого генерала, поведал ему свою боль: сын его, командир Красной армии, майор, пропал без вести в самом начале войны, но раз без вести, то ему, старику, отказали в пенсии по потере кормильца, и живет он кое-как с невесткой и внучкой…
Вошла внучка. У генерала в глазах потемнело — так похожа она была на ту давнюю Марию, которую он когда-то любил и носил на руках.
Засиделся он со стариком за выпивкой да за разговорами о горьком деревенском житье-бытье допоздна. Хотелось дождаться Марию, посмотреть на нее. Дождался. Мария увидела генеральские погоны на плечах своего бывшего мужа, всплакнула.
Он смотрел на нее, молчал. Сердце дрожало, как когда-то в юности. Она постарела, от девического, давнего, и следа не осталось. Все куда-то ушло, будто той Марии, веселой красавицы, и не было вовсе. Деревенская жизнь трудная. Ничего не осталось, всё ушло, всё…
— Что ж ты о сыне не спросишь? — сказал он, преодолевая тяжесть.
— Так я же знаю, что он с тобой, — тихо произнесла она.
Он молча покачал головой. Больше они не виделись.
Генерал разыскал свидетелей, подтвердивших факт гибели мужа Марии, и ей со стариком-отцом вскоре начали выплачивать небольшую пенсию по потере кормильца.
* * *
С 1933 года по 1936-й в стране шла «генеральная уборка» в партийном хозяйстве — чистка партийных рядов. Это была грандиозная операция, масштабная, тотальная и бескомпромиссная. Летели и партбилеты, и портфели, и головы. В парторганизациях обменивали членские билеты, заменяя образец 1926 года на новый. Во время обмена большевики выявляли «карьеристов и шкурников», «потерявших большевистскую бдительность», всякого рода приспособленцев и изгоняли их из своих рядов. Некоторых действительных членов партии переводили в разряд кандидатов.
В Минском военно-пехотном училище эта кампания прошла спокойно, бескровно. На собраниях пошумели, нескольких курсантов перевели в кандидаты, на том и остановились. Но у заместителя секретаря партбюро училища произошла неприятность: то ли по небрежности, то ли умышленно при оформлении партбилета фамилию написали через «к» — Маркелов.
В 1938 году ему присвоили очередное воинское звание «капитан». В декабре он получил назначение в войска — командиром батальона в 8-ю стрелковую дивизию им. Ф. Э. Дзержинского. В приказах периода Финской кампании по 596-му полку 122-й стрелковой дивизии он значится капитаном Маркеловым.
Глава четвертая
«ЗИМНЯЯ ВОЙНА»
Финская кампания абсолютно не была похожа на польскую. Наши войска столкнулись с сильной армией, которая хорошо управлялась. Финский солдат, в отличие от польского, ни одной позиции не отдавал без боя. И относительная победа в советско-финляндской войне, по сути дела, не являлась таковой. Слишком большую она забрала цену: по одним данным, 95 348 человек убитыми, замерзшими, умершими от ран и пропавшими без вести, по другим — больше 120 тысяч. Но граница была отодвинута от Ленинграда с 18 до 150 километров. Заняты часть Лапландии, часть полуостровов и островов, имеющих важное стратегическое значение. Прорвана и захвачена линия Маннергейма — мощный укрепрайон, угрожавший второй столице с севера.
Жизнь и служба Василия Филипповича Маргелова начиная с 1939 года так и пойдет по самому стрежню событий, которые будет переживать страна, — с войны на войну.
Во время советско-финляндской войны он командовал разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии 9-й армии. Дивизией командовал комбриг П. С. Шевченко6. Командиром он был опытным, осторожным. Во время наступления дивизия активно действовала артиллерией и приданными ей танками. Поэтому больших потерь удалось избежать. В Северную Карелию 122-я стрелковая дивизия была переброшена из Брест-Литовска, где она дислоцировалась после Польского похода. Наступала в Лапландии на Салльском направлении. Сложность ее положения заключалась в том, что из-за чрезмерной растянутости фронта действовать ей пришлось с открытыми флангами, что создавало предпосылки для внезапного удара противника. Тем не менее именно 122-я стрелковая дивизия из всей 9-й армии, которую финны потрепали особенно сильно, к окончанию зимы вышла из боев с наименьшими потерями.
Перед наступлением в полках, батальонах и ротах зачитали приказ командующего войсками Ленинградского военного округа К. А. Мерецкова и члена Военного совета А. А. Жданова:
«Терпению советского народа и Красной армии пришел конец. Пора проучить зарвавшихся и обнаглевших политических картежников, бросивших наглый вызов советскому народу, и в корне уничтожить очаг антисоветских провокаций и угроз Ленинграду!
Товарищи красноармейцы, командиры, комиссары и политработники!
Выполняя священную волю Советского правительства и нашего великого народа, приказываю:
Войскам Ленинградского военного округа перейти границу, разгромить финские войска и раз и навсегда обеспечить безопасность северо-западных границ Советского Союза и города Ленинграда — колыбели пролетарской революции.
Мы идем в Финляндию не как завоеватели, а как друзья и освободители финского народа от гнета помещиков и капиталистов.
Мы идем не против финского народа, а против правительства, угнетающего финский народ и спровоцировавшего войну с СССР.
Мы уважаем свободу и независимость Финляндии, полученную финским народом в результате Октябрьской революции и победы Советской власти.
За эту независимость вместе с финским народом боролись русские во главе с Лениным и Сталиным.
За нашу любимую Родину! За великого Сталина! Вперед, сыны советского народа, воины Красной армии, на полное уничтожение врага!»
Капитан Маргелов шел со своими разведчиками в авангарде 596-го полка. Задача его батальона заключалась в следующем: вести разведку, при необходимости проникать в тыл противника, устраивать засады с целью взятия «языков» и нанесения врагу наибольшего урона, захватывать важные объекты, мосты, переправы, атаковать с тыла опорные пункты.
— Проникнуть в тыл противника было крайне сложно, — вспоминал Маргелов, — финны были превосходными солдатами.
В разведбат он собирал лыжников, подрывников, ворошиловских стрелков и спортсменов со всего полка. Были в его батальоне выпускники и студенты спортивных институтов страны, мастера спорта, лыжники-марафонцы. Так что с финнами, о которых говорят, что они рождаются с лыжами на ногах, они могли тягаться по меньшей мере на равных.
Батальон Маргелова лыжами и теплой одеждой обеспечили полностью, но дивизия нуждалась буквально во всем. Когда первые эшелоны прибыли на станцию Кандалакша, командующий 9-й армией комкор М. П. Духанов, осмотрев строй новоприбывших, одетых в буденовки, шинели и ботинки, невесело заметил:
— Это вам не по Белостоку дефилировать. Вы прибыли на север Карелии!
Все попытки переобмундировать личный состав прибывших и постоянно прибывающих из глубины страны дивизий окончились ничем. «По-зимнему» удалось только перековать лошадей.
В штаб Северо-Западного фронта поступила телефонограмма за подписью наркома Ворошилова и начальника Генерального штаба РККА Шапошникова: «На ухтинском и петрозаводском направлении… наступили морозы, достигшие 10 градусов. Какие меры приняты во всех армиях по сохранению бойцов от обмораживания, имеют ли бойцы на руках валенки и теплые вещи?» Из Москвы спрашивали то, что сами же не послали в войска вовремя. Проще говоря, прикрывали свои задницы, понимая, что на фронте наступает время поражений и катастроф и за это придется кому-то ответить головой. Что вскоре и произошло. В соседней дивизии расстреляли командира, комиссара и еще нескольких офицеров. Правда, расстреливали не за то, что солдаты шли в бой разутыми и раздетыми, а за оставление позиций, за малодушие и трусость.
Ходили слухи, что составы с зимней одеждой застряли где-то в тылу, что там же находятся и вагоны с лыжами. В 122-ю дивизию поступило лишь 2500 пар лыж, и ими был обеспечен лишь каждый пятый. В условиях финских снегов это хуже, чем одна винтовка на двоих, — остальным четверым угрожало либо замерзнуть, либо стать легкой добычей финских лыжников.
С первых же дней после пересечения советско-финляндской границы советское наступление начало натыкаться на упорное сопротивление финнов. Вначале тактика контрударов была чисто партизанской. Никакого открытого противостояния. Никакого позиционного боя. На колонну, с трудом продвигающуюся по глубокому снегу, с разных сторон одновременно налетают финские лыжники. Прицельный огонь в упор — чаще всего в таких операциях финские солдаты использовали автоматическое оружие, пулеметы или легкий и удобный в обращении пистолет-пулемет «Суоми». Барабанный магазин на 75 патронов, деревянный приклад с пистолетной ложей — точная копия нашего ППД. Колонну сразу охватывает паника. Пока командиры наводят порядок и организуют отпор, лыжников-диверсантов уже и след простыл. Лыжные следы уводят в лес. Преследовать поздно, да и бессмысленно. Простой красноармеец, призванный откуда-нибудь из-под Рязани или даже из Костромы, вряд ли сравнится с финским солдатом в умении ходить на лыжах, ориентироваться в лесу, преодолевать большие расстояния.
9-я армия наступление начала успешно. Неудачи начались потом, а в январе 1940 года произошла настоящая катастрофа. 44-я стрелковая дивизия была направлена для нанесения деблокирующего удара в район восточнее Суомусальми с целью вызволить из окружения 163-ю стрелковую дивизию. 122-я тем временем держала фронт прочно, активно действовала своими авангардами и не позволяла противнику проникнуть в свои тылы. Колонна 44-й дивизии выдвинулась по единственному маршрутному пути, растянулась на 30 километров. Финская разведка сразу же обнаружила забитую транспортом и войсками коммуникацию. Мгновенно отреагировали штабы противника. Колонну атаковали лыжные батальоны и отдельные группы, разорвав ее на части. Управление в полках было нарушено, началось хаотичное отступление, остальное доделала финская артиллерия.
Операцией по расчленению и последующему уничтожению колонны 44-й дивизии руководил полковник финской армии Ялмар Сииласвуо. Недавно в печати появился русский перевод его мемуаров. Вот как он описывал происходившее на дороге, которую атаковали его солдаты: «Паника окруженных все росла, у противника больше не было совместных и организованных действий, каждый пытался действовать самостоятельно, чтобы спасти свою жизнь. Лес был полон бегущими людьми. Бойцы бросали не только пушки и пулеметы, но и винтовки. Многие красноармейцы погибли, застигнутые бураном. Их тела нашли и захоронили весной, после схода снега. В полдень 7-го числа противник начал сдаваться, в основном это были раненые. Голодные и замерзшие люди выходили из землянок. Одно-единственное гнездо продолжало сопротивляться, на время его оставили в покое… Мы захватили немыслимо большое количество военных материалов, о которых наши части не могли мечтать даже во сне. Досталось нам все вполне исправное, пушки были новые, еще блестели… Трофеи составили 40 полевых и 29 противотанковых пушек, 27 танков, 6 бронеавтомобилей, 20 тракторов, 160 грузовых автомобилей, 32 полевые кухни, 600 лошадей».
К вечеру 7 января командир 44-й стрелковой дивизии Виноградов со своим штабом вышел из окружения. Отдельные группы выходили из «котла» еще несколько дней — голодные, обмороженные, злые. Они знали, что были брошены своими командирами на произвол судьбы в самый трудный час. По финским данным, в плен попало около 1300 человек. 44-я дивизия лишилась почти всего вооружения и боевой техники. По данным штаба 9-й армии, потери личного состава 44-й дивизии составили 70 процентов, а первоначальная ее численность была 17 500 человек. Каждый второй из вышедших был без винтовки, а это сурово каралось. Многие солдаты и командиры, вышедшие из окружения, прямым ходом попадали в руки НКВД.
Так закончилась одна из наступательных операций Северо-Западного фронта. По замыслу командования, две дивизии 9-й армии должны были соединиться для последующего стремительного броска к западной границе Финляндии.
Девятнадцатого января 1940 года вышел приказ Главного военного совета: «В боях 6—7 января на фронте 9-й армии в районе восточнее Суомусальми 44-я стрелковая дивизия, несмотря на свое техническое и численное превосходство, не оказала должного сопротивления противнику, позорно оставила на поле боя большую часть ручного оружия, ручные и станковые пулеметы, артиллерию, танки и в беспорядке отошла к границе. Основными причинами столь постыдного для 44-й стрелковой дивизии поражения были:
1. Трусость и позорно-предательское поведение командования дивизии в лице командира дивизии комбрига Виноградова, начальника политотдела дивизии полкового комиссара Пахоменко и начштаба дивизии полковника Волкова, которые вместо проявления командирской воли и энергии в руководстве частями и упорства в обороне, вместо того, чтобы принять меры к выводу частей, оружия и материальной части, подло бросили дивизию в самый ответственный период боя и первыми ушли в тыл, спасая свою шкуру.
2. Растерянность старшего и среднего начсостава частей дивизии, которые, забыв о долге командира перед Родиной и Армией, выпустили из рук управление своими частями и подразделениями и не организовали правильного отхода частей, не пытались спасти оружие, артиллерию, танки.
3. Отсутствие воинской дисциплины, слабая военная выучка и низкое воспитание бойцов, благодаря чему дивизия в своей массе, забыв свой долг перед Родиной, нарушила военную присягу, бросила на поле боя даже свое личное оружие — винтовки, ручные пулеметы — и отходила в панике, совершенно беззащитная.
Основные виновники этого позора понесли заслуженную кару советского закона. Военный трибунал 11 и 12 января рассмотрел дело Виноградова, Пахоменко и Волкова, признавших себя виновными в подлом шкурничестве, и приговорил их к расстрелу».
В тот же день комкор М. П. Духанов был отстранен от должности. Командующим армией назначили комкора В. И. Чуйкова.
Новый командарм выправлял положение железной рукой:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
т. ШАПОШНИКОВУ (для Ставки).
Докладываем: суд над бывшим командиром 44 сд ВИНОГРАДОВЫМ, начальником штаба ВОЛКОВЫМ и начполитотдела ПАХОМЕНКО состоялся 11 января в ВАЖЕНВАРА под открытым небом в присутствии личного состава дивизии. Обвиняемые признали себя виновными в совершенных преступлениях. Речи прокурора и общественного обвинителя были одобрены всеми присутствующими. Суд тянулся пятьдесят минут. Приговор к расстрелу был приведен в исполнение немедленно публично взводом красноармейцев. После приведения приговора в исполнение состоялось совещание начсостава, на котором намечена дальнейшая разъяснительная работа. Выявление всех предателей и трусов продолжается. В 44 сд работает комиссия Военсовета, на обязанности которой лежит детальное расследование всех причин и обстоятельств поражения 44 сд.
11 января ЧУЙКОВ, МЕХЛИС».
Мехлис был палачом, «черным вороном» Сталина. Когда он появлялся в войсках, у солдат и командиров кровь стыла в жилах. Каждая его командировка из Главного политического управления на фронт — это, как правило, карательная экспедиция. Виновные обычно определялись в Москве. На месте он «разбирался» коротко. Всё заканчивалось скорым судом под открытым небом, перед строем потрясенных бойцов и командиров.
Счастливая случайность, что в ледяные мяла «зимней войны» не попала 122-я стрелковая дивизия. Хотя направление, на котором действовала она, спокойным назвать было невозможно.
Из боевого донесения 596-го полка в штаб 122-й стрелковой дивизии: «Разведка ведется непрерывно. 2-й батальон выполняет особую задачу». Второй батальон 596-го полка — батальон капитана Маргелова. А если учесть личностные качества его командира и то обстоятельство, что этот батальон выполнял функции разведбата дивизии, то остается принимать, как военные принимают уставную норму, что подразделение капитана Маргелова постоянно выполняло особую задачу.
Однажды 122-я стрелковая дивизия едва не попала в засаду. Случилось это незадолго до трагедии с 44-й дивизией. Финны отрабатывали тактику боя на рассечение маршевых колонн, вытянутых в одну нитку, с последующим уничтожением разорванных групп по одной.
Дивизия продвигалась вперед по глубоким снегам. Колонны опасно вытянулись на многие километры. Чтобы избежать фланговых атак из леса финских лыжников, комбриг Шевченко постоянно отряжал в боковые охранения хорошо вооруженные группы. Они отгоняли финские отряды от коммуникации, связывали их боем, вызывали подкрепление и таким образом не позволяли противнику препятствовать продвижению полков вперед.
После захвата Алакуртти батальон капитана Маргелова снова выдвинулся вперед. Через несколько часов неподалеку от поселка Куолоярви передовое охранение вступило в бой. Комбат остановил движение рот.
Из передового охранения прибежал лыжник и доложил:
— Отряд завязал бой с группой финских лыжников, начал преследование, но вскоре на опушке леса заработали сразу несколько пулеметов. Отряд залег и окопался в снегу. Лейтенант Петров просил передать, что похоже на засаду. Впереди — укрепрайон. Пока нас перед ними мало, сил своих не обнаруживают.
— Потерь нет?
— Нет.
— Молодцы. Так и передай Петрову. Сейчас подойдет рота, проведем разведку боем. Вы наблюдайте. Пусть работают снайперы. Лейтенанту скажи, чтобы наметил пути отхода. Но главная ваша задача — наблюдать.
Маргелов поставил задачу командирам рот. Сам вместе с начальником штаба залег на высотке, заросшей кустарником, откуда хорошо просматривалась окрестность. Вот по красной ракете поднялись в атаку две роты. Третью он на всякий случай оставил в резерве — два взвода присматривали за тылами. Воевать с финнами — ухо держать вострò, иначе чуб состригут вместе с головой…
И — пошли закидывать «наступающих» минами из всех стволов. Не выдержали, поверили. Раза два пальнула полевая пушка.
— И правда, Василий Филиппович, у них тут все серьезно, — сказал начальник штаба, нанося на карту огневые точки противника. — Похоже на промежуточный укрепрайон.
— У них разведка не хуже нашей. И передвигаются они быстрее нас. Поджидают нашу колонну. Засада. Остановят и навалятся с флангов.
Он отдал приказ ротам отходить. Отошли без потерь. Во время разведки боем это — самое лучшее, что может быть после того, как на карту нанесены основные огневые точки и выявлена система огня противника.
Карта в штабе батальона капитана Маргелова необычная. Выданную в разведотделе штаба дивизии он сунул за голенище валенка и больше не вытаскивал. Пользовался туристической, найденной в Алакуртти — она оказалась более точной и очень подробной.
За спиной заскрипел снег, послышались голоса. Прислушался — свои. Сунул настывший на морозе маузер обратно в глубокую деревянную кобуру. Два сержанта из взвода лейтенанта Петрова вели финна. Пленный тоже передвигался на лыжах, но руки его были связаны за спиной, один из сержантов держал конец сыромятного ремешка в руке.
Финна тут же допросили. Догадки подтвердились: перед ними был укрепрайон.
Пленного вместе с донесением отправили в штаб полка.
Утром полк вышел на исходные и атаковал при поддержке артиллерии. Бой продолжался почти двое суток. Комбриг Шевченко провел перегруппировку, подвел гаубичный дивизион, а 273-й полк атаковал финскую оборону с фланга, где разведчики капитана Маргелова обнаружили слабо защищенный участок.