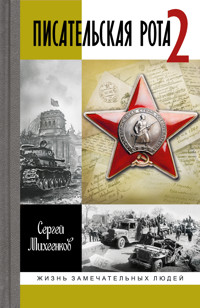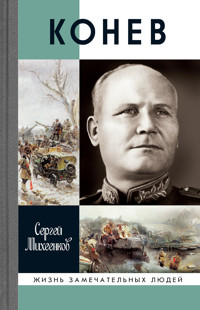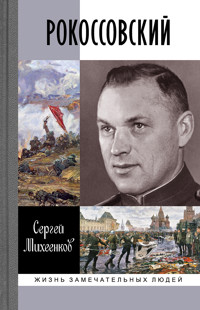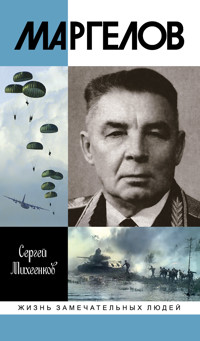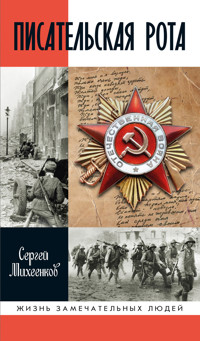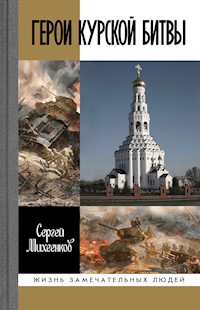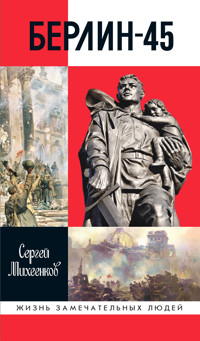
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molodaya Gvardiya Publishing House
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Жизнь замечательных людей
- Sprache: Russisch
Книга «Берлин-45» необычная. Дни и ночи последнего штурма показаны в ней через судьбы его участников — солдат и генералов, командиров корпусов и рядовых разведчиков, танкистов, пехотинцев. Некоторые герои книги прошли войну от западных границ Советского Союза до Москвы, а затем через Смоленщину, Белгородчину, Донбасс, Белоруссию и Польшу до Берлина. Судьбы героев показаны на фоне сложного времени. Автор вводит в оборот многие малоизвестные и неизвестные широкому читателю документы, которые во многом по-новому позволяют взглянуть на нашу историю, загромождённую в прежние годы завалами идеологем, мифов и откровенной лжи. Среди героев — генерал Иван Рослый, танкист полковник Амазасп Бабаджанян, разведчик Григорий Булатов, гвардии певица Лидия Русланова, которая в мае сорок пятого дала свой знаменитый победный концерт на ступеньках поверженного Рейхстага. Впервые развёрнуто показана картина тыла и обеспечения войск 1-го Белорусского фронта — через судьбу генерала Н. А. Антипенко, талантливого организатора и бесстрашного воина
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Сергей Михеенков
БЕРЛИН - 45
МОСКВАМОЛОДАЯ ГВАРДИЯ2023
Информацияот издательства
Автор выражает сердечную благодарность всем, кто помогал и сочувствовал ему в период работы над рукописью, в том числе: Каро Саргсяну (г. Москва); Николаю Яшкину (с. Жерелёво Калужской области); Владимиру Перепечёнову (г. Казань); Аркадию Елфимову (г. Тобольск); Юлии Маркос (г. Москва); Ларисе Бабаджанян (г. Москва); Ирине Тюленевой (г. Пермь); Анатолию Войтенко (г. Екатеринбург).
Михеенков С. Е.
Берлин-45 / Сергей Михеенков. — М.: Молодая гвардия, 2018. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1761)
ISBN 978-5-235-04774-7
Книга «Берлин-45» необычная. Дни и ночи последнего штурма показаны в ней через судьбы его участников — солдат и генералов, командиров корпусов и рядовых разведчиков, танкистов, пехотинцев. Некоторые герои книги прошли войну от западных границ Советского Союза до Москвы, а затем через Смоленщину, Белгородчину, Донбасс, Белоруссию и Польшу до Берлина. Судьбы героев показаны на фоне сложного времени. Автор вводит в оборот многие малоизвестные и неизвестные широкому читателю документы, которые во многом по-новому позволяют взглянуть на нашу историю, загромождённую в прежние годы завалами идеологем, мифов и откровенной лжи. Среди героев — генерал Иван Рослый, танкист полковник Амазасп Бабаджанян, разведчик Григорий Булатов, гвардии певица Лидия Русланова, которая в мае сорок пятого дала свой знаменитый победный концерт на ступеньках поверженного Рейхстага. Впервые развёрнуто показана картина тыла и обеспечения войск 1-го Белорусского фронта — через судьбу генерала Н. А. Антипенко, талантливого организатора и бесстрашного воина.
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
16+
© Михеенков С. Е., 2018
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2018
До весны 1945 года русские войска брали Берлин дважды.
В первый раз — во время Семилетней войны в августе 1759 года.
Второй раз — во время освобождения Германии от войск Наполеона Бонапарта в 1814 году.
И вот пришёл срок взять его в третий раз.
После окончания Ялтинской конференции, когда было ещё не совсем ясно, кто будет брать Берлин, прощаясь с дядюшкой Джо, Черчилль и Рузвельт в один голос сказали:
— До свидания. До встречи в Берлине.
— Милости просим, — ответил Сталин.
ДРАКА ПРЕДСТОИТ СЕРЬЁЗНАЯ…
Лишь нескольким сражениям суждено будет стать символами войны, и среди них обязательно будет битва за вражескую столицу.
Алексей Исаев. Битва за Берлин
Берлинская наступательная операция, проведённая Красной армией в апреле–мае 1945 года, стала апофеозом Великой Отечественной войны. Взятие советскими войсками Берлина, гибель и пленение военной и политической верхушки Третьего рейха поставили точку в войне на Европейском театре военных действий. Решение японской проблемы было лишь делом времени: по расчётам штабов, полутора–двух месяцев. Так оно и вышло.
Войска, занимавшие центральный участок советского фронта, сделав необходимую перегруппировку и накопив достаточное количество сил и средств, бросились в последнюю атаку.
Прологом последнего штурма были сражения зимы 1944/45 года. В том числе и на Западном фронте, где наступали войска западных союзников по Антигитлеровской коалиции.
Маршал Г. К. Жуков ещё в ноябре 1944 года, когда его армии стояли на Висле, отдал распоряжение штабу фронта приступить к предварительной разработке плана взятия Берлина. В феврале 1945-го армии 1-го Белорусского фронта получили директивы на последний удар, но затем последовали распоряжения, отменяющие удар вглубь Германии, в направлении на Берлин. В результате удачно проведённой Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов взломали оборону противника и продвинулись по немецкой территории до Одера, захватив на некоторых участках выгодные плацдармы. Однако немецкому командованию удалось быстро восстановить линию фронта на новых рубежах и одновременно значительно усилить группу армий «Висла». К тому же войска двух советских фронтов и без того слишком далеко выдвинулись вперёд. Реальная опасность фланговых ударов под основания глубокого вклинения из районов Восточной Померании с севера и Силезии на юге заставила советское командование приостановить наступление на центральном участке фронта и, прежде чем идти на штурм Берлина, разобраться с сильными группировками противника на флангах.
Маршалы И. С. Конев и Г. К. Жуков вынуждены были развернуть свои линии на юг и на север. Им было предписано нанести удары по немецким фланговым группировкам, покончить с ними, а уже затем начать беспрепятственно двигаться вглубь Германии, к ее сердцу.
Основу ударных группировок обеих фронтов составляли танковые армии. Они-то и понесли главные потери. Висло-Одерская, Восточно-Померанская, Верхне-Силезская и Нижне-Силезская наступательные операции увенчались успехом. Они не просто приблизили Победу, они обеспечили её. Но без восстановления потерь в боевой технике, ремонта вышедших из строя машин, пополнения экипажами маневр в направлении Берлина был невозможен. Войска фронтов на какое-то время, необходимое для перегруппировки и приведения себя в порядок, остановились на рубеже рек Одера и Нейсе.
Тем временем после неудачи немецкого наступления в Арденнах активизировались союзники. 1 апреля 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль написал американскому президенту Франклину Рузвельту: «Русские армии на юге, судя по всему, наверняка войдут в Вену и захватят всю Австрию. Если мы преднамеренно оставим им и Берлин, хотя он и будет в пределах нашей досягаемости, то эти два события могут усилить их убеждённость, которая уже очевидна, в том, что всё сделали они. Поэтому моё мнение таково, что с политической точки зрения мы должны вклиниться в Восточную Германию настолько глубоко, насколько это возможно, и, разумеется, захватить Берлин, если он окажется в зоне досягаемости»1.
Говорят, содержание письма, посланного с одного континента на другой, благодаря усилиям советской разведки тут же стало известно «дядюшке Джо»2, и он немедленно отреагировал.
Во-первых, войска фронтов Центрального направления начали готовиться к решающему броску на Берлин.
Во-вторых, следом за письмом Черчилля в Белый дом полетело послание Сталина. На первый взгляд совершенно по другому поводу. Но тема была всё та же.
Лично, строго секретно.
От маршала И. В. Сталина президенту господину Рузвельту.
Отправлено 3 апреля 1945 г.
Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне […]
Вы утверждаете, что никаких переговоров не было ещё. Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были, и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев условия перемирия.
Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей Советского командования для участия в переговорах с немцами […]
Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться вглубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников — русских?
И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией — с союзницей Англии и США.
Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами.
Тем временем армии, действовавшие на Центральном направлении, расширили Кюстринский плацдарм (1-й Белорусский фронт) и вели успешное наступление в Силезии (1-й Украинский фронт). Одновременно войска проводили перегруппировку, накапливали ресурс, принимали пополнение.
В создавшихся обстоятельствах, при том, что планы союзников относительно Берлина были неясны и двусмысленны одновременно, и с военной точки зрения, и с политической затягивать с Берлинской операцией было нельзя.
Г. К. Жуков вспоминал: «29 марта по вызову Ставки я вновь прибыл в Москву, имея при себе план 1-го Белорусского фронта по Берлинской операции. Этот план отрабатывался в течение марта штабом и командованием фронта, все принципиальные вопросы в основном заранее согласовывались с Генштабом и Ставкой. Это дало нам возможность представить на решение Верховного Главнокомандования детально разработанный план.
Поздно вечером того же дня И. В. Сталин вызвал меня к себе в кремлёвский кабинет. Он был один. Только что закончилось совещание с членами Государственного Комитета Обороны.
Молча протянув руку, он, как всегда, будто продолжая недавно прерванный разговор, сказал:
— Немецкий фронт на западе окончательно рухнул, и, видимо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить продвижение союзных войск. Между тем на всех важнейших направлениях против нас они усиливают свои группировки. Вот карта, смотрите последние данные о немецких войсках.
Раскурив трубку, Верховный продолжал:
— Думаю, что драка предстоит серьёзная…
Потом он спросил, как я расцениваю противника на берлинском направлении»3.
Сталин опасался глубокого прорыва союзников и, в сложившихся обстоятельствах, беспрепятственного их марша на Берлин через Эльбу. Вот почему к операции были неожиданно привлечены также подвижные силы 1-го Украинского фронта и даже часть левого фланга 2-го Белорусского фронта маршала К. К. Рокоссовского. По первоначальному замыслу армиям И. С. Конева и К. К. Рокоссовского отводились блокирующие функции. А 1-й Белорусский должен был совершить маневр на Берлин в обход многополосной линии обороны на Зееловских высотах. Но потом планы пришлось менять. Новый план штурма предполагал некоторые преимущества, но одновременно усложнял задачи армий маршала Г. К. Жукова, направляя их удар через эшелонированную оборону Зееловских высот. Директива Ставки ВГК № 11059 командующему 1-м Белорусским фронтом предписывала: «Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер западнее Кюстрина силами четырёх общевойсковых армий и двух танковых армий». И ещё: «Танковые армии ввести на направлении главного удара после прорыва обороны для развития успеха в обход Берлина с севера и северо-востока». А это был уже марш-маневр, который блокировал возможность проникновения союзников в район Берлина с северо-запада и запада.
В этих обстоятельствах перед маршалом Г. К. Жуковым вставала, пожалуй, самая трудная задача за всю войну. Ставка, по сути дела, изымала танковые армии, обрекая ударную группировку 1-го Белорусского фронта на медленное прогрызание немецкой обороны, что, конечно же, грозило максимальным расходованием собственных ресурсов. Что вскоре и произошло. При этом невозможно было избежать и ещё одной серьёзной опасности: противник под давлением атакующих войск 1-го Белорусского фронта будет отходить на запасные позиции и в конце концов окажется в городских кварталах, за полутораметровыми стенами зданий, в подвалах и полуподвалах, в бетонных ДОТах, откуда его придётся выковыривать, как говорят, штучно, тяжёлой артиллерией или сапёрным подразделениям. А это — время, сверхусилия и новые потери в личном составе. Чтобы не допустить отхода в Берлин 9-й армии генерала пехоты Т. Буссе, Г. К. Жуков запланировал, в частности, удар левофланговых 69-й и 33-й армий в направлении Бонсдорфа.
С Кюстринского плацдарма наступающим войскам Г. К. Жукова предстояло с боями пройти, проползти, пробежать, преодолеть на броне танков и самоходок шестьдесят километров по пересечённой местности, изобилующей каналами, реками и исхлёстанной линиями окопов и траншей, занятых изготовившимися к обороне войсками.
Перед самым началом штурма Г. К. Жукову всё же удалось переубедить Сталина и оставить за собой одну танковую армию, так как изъятие из ударной группировки обеих танковых армий слишком рискованно. 1-ю гвардейскую танковую армию генерал-полковника танковых войск М. Е. Катукова комфронта предложил поставить в затылок дивизиям 8-й гвардейской армии генерал-полковника В. И. Чуйкова.
«Выслушав мои доводы, — вспоминал Г. К. Жуков, — И. В. Сталин сказал:
— Действуйте, как считаете нужным, вам на месте виднее».
Основной удар с Кюстринского плацдарма Г. К. Жуков решил нанести силами 5-й ударной, 8-й гвардейской и двумя гвардейскими танковыми армиями — 1-й и 2-й.
Так вскоре и произошло. Правда, танковые армии по первоначальному замыслу решено было вводить примерно на полпути к Берлину, чтобы нарастить удар общевойсковых армий, ввести в пробитые бреши бронетанковые мобильные соединения. Этот тактический приём был уже отработан в ходе предыдущих операций. Но всё пойдёт не так.
Войска левофлангового 1-го Украинского фронта наступали с юга. В директиве Ставки войскам маршала И. С. Конева предписывалось «разгромить группировку противника […] южнее Берлина». В своих мемуарах И. С. Конев после войны писал: «Обрыв разграничительной линии у Люббена как бы намекал, наталкивал на инициативный характер действий вблизи Берлина. Да и как могло быть иначе? Наступая, по существу, вдоль южной окраины Берлина, заведомо оставлять его у себя нетронутым справа на фланге, да ещё в обстановке, когда неизвестно наперёд, как всё сложится в дальнейшем, казалось странным и непонятным. Решение же быть готовым к такому удару представлялось ясным, понятным и само собой разумеющимся».
Уже 8 апреля И. С. Конев директивой войскам фронта № 00211 дал отмашку командующему 3-й гвардейской танковой армией П. С. Рыбалко: «Иметь в виду усиленным танковым корпусом со стрелковой дивизией 3-й гвардейской армии атаковать Берлин с юга».
Основу обороны подступов к Берлину и самого города составлял Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж и непосредственно Берлинский оборонительный район. Основу главной оборонительной линии составляли до пяти (в зависимости от участка) сплошных полос окоп, первая из которых проходила по восточным берегам рек Одер и Нейсе. За ней начиналась вторая линия, опиравшаяся на Зееловские высоты. Высоты закрывали Кюстринский плацдарм и непосредственно Берлинское направление. Именно Зееловские высоты были наиболее насыщены инженерными сооружениями, тяжёлым вооружением и защищались надёжными частями и соединениями. В этом оборонительном районе были развернуты четырнадцать дивизий противника. Накануне советского наступления их численный состав был доведён до штатного.
За высотами была возведена следующая полоса обороны.
Атака началась в 5.00 по московскому времени за два часа до рассвета. На участке 1-го Белорусского фронта немецкую оборону обрабатывали 9000 орудий и миномётов и 1500 «Катюш». Артиллерийское наступление проводилось на отрезке в 27 километров — там, где планировалось осуществить основной прорыв.
Что касается «прожекторной атаки», то её эффективность и непосредственными участниками тех событий, и историками оценивается как сомнительная. Тем не менее на отдельных участках уцелевшие пулемётные и противотанковые расчёты были ослеплены мощным светом прожекторов и не могли вести точного огня.
Первые часы наступление развивалось успешно. Авангарды ударной группы вышли к траншеям второй полосы обороны. И тут они столкнулись с ожесточённым сопротивлением. Стрелковые соединения не смогли преодолеть мощных инженерных сооружений Зееловских высот, плотно набитых огневыми средствами. Пехота залегла. Продвижение застопорилось. Успех операции оказался под угрозой. Чтобы сдвинуть войска с места, маршалу Г. К. Жукову пришлось срочно вводить в дело 1-ю и 2-ю гвардейские танковые армии. Противник отреагировал, бросив в бой на этом участке оперативные резервы группы армий «Висла». Только к утру 18 апреля, то есть на третьи сутки наступления войска 1-го Белорусского фронта овладели Зееловскими высотами. А к исходу 19 апреля была прорвана и третья линия обороны противника.
Двадцатого апреля артиллерия 3-й ударной армии нанесла мощный удар по Берлину. А на следующий день, 21 апреля авангарды 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армий завязали бои на окраинах вражеской столицы.
К исходу дня 21 апреля, совершив многокилометровый марш-маневр с левого фланга 1-го Украинского фронта на правый, на южные окраины города вышли танки генерал-полковника П. С. Рыбалко.
В последующие дни битва за Берлин носила особенно ожесточенный характер.
К 23 апреля наибольшего успеха добился 9-й стрелковый корпус генерал-майора И. П. Рослого. Части корпуса, действуя в авангарде 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Н. Э. Берзарина, ворвались в Карлсхорст и Кёпеник. К 24 апреля темп наступления группировки 1-го Белорусского фронта снизился, однако остановить атакующих было уже нельзя. Перед ними лежал центр Берлина.
Тем временем на вспомогательном направлении наступали 61-я армия и 1-я армия Войска Польского. Эта группировка атаковала на правом крыле фронта маршала Г. К. Жукова на участке, первоначально предназначенном для наступления танковых армий. Они охватывали Берлин с севера и продвигались к Эльбе.
Битва за Берлин рушила многие планы. Отмотаем ленту событий немного назад. Неожиданно первый значительный успех наметился на участке 1-го Украинского фронта. Атака началась ранним утром 16 апреля сорокаминутным артиллерийским наступлением. Артиллерия перенесла огонь с переднего края в глубину немецкой обороны, а тем временем передовые усиленные батальоны уже приступили к форсированию реки Нейсе. Под прикрытием дымовой завесы за короткий промежуток времени были оборудованы 133 переправы и поток войск хлынул на западный берег. Немцы, видя угрозу прорыва, бросили в бой не только оперативные, но и тактические резервы с целью сбросить авангарды маршала И. С. Конева в Нейсе. Но было уже поздно.
Утром 17 апреля танковые армии генералов П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко были уже на западном берегу и развивали удар на северо-запад в направлении Берлина.
Авиация обеих фронтов работала непосредственно по переднему краю обороны противника и в её глубине. Уничтожались огневые точки на пути продвижения наступающих войск, инженерные сооружения, скопление резервов, склады и транспортные колонны.
Войска 1-го Украинского фронта действовали на двух направлениях, главном и второстепенном. По узкому коридору, пробитому 13-й, 3-й и 5-й гвардейскими армиями, И. С. Конев гнал вперёд свои подвижные силы — 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии. К исходу второго дня атаки танки подошли к Шпрее и начали форсирование реки.
На второстепенном, Дрезденском направлении, которое по первоначальному плану было основным, успешно наступали части 52-й армии генерал-полковника К. А. Коротеева и 2-й армии Войска Польского генерал-полковника К. К. Сверчевского.
Успех войск И. С. Конева подтолкнул Ставку к неожиданному решению: повернуть танковые армии 1-го Украинского фронта на Берлин. Комфронта тут же направил П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко приказ: «На главном направлении танковым кулаком смелее и решительнее пробиваться вперёд. Города и крупные населённые пункты обходить и не ввязываться в затяжные фронтальные бои. Требую твёрдо понять, что успех танковых армий зависит от смелого маневра и стремительности в действиях».
Танковые генералы поняли замысел своего маршала. Темп движения танковых потоков 1-го Украинского фронта к Берлину составлял 35–50 километров в сутки.
Тем временем общевойсковые армии блокировали сильные группировки противника в районе Котбуса и Шпремберга.
К исходу 20 апреля войска маршала И. С. Конева рассекли немецкую оборону. Немецкие группы армий «Висла» и «Центр» уже не составляли цельного фронта и единой силы. Германское командование бросало под гусеницы советских танковых армий свои последние резервы. Но тщетно! На рассвете 22 апреля корпуса 3-й гвардейской танковой армии форсировали канал Нотте, с ходу прорвали внешний оборонительный обвод Берлина и к исходу дня заняли оборону на южном берегу канала Тельтов.
В этот день, 22 апреля, немецкое командование предприняло последнюю серьёзную попытку повлиять на ход сражения. В ставке А. Гитлера было принято решение снять с Западного фронта 12-ю армию В. Венка и деблокировать 9-ю армию Т. Буссе.
События ближайших дней развивались следующим образом.
Весь день 23 апреля войска маршала И. С. Конева проводили перегруппировку и стягивали к мощной обороне противника по линии Тельтов-канала артиллерию большой мощности. Противоположный северный берег нависал над водой отвесной стеной. С ходу не перепрыгнешь. По берегу и в глубину — траншеи, железобетонные ДОТы, окопанные танки и самоходки, противотанковые орудия для стрельбы прямой наводкой. По обрезу канала — плотная застройка домов со стенами толщиной от метра и более. В полосе действий 6-го гвардейского танкового корпуса плотность бронетехники была доведена до 650 стволов на километр фронта. Тяжёлые снаряды разносили двухметровые стены зданий в пыль. После артподготовки генерал-майор танковых войск В. А. Митрофанов успешно переправил свой 6-й гвардейский танковый корпус на северный берег.
Группа армий «Центр» ещё 20 апреля начала контратаковать советские войска. 23 апреля последовал мощный контрудар в стык 52-й армии и 2-й армии Войска Польского, в результате которого боевые порядки на левом фланге 1-го Украинского фронта были смяты, ударные части немецких войск продвинулись в глубину, угрожая тылам наступающих.
В полдень 25 апреля западнее Берлина авангарды 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта встретились с ударными группами 47-й армии 1-го Белорусского фронта.
В тот же день часть сил 4-й гвардейской танковой армии совместно с 13-й общевойсковой армией отбивали попытку 12-й армии В. Венка прорваться в Берлин. 3-я гвардейская и часть сил 28-й армии зажали в кольцо и кромсали 9-ю армию Т. Буссе.
Задачи 2-го Белорусского фронта в Берлинской наступательной операции состояли в следующем.
Первое. Нанести рассекающий удар севернее Берлина и тем самым обеспечить правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможного воздействия противника с севера.
Второе. Прижать к морю немецкую группировку, находящуюся севернее Берлина и уничтожить её.
Задача морякам Днепровской военной флотилии: бригады речных кораблей должны содействовать частям 5-й ударной и 8-й гвардейской армий в переправе через Одер. Кроме действий на переправах, моряки обеспечивали противоминную оборону водных транспортных путей.
Корабли Краснознамённого Балтийского флота действовали совместно с войсками маршала К. К. Рокоссовского, блокируя с моря войска немецкой группы армий «Курляндия».
Кольцо вокруг Берлина замкнулось в полдень 25 апреля. 6-й гвардейский механизированный корпус 4-й гвардейской танковой армии соединился с авангардом 47-й армии генерал-лейтенанта Ф. И. Перхоровича.
По оценке советской разведки, гарнизон Берлина насчитывал более 200 тысяч солдат, офицеров и бойцов фольксштурма при трех тысячах орудий и 250 танках.
Каждый дом был превращён в крепость. Каждая улица — в цитадель. Подземелья служили коммуникациями, по которым перебрасывались резервы и боеприпасы.
В этот же день самолёты 16-й воздушной армии генерал-полковника авиации С. И. Руденко нанесли два массированных удара по центру Берлина. Первая волна — 899 самолётов, вторая — 590. Проведено 27 воздушных боёв, сбито 20 немецких истребителей FW-190. Из них 13 сбито в районе Берлина.
Корпус генерал-майора И. П. Рослого по-прежнему двигался в первом эшелоне 5-й ударной армии. Его дивизии продолжали наступление вдоль западного берега реки Шпрее. В тот же день 25 апреля части 8-й гвардейской армии генерал-полковника В. И. Чуйкова захватили переправу через Ландвер-канал — целёхонький мост, который немцы заминировали, но взорвать не успели. Его тут же разминировали и пустили танки и артиллерию. Одновременно 11-й гвардейский танковый корпус полковника А. Х. Бабаджаняна овладел исправной переправой через Ландвер-канал и сразу же ею воспользовался — танки и самоходки пошли вперёд.
Во второй половине дня всё того же 25 апреля случилась неувязка в полосе действий 3-й гвардейской танковой армии. Бомбардировочная авиация 1-го Белорусского фронта с больших высот, возможно из-за создавшейся тесноты, отбомбила боевые порядки наступающих войск 1-го Украинского фронта. Убито и ранено только в 3-й гвардейской танковой армии до ста человек. Потери понесла также 4-я гвардейская танковая армия Д. Д. Лелюшенко.
Командующие фронтами были в бешенстве. Говорят, дело дошло до столкновения, и не только сильных характеров. Правда, достоверных сведений об этом нет. Однако, когда речь заходит о штурме Берлина, «знатоки» непременно упомянут и о схватке маршалов. Что ж, если даже такой эпизод в истории сражения за Берлин и, как говорят, имел место, то это легко объяснимо.
Следующий день, 26 апреля, выдался трудным на всех участках советской атаки и немецкой обороны.
Дивизии 3-й ударной армии подошли к Фербиндунгс-каналу, где встретили яростное сопротивление. 150-я стрелковая дивизия после артподготовки попыталась переправиться на противоположный берег, но под шквальным огнём отошла. 171-я стрелковая дивизия одним полком захватила небольшой плацдарм на другом берегу, но вскоре, атакованная танками и пехотой противника, вынуждена была оставить его.
Наступавшая юго-восточнее 8-я гвардейская армия В. И. Чуйкова и позиции 1-й гвардейской танковой армии в этот день были контратакованы в районе аэропорта Темпельхоф танками дивизии «Мюнхеберг». Аэродром необходим был для обеспечения гарнизона грузами. Немцы пытались его отбить. Но атака была пресечена в самом её начале. Как только танки «Мюнхеберга» вышли на рубеж атаки, большая их часть тут же была поражена противотанковой артиллерией и огнём танков генерала М. Е. Катукова. Советские артиллеристы и танкисты напомнили немцам, что это не сорок первый год, и даже не сорок третий, когда их «Пантеры» и «Тигры» казались неуязвимыми.
В этот день снова успешно наступал 9-й стрелковый корпус.
Окончательно определилась тактика наших наступающих войск. В уличных боях среди плотной застройки, частично разрушенной авиацией и артиллерией, наилучшим образом себя проявили небольшие по численности штурмовые группы: до взвода мотопехоты, отделение сапёров, два-три орудия, в том числе одно противотанковое, самоходка и танк.
Из Хальбского «котла», где были блокированы основные силы 9-й армии Т. Буссе, 26 апреля смогла вырваться часть войск. Прохудившийся «котёл» маршал И. С. Конев тут же «заклепал» тремя дивизиями 28-й армии и 63-й танковой бригадой 4-й гвардейской танковой армии.
Весь день 27 апреля был отмечен упорными боями, в ходе которых наши штурмовые группы и 2-й эшелон буквально прогрызали сплошную оборону противника. Борьба шла за каждый дом. Фаустников и засевших в развалинах и полуподвальных помещениях домов приходилось выковыривать огнём артиллерии, выжигать огнемётами.
К полудню следующего дня, 28 апреля, штурмовые группы 3-й ударной армии в бинокли сквозь дым и рыжую кирпичную пыль увидели местами обрушившийся купол над зданием Рейхстага.
А к исходу 29 апреля батальоны капитана С. А. Неустроева и старшего лейтенанта К. Я. Самсонова овладели зданием Имперского министерства внутренних дел на Доротеенштрассе, 93. Следующим на очереди был Рейхстаг.
На этот день командование 1-го Белорусского фронта назначило общий штурм. Вначале была проведена тридцатиминутная артподготовка, затем войска пошли в атаку.
Атаку 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии поддерживала 9-я танковая бригада 9-го танкового корпуса. Главной пробивной силой броневой поддержки пехоты был полк тяжёлых самоходок ИСУ-152. Именно этой группировке суждено было атаковать Рейхстаг, хотя по плану комфронта эта роль принадлежала другому соединению.
Начальник Генерального штаба германских сухопутных войск генерал пехоты Г. Кребс встретился с командующим 8-й гвардейской армией генерал-полковником В. И. Чуйковым и передал ему письменное обращение остававшихся в Имперской канцелярии Г. Геббельса и М. Бормана о том, что А. Гитлер покончил с собой, власть передана К. Дёницу (рейхспрезидент), М. Борману (министр партии) и ему, Г. Геббельсу (рейхсканцлер), что он, Геббельс, «уполномочен Борманом установить связь с вождём советского народа». Командующий армией выслушал Кребса и, как солдат солдату, заявил, что «не уполномочен вести какие-либо переговоры с германским правительством и речь может идти только о безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона». Чуйков связался по телефону со штабом фронта. Жуков задал Кребсу два вопроса:
1. Где находится труп Гитлера?
2. Обратилось ли одновременно германское правительство с аналогичной просьбой к командованию англо-американских войск?
Кребс ответил, что труп Гитлера сожжён и что с командованием англо-американских войск у них связи нет.
Для дальнейших переговоров в штаб Чуйкова прибыл заместитель командующего войсками 1-го Белорусского фронта генерал армии В. Д. Соколовский. Была сделана попытка связаться с Геббельсом для переговоров по поводу капитуляции Берлинского гарнизона. Однако немецкая сторона предложение штаба 1-го Белорусского фронта о капитуляции не приняла. Двусторонняя связь прервалась. Атаки возобновились с прежней яростью.
30 апреля бой шёл уже в здании Рейхстага. Над зданием разведчики 674-го стрелкового полка подняли штурмовой красный флаг — Знамя Победы. Бои в здании продолжались.
В этот день гвардейцы Катукова вели штурм Зоологического сада. 2-я гвардейская танковая армия плечом к плечу с 1-й польской дивизией сражалась в районе Тиргартена.
1 мая бой в здании Рейхстага продолжался.
В этот день застрелился генерал пехоты Г. Кребс и многие другие офицеры разгромленного вермахта.
Потери Красной армии в Берлинской операции за этот день составили: 254 человека убитыми и 893 ранеными.
2 мая Берлинский гарнизон капитулировал.
Всё. Дело было сделано.
БРОСОК «ЧЁРНОЙ ПАНТЕРЫ»
Амазасп Хачатурович Бабаджанян, гвардии полковник, командир 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта
1
Десятилетия спустя, уже став главным маршалом бронетанковых войск Советской армии, Амазасп Хачатурович Бабаджанян в одной из книг своих воспоминаний4 написал: «Победителей судят. Судят дважды: современники — однополчане тех, кто полёг; история, которая в назидание тем, для которых цель оправдывает средства, сохранила воспоминания о пирровой победе. Но первый суд, суд однополчан, может быть, самый суровый, ибо он требует ответа за человеческие жизни. Тот, кому они доверены, имеет право рисковать и жертвовать ими гораздо меньше, чем своей собственной. И потому обязан всегда, и при всех обстоятельствах, и во имя любой цели руководствоваться единственной мыслью: а всё ли я сделал, чтобы избежать этих жертв?»
Выживших в той войне, уцелевших в жестоких боях, победивших и вернувшихся на родную землю, к своим семьям и очагам, не оставляли видения пережитого, зачастую усугублённые искажённым сознанием вследствие перенесённых контузий и тяжёлых ранений. Последние зачастую меняли не только сознание, но и судьбы. И в памяти всегда жили образы погибших товарищей. Казалось, живые простились с мёртвыми. Простились, по точному определению поэта, в тот день, когда окончилась война…5 Торжественные залпы победного салюта возвестили не только о том, что кровавый и великий поход завершён.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег…
Но образы павших не исчезали. Не смогли живые, оставив их вдали, прожить без них в своём отдельном счастье…
Шло лето 1941 года. После тяжёлых боёв за Ельню войска Западного фронта проводили перегруппировку. Полки 127-й стрелковой дивизии оперативной группы полковника А. З. Акименко6 отводили в тыловой район на пополнение и приведение себя в порядок.
Майор Амазасп Бабаджанян, Армо, как его называли в дивизии боевые товарищи, шёл в общей колонне. Лошади были наперечёт, на них навьючили миномётные плиты, ящики с патронами и штабными документами. Уже два месяца он командовал 395-м стрелковым полком 127-й стрелковой дивизии. Полк принял по приказу командарма-19 генерал-лейтенанта И. С. Конева после гибели в бою его командира. Отпуская молодого майора оперативного отдела штаба армии в полк, Конев похлопал его по плечу и сказал:
— Что ж, если так рвёшься на передовую… А вообще-то ты поступаешь правильно. Если погибнешь, то смертью храбрых. Выживешь — будь героем. Лучше второе.
Некоторое время полк занимал оборону юго-восточнее Смоленска на западном берегу Днепра. Потом начался отход. И вот подошли к Соловьёвой переправе.
В своих воспоминаниях А. Х. Бабаджанян напишет: «Кто не познал войну в сорок первом, начале сорок второго, тот не знает, что такое настоящая война. Пожалуй, они правы». Это «пожалуй, они правы» многого стоит. Всегда сдержанный и деликатный даже в спорах, не допускавший горячности в суждениях, он всё же твёрдо занял шеренгу солдат 1941–1942 годов, то есть те окопы, которые были не единожды проутюжены немецкими танками и перепаханы снарядами германской артиллерии, а она в начальный период войны на востоке не знала недостатка в боеприпасах.
И вот Соловьёва переправа. Это была единственная коммуникация, которая связывала группировку Западного фронта — 16-ю, 20-ю армии, а также многие отдельные части и подразделения, оказавшиеся в тот период в полуокружении юго-восточнее Смоленска, — с тылами. Несколько дней 127-я стрелковая дивизия, заняв новые позиции на западном берегу Днепра, сдерживала натиск передовых войск противника, чтобы дать возможность измотанным частям 16-й армии, которые покидали район Смоленска, переправиться на восточный берег. И только выполнив эту непростую задачу, начала переправу сама.
По воспоминаниям А. Х. Бабаджаняна, его полк преодолевал водную преграду вплавь. Сам комполка плавать не умел. Обычно этому учатся в детстве. А он родился и вырос в горном селении, где не было ни речки, ни озера. Что он тогда пережил, сказать трудно, фрагмент о переправе написан с юмором. Но юмор отдаёт остро пережитым и с годами подавленным ужасом. Рассказывая уже о более поздних событиях, о Курской дуге и действиях его танковой бригады под Обоянью, он признаётся: «В войну к каждому приходил страх, приходил не раз и не два».
Полковник А. З. Акименко был опытным воином. Прекрасно понимал, что в обстоятельствах, когда немецкие самолёты буквально ходят по переправе, соваться на неё не стоит, лучше поискать брода где-нибудь рядом. Брод вскоре был найден — песчаная широкая отмель с пологими берегами, вполне пригодными для съезда техники и повозок. Сапёры быстро переправились, подправили колеи, срезали берег, сделав подъём более пологим. Солдаты связали плоты, погрузили на них орудия артполка, раненых, другую материальную часть. А Соловьёва переправа гудела моторами, ревела сиренами и ухала рядом. Там, как ошалевшие осы, вились в небе немецкие самолёты.
Вот как вспоминали переправу у деревни Соловьёво на Старой Смоленской дороге те, кто её пережил.
Военврач Б. И. Феоктистов: «Когда мы подъехали на своей повозке к переправе, то увидели море людей и всевозможного транспорта. Самой переправы не было видно, к ней не подступиться. Образовалась пробка, пропустить которую “ниточка” понтонного моста была не в состоянии. Немецкие самолёты безнаказанно бомбили и обстреливали скопище возле переправы. Это был кошмар. Вой сирен, взрывы бомб, крики раненых и людей, обезумевших от страха. Люди бегут, раненые ползут, таща за собой окровавленные лоскуты одежды, длинные полосы бинтов с соскочивших повязок. Я не полез в гущу толпы к переправе и к моменту налёта авиации я упал в небольшое углубление, напоминающее отлогий окоп, и там увидел знакомого врача, Фишера, он был старшим нашей группы на сборах. Встреча не принесла нам радости, каждый из нас высматривал, куда бы отползти подальше от этой жуткой картины…»
Медсестра Е. Ф. Силипецкая: «Бомбили там без конца — столько людей погибло. Как начинается бомбёжка, это что-то страшное, земля под нами — как живая. И думается, закрыла бы глаза и убежала. Стоны раненых, крики обезумевших беженцев… Немцы специально включали какие-то сирены — такой гул, прямо симфония смерти, иначе не назовёшь».
Исследователи определяют количество погибших на Соловьёвой переправе весьма приблизительными цифрами: от 100 до 200 тысяч человек.
Майор Бабаджанян на левый берег перебрался вместе со всеми. Но, как вскоре обнаружилось, не без потерь — размок партбилет. За это ему потом выговорили в политотделе.
Как пожалел он тогда, в который раз, что возле родных Чардахлов не было хотя бы небольшой речушки! Рек и речейков до Берлина будет ещё много…
2
Чардахлы — высокогорное армянское село в равнинном Карабахе — историческом Арцахе, уставленном, как оберегами, каменными крестами — могучими, как сам армянский народ с его древней верой, хачкарами. Здесь 18 февраля 1906 года7 в семье Хачатура Бабаджаняна и Екатерины (Катеньки) родился будущий маршал. «Семеро по лавкам» — это как раз о семье Бабаджанян. По-семейному Амаз или Армо, а по метрикам Амазасп, был вторым ребёнком в большой семье. Старшим был Шаген, а уже позже родились Гурген, Сирануш, Ареват, Астхик, Сируи.
В детстве Армо пас баранов. Ходил за отарой с самодельным деревянным луком. Воин! Вспоминал о детстве так: «Мальчуганом удостоился высокой чести быть посланным на эйлаги8 подпаском к чабану Мехти-даи, дядюшке Мехти». Чабан был азербайджанцем из соседнего села. «Наши сёла были соседями — азербайджанское Аиплу, неподалёку русская деревня Славянка. С эйлагов, с высоты, казалось, что они примыкают друг к другу…»
Село Чардахлы (Чардахлу, Чар дах, в переводе на русский буквально — Четыре горы) относилось в ту пору к Елизаветпольскому уезду одноимённой губернии Российской империи. Население его, по переписи тех лет, насчитывало 1862 человека. Забегая вперёд, стоит сказать, что в годы Великой Отечественной войны из Чардахлов ушли на фронт почти все мужчины призывного возраста — 1250 человек. Целый полк! Вернулись 798 человек. Двенадцать стали генералами. Двое — маршалами. Семерым присвоено звание Героя Советского Союза. В Советском Союзе не было больше такого села! (После Карабахской войны 1988–1994 годов9 село оказалось отторгнутым от Нагорно-Карабахской автономной области, переименовано в Чанлибель и отошло к Кубатлинскому району Азербайджана.)
После окончания пяти классов Авлабарской армянской приходской школы Амазасп работал в хозяйстве отца и нанимался в качестве работника в богатые семьи. Трудился чернорабочим на строительстве шоссе в Шамхорском районе, в колонии Анино.
В 1924 году вступил в комсомол. Вскоре возглавил сельскую комсомольскую ячейку. В 1925 году в уездном комитете комсомола Амазаспу предложили:
— Хочешь дальше учиться?
Учиться Амазасп хотел. Ведь только так, через образование, можно было выбиться в люди. Все образованные жили хорошо: врач, учитель, инженер…
Беседовал с ним секретарь укома Алексей Баграмов10.
— Вот смотри и думай: есть две комсомольские путёвки, одна на рабфак, другая в военную школу. Что выбираешь?
— Военную школу, — ответил Бабаджанян.
Вернувшись в Чардахлы, он показал матери рекомендательное письмо в ЦК комсомола Армении. Мать покачала головой, молча достала из сундука три рубля, вырученные за шкуру старой коровы, и протянула деньги сыну. Это была затёртая трёхрублёвка — единственные деньги, скопленные семьёй. Билет только до Тифлиса на поезде «Максим Горький» стоил два рубля двадцать копеек, а там ещё пересадка на Эривань… Решил ехать «зайцем». Забрался на третью полку вагона 3-го класса, забился там между мешками-хуржинами и затих. До Тифлиса Амазасп добрался благополучно, а вот с поезда на Эривань его, сонного, снял кондуктор и передал дежурному милиционеру. Видимо, во сне потерял бдительность, разоспался, захрапел… Пришлось рассказать правду. Милиционер проникся к нему сочувствием, покачал головой, угостил булкой и отпустил парня.
А вскоре его обмундировали по второму разряду, в б/у, и зачислили курсантом условно. Так Амазасп оказался в Армянской объединённой военной школе им. А. Ф. Мясникова. Армия тогда строилась по национальному признаку. В школе изучались следующие предметы: тактика, военная топография, артиллерийское дело, военное строительство, сапёрное дело, стрельба, физкультура, армянский язык и литература, русский язык и литература, математика, физика, химия, обществоведение, другие. В 1926 году школа была переведена в Тифлис, где разместилась в здании бывшего военного училища.
Учился прилежно.
В сентябре 1929 года выпущен из Закавказской военно-пехотной школы и направлен в 4-й Закавказский краснознамённый стрелковый полк на должность командира и взвода. Молодая Закавказская федерация11 формировала вооружённые силы для защиты своих рубежей. Через год роту, в которую входил взвод Бабаджаняна, направили в ущелье Кара-дараси в район Кедабека близ Кировабада на ликвидацию банды Меджид-бека. «Банда, — как вспоминал бывший комвзвода, — терроризировала крестьян, вступивших в колхозы, совершала злодейские убийства работников советских учреждений, партийных активистов». В одной из схваток погиб командир роты, и руководство операцией легло на плечи молодого взводного. Банда была ликвидирована. Но во время последней перестрелки пуля настигла и исполняющего обязанности командира роты. Ранен в бою за советскую власть… Этим он гордился всю жизнь.
После излечения продолжил службу в 4-м Закавказском пехотном полку.
В 1928 году стал членом ВКП(б).
В 1932 году выдвинут на должность секретаря партбюро батальона.
В 1934 году назначен командиром пулемётной роты, затем переведён в Баку на должность начальника штаба пулемётного полка. В 1937–1938 годах там же, в Баку, служил при штабе ПВО на должности начальника оперативного отделения. В 1938 году переведён в Ленинградский военный округ на должность помощника командира 2-го зенитно-пулемётного полка по строевой части. Воинское звание — капитан.
Ещё в 1929 году Бабаджанян женился на своей односельчанке Арегназ Аршаковне Еганян (в семье ее звали Аргунья Аркадьевна). Аргунья была на четыре года моложе. Он проживёт с ней всю жизнь, более сорока пяти лет.
Через год после свадьбы родился сын Виктор. Потом в семье появятся две дочери — Лариса (1938) и Бела (1951).
В Зимнюю войну с Финляндией были вовлечены основные силы Ленинградского и Московского военных округов. На передний край перебросят и батальоны 2-го зенитно-пулемётного полка. Любая война требует новых и новых резервов.
В декабре 1939 года Бабаджаняну было присвоено очередное воинское звание майор. А вскоре он был ранен. Произошло это в феврале 1940 года, за месяц до окончания Советско-финской войны.
После излечения он был вновь направлен на юг, служил на различных штабных должностях в частях и соединениях Северо-Кавказского военного округа. Командовал стрелковым полком, а в самый канун войны переведён в штаб 19-й армии Киевского Особого военного округа на должность начальника оперативного отдела.
Стоит заметить, что его односельчанин Иван Баграмян к тому времени уже окончил не только Ленинградские кавалерийские курсы, но также Военную академию им. М. В. Фрунзе и Академию Генерального штаба РККА и в звании полковника занимал должность начальника оперативного управления штаба Юго-Западного фронта, сформированного на базе управления Киевского Особого военного округа.
3
В конце августа дивизия полковника А. З. Акименко была придана 24-й армии и дралась на правом, северном фланге войск Западного фронта, вовлечённых в масштабный контрудар, который при благоприятных обстоятельствах мог перерасти в контрнаступление на Смоленском направлении. Средоточием противостояния на центральном участке советско-германского фронта стала Ельня. 365 километров от Москвы. Несколько танковых переходов. А если брать во внимание, что Ельню ещё 19 июля заняли 10-я немецкая танковая дивизия 46-го моторизованного корпуса и мотопехотный полк «Великая Германия», относившиеся ко 2-й танковой группе Г. Гудериана, то, не наткнись они на жёсткую оборону наших войск, танки и мотопехота «быстрого Гейнца» оказались бы в пригородах Москвы ещё в августе.
Бои за Ельню в августе–сентябре 1941 года носили исключительно ожесточённый характер. И дело было вовсе не в городе и взятии его одной стороной и оставлении другой. Подтекст ельнинского сюжета свидетельствовал о том, что дотоле успешно наступающая (германская) сторона оказалась не просто остановленной на рубеже, который за неё определил её противник. Её ударная группировка оказалась потеснена. И не просто потеснена, а основательно побита, частично отрезана от тылов и главных сил группы армий «Центр», и только энергичный маневр на отход, при котором пришлось бросить часть имущества и тяжёлого вооружения, спас её от полного окружения и гибели в «котле». Так что на карту обеими сторонами ставилось многое.
Усиленный двумя батальонами 535-го и 875-го полков, 395-й стрелковый полк был на марше, когда вестовой вручил Бабаджаняну приказ командира 102-й танковой дивизии срочно развёртывать сводный отряд в боевой порядок и атаковать противника, оборонявшего горловину, соединявшую его Ельнинскую группировку с тылами. К счастью, к сводному отряду уже на марше присоединились батальон тяжёлых танков КВ и артиллерийский дивизион. В назначенный час батальоны поднялись в атаку. Восемь КВ двигались впереди цепей. Сводный отряд майора Бабаджаняна в истории сражения за Ельню стал именно той последней решающей силой резерва, который решил исход всего дела. Немцы продолжали изо всех сил удерживать горловину незакрытого «котла» и через неё снабжать свою группировку, оборонявшую Ельню, и основательно укреплённые окрестности. Наши войска, давя с юга и севера, никак не могли преодолеть эти последние шесть–восемь километров, чтобы замкнуть кольцо. И вот настал решающий момент.
В «Журнале боевых действий» 127-й стрелковой дивизии этот героический эпизод отражён так: «По приказу командующего 24-й армией 395 СП 127 СД был временно подчинён 102 танковой дивизии и получил задачу: совместными действиями перерезать эту горловину.
395-й СП сломил ожесточённое сопротивление частей пр[отивни]ка, прикрывавшего горловину и в течение 5 дней удерживал её, обеспечивая нашим частям окончательный разгром сильной группировки пр[отивни]ка в р[айо]не Ельня. За время операции бойцы и командиры 395 СП проявили чудеса храбрости и героизма, уничтожая живую силу и технику врага. Далеко по неполным данным 395 СП в течение 5 дней уничтожил 2 тыс. солдат и офицеров пр[отивни]ка. Было захвачено более 100 автомашин, 2 арт[тиллерийские] батареи. Захваченные у пр[отивни]ка трофеи составили обоз в 69 подвод»12.
В 1970 году Ельня, как весь советский народ, праздновала 25-летие Великой Победы. В честь этой даты бывшему командиру 395-го стрелкового полка, который своим мощным концентрированным ударом вынудил группировку противника покинуть свои позиции вокруг города и оставить городские кварталы, благодарные ельнинцы присвоили звание почётного гражданина Ельни. Во время той поездки Амазасп Хачатурович побывал в тех местах, где держал оборону его полк, посмотрел на окопы, на россыпи стреляных гильз, вспоминал…
Шёл сентябрь. Полковник А. З. Акименко отводил свою дивизию на новые позиции. Майор Бабаджанян вместе с комиссаром полка Н. И. Пивоваровым ехали верхами во главе полковой колонны. Шли поротно, растянувшись по просёлку нескончаемой солдатской рекой. Впереди показался всадник. Вскоре узнали коня начальника политотдела дивизии. Батальонный комиссар Е. И. Сорокин осадил коня и возбуждённым голосом приказал:
— Майор, остановите движение колонны! Постройте полк для оглашения приказа наркома обороны товарища Сталина!
Когда Бабаджанян отдал необходимые распоряжения, указав местом построения лесную поляну рядом с просёлком, батальонный комиссар пожал командиру полка, комиссару и собравшимся офицерам руки и рассеял недоумение:
— Поздравляю вас с присвоением вашей дивизии гвардейского звания!13 Кто будет зачитывать приказ? — И посмотрел на командира полка.
— Считаю, товарищ батальонный комиссар, что это лучше сделает комиссар полка, — сказал Бабаджанян. — Давай, Николай Игнатьевич, действуй!
С комиссаром Пивоваровым у Бабаджаняна завязались крепкие деловые отношения с первого дня их знакомства. Постепенно они начали перерастать во фронтовую дружбу. Комполка доверял своему комиссару, а тот целиком полагался на командирские качества майора.
— «В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии, — читал приказ, подписанный наркомом и начальником Генштаба, комиссар полка, — 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас.
Почему этим нашим стрелковым дивизиям удавалось бить врага и гнать перед собой хвалёные немецкие войска?
Потому, во-первых, что при наступлении они шли вперёд не вслепую, не очертя голову, а лишь после тщательной разведки, после серьёзной подготовки, после того, как они прощупали слабые места противника и обеспечили охранение своих флангов.
Потому, во-вторых, что при прорыве фронта противника…»
Командир полка слушал приказ Сталина сквозь звон в ушах, который временами, когда он особенно волновался, донимал его после лёгкой контузии — рядом, в нескольких шагах разорвалась мина, и теперь время от времени контузия напоминала о себе.
Слова и фразы приказа приподнимали всё сделанное ими, солдатами, командирами и политработниками названных дивизий, на некую высоту, с которой можно было оглянуться назад и по большому счёту не стыдиться перед лицом вышестоящего командования и своих товарищей, которым не суждено было дожить до этого торжественного построения. Смысл приказа словно смывал с них копоть неимоверно жестоких схваток, кровь — свою и врага, — укреплял веру в победу. В каждом слове, произнесённом комиссаром полка, слышался глуховатый и уверенный голос Сталина. Полк слушал этот голос и понимал, что не всё в его словах та правда, которая была, что некоторые эпизоды проведённых боёв были трагичными и сопровождались неоправданными потерями, что из-за нерасторопности и необдуманности принимаемых решений, из-за вынужденной торопливости и прочих просчётов лилась солдатская кровь там, где этого можно было избежать. Сталин будто прощал им эти просчёты, но одновременно напутствовал их больше не повторять ошибок, чреватых неоправданными потерями.
— «…Потому, в-пятых, что при нажиме со стороны противника эти дивизии не впадали в панику, не бросали оружие, не разбегались в лесные чащи, не кричали “мы окружены”, а организованно отвечали ударом на удар противника, жестоко обуздывали паникёров, беспощадно расправлялись с трусами и дезертирами, обеспечивая тем самым дисциплину и организованность своих частей.
Потому, наконец, что командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как мужественные и требовательные начальники, умеющие заставить своих подчинённых выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей приказов и дисциплины…»
Это случилось там, позади, откуда они теперь уходили в новый район сосредоточения, покидая старые, обжитые окопы, исклёванные минами и исполосованные вдоль и поперёк гусеницами танков, чужих и своих. Однажды левофланговая рота 3-го батальона, не выдержав налёта немецких «Штук» — пикирующих бомбардировщиков Ju-87, — разбежалась по лесу. Бойцы оставили в окопах пулемёты, некоторые побросали даже винтовки и подсумки с патронами и обезумевшей толпой хлынули в ельник. Произошло это за час до назначенной комполка атаки, начинать которую должен был 3-й батальон. Бабаджанян с комиссаром полка были в это время на батальонном НП, чтобы наблюдать ход атаки и управлять подразделениями по ходу боя. Ждали поддержки своих соколов. Командир дивизии обещал, что за полчаса до атаки немецкие окопы и ближние тылы, где, возможно, сосредоточены танки и артиллерийские позиции противника, обработает наша авиация. Но первыми в воздухе появились немцы. С НП они видели, как «Штуки» накрыли окопы левого фланга 3-го батальона, как из хода сообщения выскочил сперва один боец, потом другой, третий…
— А, твоё-моё! — в сердцах выругался комбат, выхватил из деревянной кобуры тяжёлый «Маузер» и, расталкивая связистов, толпившихся у входа в землянку, бросился по ходу сообщения на левый фланг.
— За ним!
Комполка и комиссар побежали следом.
Отыскали комбата и его ординарца в овраге шагах в ста от брошенных окопов. Они уже настигли беглецов, вывели из оврага и строили в шеренгу на краю перед обрывом.
Командир батальона, капитан, бывший десантник, тряс перед строем «Маузером» со взведённым курком и, срывая голос на хрипоту, кричал: «Ну?! Кто первый драпанул? Кто, дезертира-мать-перемать! У кого родилась такая подлая мысль? Родину предать!.. Бросить товарищей!..» Он явно отыскивал в неровной, колышущейся от страха шеренге того, первого, чтобы исполнить приказ № 270: трусов и паникёров расстреливать на месте… Выхватил из шеренги молоденького растрёпанного бойца в неподпоясанной шинели. Тот рухнул на колени, зарыдал.
— Отставить! — крикнул комиссар и перехватил руку комбата с «Маузером».
На какое-то мгновение и люди, и лес вокруг оврага оцепенели. Все ждали выстрела, который, согласно приказу Ставки ВГК, в тех непростых обстоятельствах можно было считать законным и даже справедливым. Но выстрела не последовало.
— Товарищ красноармеец, стань в строй, — сказал комиссар бойцу, всё ещё стоявшему на коленях и дрожавшему как осиновый листок.
— Бойцы Красной армии! — обратился Пивоваров к шеренге. — Не позорьте полк. Не подставляйте под удар своих товарищей. Они не побежали. А теперь слушай мою команду: бегом марш в свои окопы! Сержантам — на месте проверить наличие винтовок и снаряжения! — И уже вдогонку: — Докажите в бою, что бежали не вы, а ваш страх!
— Об остальном поговорим на комсомольском собрании, — сказал комиссар уже себе самому и тем, кто стоял рядом.
Это был урок всем. И бойцам, дрогнувшим в трудную минуту. И комбату, которому легче было вернуть своих людей в окопы выстрелом в первый попавшийся стриженый лоб. И ему, тридцатипятилетнему командиру стрелкового полка, который в те мгновения ещё не знал, что правильно и как надо действовать в подобных обстоятельствах.
Конечно, комиссар рисковал, за всех принимая такое решение, исключавшее какие бы то ни было репрессивные меры, и даже следствие, в отношении беглецов. В атаку рота поднялась дружно, в полном составе. Батальон ворвался в немецкие окопы и в рукопашном бою очистил их от противника, а затем огнём поддержал наступление всего полка. Задача была выполнена. И никто ни в особом отделе, ни в штабе дивизии ни словом не обмолвился о ЧП за час до атаки. Бойцы бранили сталинских соколов, так и не поддержавших их в том наступлении. Командиры названивали в вышестоящие штабы, выясняя причины бездействия авиации. Но о стрелковой роте, в панике сменившей свои окопы на более надёжный овраг, молчали и те и другие.
— «…На основании изложенного и в соответствии с постановлением Президиума Верховного совета СССР Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
Первое: За боевые подвиги, за организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно:
100-ю стрелковую дивизию — в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов.
127-ю стрелковую дивизию — во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко.
153-ю стрелковую…»
Для них, стоявших в том каре у просёлка посреди леса, дорога на Берлин уже началась. И началась она в первых атаках в окрестностях маленького районного смоленского городка. Не всем суждено будет пройти её до конца. Но и те, кто пройдёт от той безвестной поляны до Бранденбургских ворот и ступеней Рейхстага, ещё не знали ни того, какой длины она окажется и сколько лет и зим придётся шагать, ползти и бежать по ней, ни того, в какие ворота и в какой порог она воткнётся.
— «…Второе. В соответствии с постановлением Верховного совета Союза ССР указанным дивизиям вручить особые гвардейские знамёна.
Третье. Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу с сентября сего года во всех четырёх гвардейских дивизиях установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания.
Четвёртое. Начальнику тыла Красной армии разработать и к 30 сентября представить проект особой формы одежды для гвардейских дивизий.
Пятое. Настоящий приказ объявить в действующей армии и в округах во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях и командах.
Народный комиссар обороны СССР
И. СТАЛИН.
Начальник Генерального штаба Красной армии
Маршал Советского Союза
Б. ШАПОШНИКОВ».
Комиссар Пивоваров дочитал приказ. Солдатские шеренги не шелохнулись. Комиссар обвёл взглядом застывшие батальоны. На всякий случай спросил:
— Содержание приказа наркома понятно?
Снова тишина.
Наконец с правого фланга послышался одинокий голос, говорил сержант Стуканев. Рассудительный, как деревенский философ, бывший плотник откуда-то из северных областей России, хороший младший командир. Бабаджанян однажды во время летних боёв с передового НП наблюдал за действиями его отделения. Немцы атаковали при поддержке танков. Отделение Стуканева организованно отсекало пехоту. Вели огонь все, сосредоточенно, прицельно, быстро перезаряжая винтовки и вновь посылая в противника пулю за пулей. Артиллеристы подбили два танка. Третий прорвался к окопам. И там его, оставшегося без прикрытия своей пехоты, бойцы сержанта Стуканева словно и ждали — тут же забросали бутылками с КС14. Немецкий PzKw III пылал высоким факелом и светился раскалённой стальной болванкой до полуночи. И это воодушевляло весь батальон.
— Товарищ комиссар! — сказал Стуканев, округляя своё северорусское «о». — Можно попросить: прочитайте ещё раз.
Всем, конечно, всё было понятно. Их дивизия стала гвардейской. Вот и соответствующий приказ, подписанный самим Сталиным. А все они — гвардейцы. А значит, признаны Верховным главнокомандованием лучшими из лучших на фронте борьбы с немецкими оккупантами. По всей вероятности, улучшится их довольствие, увеличится денежное содержание. Даже форму одежды вводят особую. И эту радостную весть, в которую сразу трудно было поверить, хотелось прослушать от начала до конца ещё раз.
Пивоваров сразу это понял и повторил текст приказа ещё раз. На этот раз более торжественно.
Когда чтение было закончено, после короткой паузы тишины, как вспоминал потом маршал Бабаджанян, «раздался общий, словно по команде, хотя никто её не подавал, крик “Ур-ра!”».
Так начинался путь новой русской, советской гвардии на Берлин.
Позволю себе небольшое отступление. Нас, русских, часто упрекают в том, что мы-де плохо усваиваем уроки истории. Но те же уроки ещё труднее усваивает Запад. При том, что каждый его, Запада, натиск на Восток (Drang nach Osten), о чём свидетельствуют уроки истории, заканчивается либо в Вильно или Варшаве, либо в Париже или Берлине.
4
Октябрь 1941 года. Брянский фронт. Оперативная группа генерал-майора Ермакова15 пытается отбить удар 2-й танковой группы генерал-полковника Г. Гудерина на Льговско-Глуховском направлении. Немецкая группа армий «Центр» проводит операцию «Тайфун», развивая мощное наступление на Москву. Одновременно 2-я танковая группа Гудериана, завершив окружение войск Юго-Западного фронта, вновь развернула танки на Москву. В Киевском «котле» погибли сотни тысяч бойцов и командиров нескольких армий вместе со своими полевыми управлениями. Сотни тысяч попали в плен. Односельчанин майора Бабаджаняна И. Х. Баграмян, которому в августе было присвоено звание генерал-майора, вырвался из окружения. Он сформировал ударную группу и, вливая в неё попадавшиеся по пути отставшие отряды, смог обойти немецкие заслоны и вывел через двойное кольцо до двадцати тысяч бойцов и командиров. За этот подвиг был награждён орденом Красного Знамени.
Ничего этого командир 395-го стрелкового полка в те дни, конечно же, не знал.
Оперативная группа генерала Ерамкова, пытаясь погасить наступательный порыв танков «быстрого Гейнца», отбила у противника Глухов. Затем подошла к Путивлю. Движение противника приостановилось. В какой-то миг возникла ситуация, напомнившая той и другой стороне произошедшее под Ельней месяц назад. Но рамки контрудара всегда ограничены ресурсом действующей группы войск, её количеством, которое тает с каждым боестолкновением, а также вооружением, запасом боеприпасов, продовольствия и иным тыловым обеспечением. Контрудар — не контрнаступление, и осуществляется он, согласно уставам, как оборонительное мероприятие. И вот, проведя перегруппировку, Гудериан снова бросил свои ударные части вперёд. Генералу Ермакову с его ограниченным боевым ресурсом оставалось только одно — маневрировать теми подразделениями, которые ещё сохраняли свою боеспособность. Отходить, жечь немецкие танки, закрепляться на новых рубежах и снова жечь немецкую бронетехнику и уничтожать живую силу.
В один из дней после огневого налёта и массированной бомбардировки штурмовой авиации противник бросил в бой большое количество танков, концентрированным ударом одновременно в двух направлениях рассёк боевые порядки 2-й гвардейской дивизии, прижал полки к реке. Часть дивизии успела отойти на восточный берег реки Клевень. На западном остался 395-й гвардейский полк и два батальона соседнего — 875-го — полка. Они отошли из района Путивля и вместе с батальонами майора Бабаджаняна удерживали село Чернево, небольшой плацдарм вокруг села и переправу с чудом уцелевшим мостом. Её-то и приказано было захватить авангардам 2-й танковой группы Гудериана, чтобы развивать успех в глубину нашей обороны и уже беспрепятственно продвигаться к Москве.
«Противник простреливал наш крохотный плацдарм насквозь, — вспоминал А. Х. Бабаджанян. — В батальонах оставалось по 100–120 активных штыков. Дрались все, даже солдаты хозяйственных подразделений».
Полковой КП находился на сельском кладбище. Бой с каждым часом становился всё ожесточённей. Немцы продолжали напирать, постепенно наращивая удар новыми и новыми резервами. Батальоны Бабаджаняна стояли насмерть. Командир дивизии отход на восточный берег запретил. Спустя несколько минут перезвонил и сказал ровным каменным голосом:
— Ну пойми же, дружок, видимо, так нужно. Я ничего изменить не могу.
Это был приказ умереть, но немецкие танки через свои позиции не пропустить.
И тут из правофлангового батальона сообщили: танки и пехота ворвались в наши окопы. Комиссар Пивоваров, верный друг и боевой товарищ, побежал с группой автоматчиков туда.
О том, как погиб комиссар, Бабаджаняну после боя рассказал командир пулемётной роты лейтенант Василян. В роте к тому времени уцелел всего один пулемёт. Убили командира расчёта, ранили второго номера. Василян молча лёг к пулемёту. Комиссар Пивоваров оттащил в угол окопа раненого второго номера и так же молча принялся выполнять его работу — подавать в приёмник ленту, чтобы не захлестнула. «Максим» молотил длинными прицельными очередями, сметая пехоту противника.
С Николаем Арташесовичем Василяном маршал не раз встречался после войны, навещая родные места. Василян, вернувшись с фронта, окончил институт, возглавил один из крупнейших заводов Еревана. Каждый раз они вспоминали своих боевых товарищей и тот бой. Там, на крошечном плацдарме на Клевени, они все были смертниками.
— В какой-то миг я почувствовал, что мой второй номер перестал подавать ленту, — рассказывал бывший лейтенант. — Когда атаку отбили, я посмотрел, а комиссар наш лежит на патронных ящиках…
«Командир, — любил вспоминать слова своего друга Бабаджанян, — ты думай о том, как полку достигнуть победу в бою, как врага поразить. Остальное доверь мне — дисциплину, сознательность, снабжение… Не подведу».
И не подводил. Никогда. До последнего боя.
Когда доложили о гибели Пивоварова, метнулся по ходу сообщения во 2-й батальон, стал к пулемёту и, пока не закончилась лента, поливал огнём залёгших за подбитыми танками немецких танкистов и автоматчиков.
Ночь прошла спокойно. Противник, потеряв больше десятка танков, отошёл и, похоже, перегруппировывался. До утра там урчали моторы. Значит, подводили танки.
Утро началось с налёта штурмовиков. Связист, пожилой сержант, сидевший у телефонного аппарата, насчитал 27 и бросился на дно окопа, потому что ведущий «лаптёжник»16 уже включил сирену и свалился в отвесное пике прямо на их КП. Завыло, загрохотало, земля затряслась, заходила ходуном, так что бревенчатый накат над головой, казалось, вот-вот обрушится и придавит всех их, сгрудившихся в этом ненадёжном укрытии. Ещё не осела пыль, густо смешенная с толовой копотью, из хода сообщения донеслось:
— Танки!
Резко захлопали сорокапятки17, расчерчивая фосфорисцирующими трассами нейтральную полосу. Вот одна из трасс встретилась с башней немецкого танка, наползавшего на траншею боевого охранения, и стальную коробку обдало яркой вспышкой, похожей на сварку. Танк качнулся, остановился. Из бокового люка вывалился танкист в чёрном комбинезоне и кубарем скатился под гусеницы. Открылся верхний люк, показалась фигура в офицерской фуражке. И тут в окопах второго батальона заработал «максим». Командир полка сразу узнал характерный почерк лейтенанта Василяна: одна короткая очередь, пристрелочная, и следом — длинная, прицельная. Фигура в офицерской фуражке замерла и через мгновение провалилась вниз, в люк, откуда уже вытягивало чёрный маслянистый дым, завертелся волчком другой танкист, успевший выскочить и пытавшийся укрыться за гусеницами своей машины.
Танки и пехота накатывали на батальоны волна за волной. От села Чернева уже ничего не осталось. Догорали последние постройки, которые бойцы не успели разобрать на блиндажи и землянки. На некоторых участках танки уже утюжили окопы, и бойцы отбивались связками гранат и бутылками с КС. Белое пламя горючей смеси вспыхивало на броне, разгоралось, но и горящие танки продолжали двигаться вдоль линии окопов, заползали в тыл, продолжая вести огонь из короткоствольных пушек и пулемётов.
Выдержат ли, думал комполка, окидывая взглядом поле боя. Мельком взглянул в строну переправы и увидел, что мост целёхонек, что ни на настил, ни на предмостные въезды не упала ни одна бомба, ни один снаряд. Конечно же, им нужна переправа. Мост они берегут для себя и огня по нему не ведут.
Вот два танка повернули в сторону КП. Один остановился, угловатая башня его начала медленное вращение, шевельнулся короткий ствол пушки. Видимо, танкисты обнаружили КП. Сейчас накроют. От окопов, которые накануне старательно отрыло отделение сержанта Стуканева, отделились две фигуры и, сгорбившись, побежали к танку. Одна вскоре упала и стала отползать к воронке. Видимо, ранен, понял Бабаджанян. Но вторая сблизилась с танком на расстояние десятка шагов, полетели, кувыркаясь, одна за другой две бутылки. Танк, выбрасывая струю чёрного дыма выхлопных газов, резко сдал назад и сделал крутой разворот в сторону гранатомётчика. Но поздно. Боец уже спрыгнул в воронку, и огненная струя трассирующих пуль курсового пулемёта пронеслась выше, не задев смельчака. А по корме танка уже струилось белое пламя. Оно быстро охватывало ещё живую машину, затекало в моторную решётку и под башню.
После боя, уже на переправе, комполка увидел своего верного боевого товарища, сержанта Стуканева, и из короткого разговора понял, что немецкий танк у полкового КП остановил он.
Вечером позвонил Акименко и отдал приказ на отход.
Отошли благополучно, под прикрытием дыма от горящих построек и немецких танков и бронетранспортёров.
За переправой их встречал генерал Акименко.
— Спасибо, сынок. — И командир дивизии обнял майора.
— Вот всё, что осталось от гвардейского полка, товарищ генерал.
Они стояли возле дороги и смотрели на редкую колонну бойцов.
Сапёры уже минировали сваи и настил моста.
В своих мемуарах Бабаджанян будет постоянно полемизировать с Гейнцем Гудерианом. Порой его страстные схватки будут напоминать те, которые происходили в сорок первом под Ельней, Глуховом и маленьким селом Черневом на реке Клевени. Старый солдат знал свою правду, с которой и победил в той войне, и упорно и храбро отстаивал её всю жизнь.
5
После кровавого противостояния на Клевени 2-я гвардейская стрелковая дивизия сдерживала удары 2-й танковой группы в районе Тима, порой успешно контратаковала. Об этих боях, в том числе об успешных действиях 395-го гвардейского полка подполковника Бабаджаняна в ноябре 1941 года в газете «Правда» появилась статья. Авторами её была писательская бригада, побывавшая в расположении дивизии накануне — Ванда Василевская, Александр Корнейчук, Микола Бажан.
В конце 1941 года дивизия участвовала в первом освобождении Ростова-на-Дону, затем, весной 1942-го, дралась на Таганрогском направлении.
В апреле 1942 года подполковника Бабаджаняна направили на учёбу в Академию Генерального штаба18. Войска нуждались не только в опытных, но и грамотных во всех отношениях командирах, которые могли бы побеждать противника не только силой оружия и стойкостью своих солдат, но и военной мыслью в ходе планирования, подготовки и проведения операций различного масштаба. Однако, прибыв в Москву, в Главном управлении кадров РККА он узнал, что на него сделано представление — командиром механизированной бригады.
Академические двери перед ним война на время закрыла. Прихотливая фронтовая судьба влекла его на другую стезю. Танки!
«Я ехал в распоряжение командира 3-го мехкорпуса генерала М. Б. Катукова19, к которому был назначен командиром 3-й механизированной бригады»20. Он кинулся постигать теорию нового рода войск. Пришлось читать не только статьи советских теоретиков, но и Фуллера21 и — о, ирония обстоятельств! — Гудериана. В Москве время зря не терял, зашёл в спецбиблиотеку и упросил дать ему на фронт («После Победы верну!») их работы. «…Броня, движение и огонь — существеннейшие признаки новых средств атаки…»
«Танки… Я много думал о них, я представлял их в бою, видел, как они помогают стрелковым подразделениям прогрызать оборону противника…
Но сейчас, в полутьме вагона, мне представлялись уже другие танки. Не те, что поддерживают пехоту, а те, что, соединённые в огромные массы, берут в клещи вражеские боевые порядки, вклиниваются, вколачиваются в оборону противника, обходя его города, замыкают их в тиски, несут победу…»22
Работая в оперативном отделе штаба армии 1-го эшелона, а затем командуя стрелковым полком, который месяцами не выбирался из окопов, Бабаджанян часто наблюдал на поле боя действия танков, танковых подразделений, своих и чужих, и хорошо понимал их ударную мощь и быстроту маневра.
Третьим механизированным корпусом командовал человек, который не хуже Гудериана понимал значение танков в современной войне и, самое главное, успешно жёг танки «быстрого Гейнца» на поле боя — генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катуков. Бабаджаняну повезло, он попал в подчинение талантливому танковому командиру и хорошему учителю.
В октябре 1942 года корпус генерала Катукова перебросили в район Осташкова и включили в состав 22-й общевойсковой армии, которая вела тяжёлые бои на Ржевском выступе. После нескольких операций, в ходе которых 3-я механизированная бригада потеряла большое количество техники и личного состава, корпус отвели в тыловой район. На его базе началось формирование 1-й танковой армии.
Весной 1943 года 1-я танковая армия вошла в подчинение штаба Воронежского фронта и обживалась на новых рубежах на южном фасе Курской дуги под Обоянью. Танки Катукова стояли во второй линии обороны в затылок дивизиям 6-й гвардейской общевойсковой армии. Корпуса имели задачу: быть готовыми к нанесению контрударов и уничтожению подвижной группы противника в направлениях Обоянь — Суджа, Обоянь — Ракитное, Обоянь — Белгород, Обоянь — Короча.
Именно сюда, на позиции 6-й гвардейской, противник направил основной удар своих подвижных сил — 4-ю танковую армию генерал-полковника Германа Гота. Главную ставку немецкое командование сделало на II танковый корпус СС, состоявший из трёх элитных моторизованных дивизий СС — 1-й «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», 2-й «Дас Рейх», 3-й «Мёртвая голова», — элитной моторизованной дивизии «Великая Германия», отдельных танковых батальонов, вооружённых новыми тяжёлыми танками «Тигр» и «Пантера», штурмовыми орудиями «Фердинанд», усовершенствованными StuG III Ausf. G с 75-мм противотанковой пушкой и 50-мм лобовой бронёй, другими моделями военной техники с мощным ходом и вооружением, способным пробивать броню наших «тридцатьчетвёрок», тяжёлых КВ и ИСов. Когда Гитлеру продемонстрировали технические и огневые качества новых танков и штурмовых орудий, он был в восторге: «До сих пор достигнуть того или иного успеха русским помогали их танки. Мои солдаты! Наконец вы имеете теперь лучшие танки, чем они!..»
В первый день сражения ударная группировка Германа Гота обрушилась на позиции 6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта И. М. Чистякова23. Дивизии 1-го эшелона были разрезаны по частям. Одни подразделения были полностью уничтожены, другие понесли большие потери и продолжали драться изолированно в полном или частичном окружении. Стальная армада 4-й танковой армии генерала Гота вошла в оборону дивизий 1-го эшелона как нож в масло. Военные историки признают, что командование Воронежского фронта, не имея точных разведданных о направлении главного удара танкового клина, слишком растянуло свои войска по фронту и потому оборону 1-го эшелона немцы прорвали сравнительно легко.
Уже на второй день в дело вступили корпуса и бригады 1-й танковой армии. Позиции 3-й механизированной бригады полковника Бабаджаняна атаковали танки и мотопехота 11-й танковой дивизии24 при массированной поддержке гаубичной и противотанковой артиллерии и авиации. Состав 11-й танковой дивизии был довольно серьёзным и вполне сопоставим с силами корпуса 1-й гвардейской танковой армии. Только один 15-й танковый полк имел 113 танков различной модификации. Кроме того, в дивизию входили два моторизованных полка (110-й и 111-й) и 119-й полк штурмовой артиллерии, а также разведывательные подразделения, способные действовать самостоятельно и решать тактические задачи. Забегая вперёд, замечу, что к концу Курского сражения 11-я танковая дивизия насчитывала едва 20 боеспособных единиц бронетехники. Часть танков, штурмовых орудий, бронетранспортёров и артиллерийских тягачей вместе со своими пушками остались в полях, оврагах и перелесках перед позициями 3-го механизированного корпуса, в том числе и 3-й мехбригады полковника Бабаджаняна.
Из оперативной сводки 3-го мехкорпуса от 3 июля 1943 года:
«…В течение дня части и соединения 3-го мк вели тяжёлые оборонительные бои с наступающими танками и мотопехотой противника, пытавшимися продвинуться, в основном, вдоль шоссе ОБОЯНЬ–БЕЛГОРОД через ЯКОВЛЕВО. Все атаки противника были отбиты».
«…7 июля, 3-я мбр — занимает следующее положение: ДУБРОВА, ур. БОЛЬШОЙ ЛОГ, развилка дорог, что 2 км западнее ПОГОРЕЛОВКА, ПОКРОВКА, южные отроги оврагов, что 3 км юго-западнее СЫРЦЕВО. Танков в строю: 33 танка Т-34 и 3 танка Т-70. Потери в матчасти и личном составе: 3 танка Т-34, 3 автомашины, одна 45-мм пушка, одна 76-мм пушка, один станковый пулемёт. Убито — 7 человек, ранено — 10 человек. Уничтожено: до 20 танков противника, в остальном уточняется».
«…С 6 по 8 июля, 3-я мбр: убито и ранено 317 человек, подбито 29 танков Т-34, автомашин — 3, станковых пулемётов — 1, 45-мм пушек — 1, 76-мм пушек — 9».
Восьмое июля для 3-й механизированной бригады было тяжёлым. Бригада потеряла почти все танки. К счастью, многие из них были всего лишь подбиты. Экипажи уцелели. Ночью ремонтные бригады часть боевых машин вытащили, отбуксировали в тыл, и вскоре они снова пошли в бой.
Корпуса и бригады 1-й танковой армии схватились с ударными силами 4-й танковой армии Гота не на жизнь, а на смерть. Попытка глубокой контратаки нашим танкистам не удалась. Потеряли много боевых машин. Генерал М. Е. Катуков настоял перед командованием фронта и Ставкой драться на своих позициях, в основном используя танки из засад, окопанные и тщательно замаскированные в складках местности. Это спасло боевые машины и экипажи от точного огня немецких «Тигров» и «Фердинандов».
Вот что вспоминал о тех днях, поясняя расположение своих войск, сам Бабаджанян: «3-й мехкорпус выдвинул в первый эшелон обороны 1, 3, 10-ю механизированные и 1-ю гвардейскую танковую бригады. Впереди бригад, на расстоянии примерно в полкилометра, заняли позиции танковые засады.
Наша бригада оседлала автостраду Белгород — Курск, центр обороны — высокий курган в двадцати метрах от дороги. На самой вершине кургана спрятан в укрытии танк командира бригады. Тут тебе и наблюдательный, и командный пункты, и долговременная огневая точка — танк буквально зарыт в землю по самую башню: стоять насмерть! Так и стояли советские солдаты. Сколько их здесь сложило головы… После войны белгородцы воздвигли на нашем кургане памятник павшим. На нём слова: “Путник! Куда б ни шёл, ни ехал ты, но здесь остановись. Могилам этим дорогим всем сердцем поклонись”.
На участке Чапаево, Яковлево танковые дивизии противника “Адольф Гитлер”, 3-я и 7-я, моторизованная дивизия “Великая Германия”, пехота прорвали главную полосу обороны 6-й гвардейской армии, не подозревая присутствия целой нашей танковой армии на второй полосе обороны. Полагая, что основная трудность уже позади, немцы неожиданно столкнулись с нашими танковыми засадами.
Преодолев первое замешательство, “Тигры”, “Пантеры”, самоходки развернулись в боевые порядки и снова кинулись в атаку.
На степном просторе, на холмах, в балках и оврагах, в населённых пунктах завязались танковые сражения, ожесточённые и невиданные…
Масштабы сражения превосходили человеческое воображение. Сотни танков, орудий, самолётов превращались в горы металлического лома. Во мгле — солнце, его диск еле пробивался сквозь тучи дыма и пыли от тысяч одновременно раздающихся разрывов снарядов и бомб. От ударов снарядов о броню адский скрежет, столбы копоти от горящих машин…
Со своего НП на кургане, лишь малость утихнут артиллерийская канонада и авиационная бомбёжка и медленно рассеется дым, вижу всё вокруг километров на шесть–восемь, ведь летний солнечный день! Вот за первым — 2-й эшелон танков противника в предбоевых порядках, вот расположение наших соседей — танковой бригады моего друга Горелова. Танкисты и мотопехота, артиллеристы, сапёры вместе отбивают уже, наверное, десятую атаку врага.
Но вот новая авиаволна противника. Навстречу им наши истребители, снизу залпы зениток, такие частые, что напоминают скорее пулемётную пальбу…
С переднего края в полосу обороны бригады отошли артиллерийские подразделения 6-й гвардейской армии, снова включились в борьбу с танками врага. С ними чувствуем себя веселее, хотя становится всё тяжелее».
Основной удар танкового клина, прорвавшего оборону 6-й гвардейской армии, пришёлся на 3-й механизированный корпус.
Историк 1-й гвардейской танковой армии Игорь Небольсин о событиях тех дней, происходивших на участке гвардейцев, писал: «При атаке порядки танков, как правило, немцы строили в три и более эшелона. Причём в первый эшелон включалось наибольшее количество тяжёлых танков “Тигр”. Вместе с ними и за ними шли тяжёлые самоходные орудия, и только вслед за самоходной артиллерией шли танки других типов. Встречая мощные узлы сопротивления, организованный артиллерийский огонь, немецкие танки, как правило, откатывались назад и искали пути обхода. При невозможности обойти узел сопротивления в дело вступали артиллерия и пикирующие бомбардировщики. После артиллерийской, и особенно после сильной авиационной обработки танковые атаки повторялись снова».
Позиции 3-й мехбригады немцы обходить не собирались. Им нужно было очистить участок шоссе Белгород — Курск. Как вскоре стало очевидным, любой ценой. Чтобы сбить темп немецкого наступления, остановить его на втором рубеже, командующий Воронежским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин ввёл в бой фронтовые резервы — гвардейские танковые корпуса. Одновременно генерал М. Е. Катуков маневрировал своими резервами, более скромными. Танковые и механизированные бригады, оказавшиеся на острие удара 4-й танковой армии Гота, были потеснены и отошли на запасные позиции.
Из сводки 3-го механизированного корпуса:
«На 11 июля 3-я мбр занимает оборону на участке КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ МТС, ЗОРИНСКИЕ ДВОРЫ, ур[очище] ДУРАСОВСКОЕ. Предпринятые контратаки противника до батальона пехоты при поддержке 15 танков дважды были отбиты. Потерь нет. На 24.00 11 июля 1943 г. бригада имеет танков в строю — Т-34 — 2, активных штыков — 341, 120-мм миномётов — 6, 82-мм — 24».
Итак, на седьмой день сражения под рукой у полковника25 Бабаджаняна остался батальон бойцов при двух «тридцатьчетвёрках» и 30 миномётах. Структура механизированной бригады на тот период была следующей: танковый полк двухбатальонного состава имел на вооружении 35 танков Т-34 и 4 — Т-70, три мотострелковых батальона, миномётный батальон, артиллерийский дивизион, зенитно-пулемётная рота, разведывательная рота, инженерно-минная рота, автотранспортная рота, санитарный взвод. Личный состав бригады — 3726 человек.
Иногда на связь выходил командир соседней танковой бригады полковник Владимир Горелов26:
— Держись, Армо! Новая волна идёт. Прямо на тебя. Марс иногда и армянам помогает!
Держались полки Бабаджаняна. Стояли насмерть полки Горелова. Стойко дрался весь корпус. Держалась, врывшись в землю, армия Катукова.
Что чувствовали немецкие солдаты, через неделю боёв подойдя к новому рубежу обороны советских войск? Что видели и понимали их генералы, разматывая нить сюжета, предусмотренного планом операции «Цитадель»? Почему они не размотали ее до конца и отступили? Ведь потенциал и наступательный ресурс у немецких дивизий ещё был. Правда, не у всех. Теперь остаётся лишь додумывать возможные варианты исхода самой грандиозной битвы Великой Отечественной и Второй мировой войн. И историки додумывают! Некоторые западные исследователи додумались до того, что ничтоже сумняшеся утверждают: вермахт и СС не проиграли сражение на Курском выступе, более того, они его выиграли. При этом приводят цифры потерь и оставшихся в строю единиц бронетехники, орудий, самолётов и солдат.
Да, ресурс для ещё нескольких атак у противника оставался. Но в этом историческом и нравственном споре давайте обратимся к классике и доверимся доводам великого писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого. Роман «Война и мир», та самая глава, в которой Толстой размышляет вместе со своими героями и одновременно полемизирует с историками о Бородинском сражении.
«В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая её, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.
Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них ещё есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить её с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, всё равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упавший дух войска не позволил этого.
Не один Наполеон испытывал то похожее на сновидение чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена».
Нравственная сила армии-агрессора всегда истощается раньше. Ужас этого истощения, упадка моральных сил, уровня мотивации, как сейчас говорят, начинает ощущаться намного раньше истощения материальных ресурсов. В то время как нравственная сила армии, защищающей своё Отечество, постоянно укрепляется.