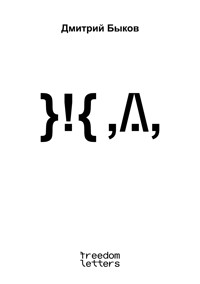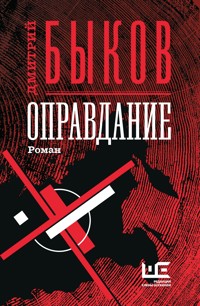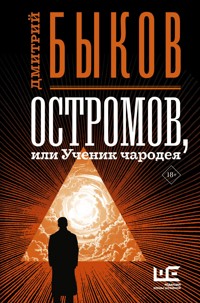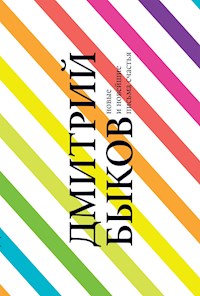Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freedom Letters
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Russisch
Сочиняя эти стихи (и попутно написанную пьесу), автор ставил себе три задачи: 1. Перестать себе что-либо запрещать. 2. Запечатлеть уникальный момент и уникальное состояние мира. 3. Найти слова, которые развеселили бы Господа в его решительной схватке известно с кем.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
№ 146
Дмитрий Быков
Подъём
Freedom LettersИтака2025
Подъём
Стихи 2024–2025 годов
(и не только)
+++
Там от меня сегодня, видимо,
Осталось нечто вроде тени.
Ни возмущения, ни вызова —
Сплошные жалобы и пени.
Он бродит, морщась и постанывая,
Среди заснеженного ада —
Там, где жилье мое оставленное
И догнивающая «лада».
Он пребывает, бедный выродок,
В утробе недогосударства,
Какому ни украсть, ни выманить
Меня отсюда не удастся.
Но тень моя, беззвучно сетуя,
Не утешаясь и не старясь,
Безжизненная и бессмертная,
У них в заложниках осталась.
…Закрыты все его издания,
Уехал весь его читатель —
Он это чувствовал заранее,
А потому копил, не тратил.
Он щурится, немой, трясущийся, —
Я вздрагиваю, чуть представлю,
Как над бессильной этой сущностью
Там учиняют суд и травлю.
Скользит по челяди, по наледи,
По заболоченному морю,
Над ним глумятся эти нелюди —
А думают, что надо мною.
Отверженный от взора Божьего,
Он чахнет в панике бездельной,
И до меня доходит дрожь его
И отравляет ночь и день мой.
Он ежится в постельной вмятине,
В ознобе просыпаясь в девять,
И ходит на могилу матери —
А что еще ему там делать?
Новое богословие
Как я усвоил за полсотни лет,
К прагматикам судьба неблагосклонна.
Бог явно есть. Но если Бога нет,
То нет науки выше богословья.
Предмет увидеть не дано,
Но нам нисколько не обидно:
Глазами если что и видно,
То главным образом говно.
Никто не видел разум и добро.
Вот ядерная физика, к примеру:
Что атом есть и у него ядро,
Нам принимать приходится на веру.
Свинье не виден ход планет,
Морали не внушить удаву:
Как говорил еще Ландау,
Понять могу, представить — нет.
Христос идет по водам без следа,
И с точки зрения умников из рейха,
Все христианство — выдумка жида,
И атомная физика — еврейка.
Что твой рассудок починю —
Не верю, бедный мой эмпирик.
Нас всех в итоге растопырит,
Но мы хоть знаем почему.
+++
Мой дед, еврей московский,
С фашизмом воевал
И лег на Востряковской
На вечный свой привал.
И я воюю тоже
В рядах его полка,
Хоть мой привал, о Боже,
Далек еще пока.
Тогда мы победили —
И нынче победим,
И мир, спасен от гнили,
Предстанет невредим,
Очистится от срама,
Воспрянет по весне —
Хоть нынче, скажем прямо,
Никто не верит мне.
Мой дед пришел когда-то
Домой, в район Арбата,
И я вернусь домой,
Но верить трудновато,
Что участи солдата
Избегнет правнук мой.
Война — такое дело,
Она идет всегда.
Конечно, надоело,
Но деться-то куда?
Повсюду наши меты,
Приметы бытия.
История планеты —
История моя.
Катализатор, дрожжи,
Зигзаги, вензеля.
Везде от нашей дрожи
Вибрирует земля.
Мы при любом режиме —
Протестные слои.
Евреи всем чужие,
А Господу свои.
+++
Our city is crazy about the eclipse.
The carmen and barmen are waiting for tips.
The students are full of emotions.
The tourists are flying from south and north,
From Pittsbourgh, Toronto, New York, so forth —
From both surrounding oceans.
Our city is famous and known by each
For its University, ancient and rich,
For gardening, fishing and mothing,
For lilac, which crazily fragrants in May,
And is celebrated by special day,
But honestly speaking — for nothing.
Our city is tired of loud events,
Of industry, chemistry, factories, plants —
And no celebrities in it,
We’re quiet, abstaining of vanity race,
But now we shall be the only place
Where sun disappears for minute.
Eclipse is a breaking of daily routine.
It’s equally shocking for oldman and teen.
The toddlers are crying aloud,
The ravens are silent, the rabbits are still,
And maybe this shock is a reason to feel
Not only happy, but proud,
Like all our wavering crowd.
I rushed from the country of desecrate fame,
Of self-adoration and imminent shame,
I sleeplessly cry into cushion:
I’m Russian professor, relatively bright,
Without a minimal reason for pride
Of being half-jewish, but Russian.
I’m Russian, for all the colleagues to blame,
Who’s putting his brothers and kins into flame,
Who’s timid in all conversations,
Who is in a habit of quiet behave
Not only like servant, but even a slave;
Whose only virtue is patience.
But now, like Rochester, city in fall
I’m listening something like desperate call
Of pride, motivation and fever —
Like rocket, intruding the airless space,
Because in eviction I present the place,
Where sun disappeared forever.
Flight #
Женщина в ярком свете, в багряном платье, в избытке сил,
С яростными глазами, где отсвет рая и блики ада,
Полная грозным счастьем, как раз такая, как я просил,
Полная тайной злости, что этих сил никому не надо,
Сколько бы вышло всякого: сладость, гадость, нелепость, месть.
Сколько бы лютой радости, грусти детской, тоски предсмертной,
Сколько освобождения всей пестроты, что в запасе есть,
А не одной расцветки, закатной или рассветной.
Чемодан везущая, леденец катающая во рту,
Бронзовая, фарфоровая, свинцовая, золотая,
Движется мне навстречу по эскалатору в аэропорту.
Мы ничего не сделаем: мой самолет взлетает.
Грозно зияют каньоны, ползут разломы, молчат поля,
Тень от крыла все шире, закатным блеском горят озера,
Тучи клубятся справа и тлеют слева. Лежит земля,
Полная страсти, доблести, тщеславия и позора.
К ней поднести бы спичку, промолвить строчку, припасть всерьез —
Вспыхнут горючие залежи, сера ада и мускус рая,
Явятся бездны мерзости, пики дерзости, блики слез,
Будет продемонстрирован полный максимум в оба края.
Вырвется жар желания, страх рождения, жажда зверств,
Вдаль зазмеятся трещины, вспять побежит водица,
Время расставить брашна, еще бы не страшно: уже я здесь.
Ты никуда не денешься: мой самолет садится.
Песнь песнейПоэма
Он любил красногубых, насмешливых хеттеянок… желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности… дев Бактрии… расточительных аммонитянок… женщин с Севера, язык которых был непонятен… Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.
А. И. Куприн, «Суламифь»
Часть первая
1.
Что было после? Был калейдоскоп,
Иллюзион, растянутый на годы,
Когда по сотне троп, прости за троп,
Он убегал от собственной свободы —
Так, чтоб ее не слишком ущемить.
А впрочем, поплывешь в любые сети,
Чтоб только в одиночку не дымить,
С похмелья просыпаясь на рассвете.
Здесь следует печальный ряд химер,
Томительных и беглых зарисовок,
Пунктир. Любил он женщин, например,
Из околотусовочных тусовок,
Всегда готовых их сопровождать,
Хотя и выдыхавшихся на старте;
Умевших монотонно рассуждать
О Борхесе, о Бергмане, о Сартре,
Вокзал писавших через «ща» и «ю»,
Податливых, пьяневших с полбокала
Шампанского или глотка «Камю»*;
Одна из них всю ночь под ним икала.
Другая не сходила со стези
Порока, но играла в недотроги
И сочиняла мрачные стихи
Об искусе, об истине, о Боге,
Пускала непременную слезу
В касавшейся высокого беседе
И так визжала в койке, что внизу
Предполагали худшее соседи.
Любил он бритых наголо хиппоз,
В недавнем прошлом — образцовых дочек,
Которые из всех возможных поз
Предпочитают позу одиночек,
Отвергнувших семейственный уют,
Поднявшихся над быдлом и над бытом…
По счастью, иногда они дают
Тому, кто кормит, а не только бритым.
Они покорно, вяло шли в кровать,
Нестираные стаскивая платья,
Не брезгуя порою воровать —
Без комплексов, затем, что люди братья;
Угрюмость, мат, кочевья по стране,
Куренье «плана», осознанье клана,
Худой рюкзак на сгорбленной спине,
А в рюкзаке — кирпич Валье-Инклана.
Любил провинциалок. О распад!
Как страшно подвергаться их атаке,
Когда они, однажды переспав,
Заводят речи о фиктивном браке,
О подлости московской и мужской,
О женском невезении фатальном —
И говорят о Родине с тоской,
Хотя их рвет на Родину фонтаном!
Он также привечал в своем дому
Простушек, распираемых любовью
Безвыходной, ко всем и ко всему,
Зажатых, робких, склонных к многословью,
Кивавших страстно на любую чушь,
Не знающих, когда смеяться к месту…
(Впоследствии из этих бедных душ
Он думал приискать себе невесту,
Но спохватился, комплексом вины
Измаявшись в ближайшие полгода:
Вина виной, с другой же стороны,
При этом ущемилась бы свобода.)
Любил красоток, чья тупая спесь
Немедля затмевала обаянье,
И женщин-вамп — комическую смесь
Из наглости и самолюбованья,
Цветаевок — вся речь через тире,
Ахматовок — как бы внутри с аршином…
Но страшно просыпаться на заре,
Когда наполнен привкусом паршивым
Хлебнувший лишка пересохший рот.
(Как просится сюда «Хлебнувший лиха!»)
Любой надежде вышел окорот.
Все пряталки, все утешенья — липа.
Как в этот миг мучительно ясна
Отдельность наша вечная от мира,
Как бýхает не знающая сна,
С рождения заложенная мина!
Как мы одни, когда вполне трезвы!
Грызешь подушку с самого рассвета,
Пока истошным голосом Москвы
Не заорет приемник у соседа
И подтвердит, что мир еще не пуст.
Не всех еще осталось звуков в доме,
Что раскладушки скрип и пальцев хруст.
Куда и убегать отсюда, кроме
Как в бедную иллюзию родства!
Неважно, та она или другая:
Дыхание другого существа,
Сопение его и содроганья,
Та лживая, расчетливая дрожь,
И болтовня, и будущие дети —
Спасение от мысли, что умрешь,
Что слаб и жалок, что один на свете…
Глядишь, возможно слиться с кем-нибудь!
Из тела, как из ношеной рубахи,
Прорваться разом, собственную суть —
Надежды и затравленные страхи —
На скомканную вылить простыню,
Всей жалкой человеческой природой
Прижавшись к задохнувшемуся ню.
Пусть меж тобою и твоей свободой
Лежит она, тоски твоей алтарь,
Болтунья, дура, девочка, блядина,
Ничтожество, мучительница, тварь,
Хоть и на миг, а все же плоть едина!
Сбеги в нее, пока ползет рассвет
По комнате и городу пустому.
По совести, любви тут близко нет.
Любовь тут ни при чем, но это к слову.
2.
…Что было после? Был калейдоскоп,
Иллюзион. Паноптикум скорее.
Сначала — лирик, полупьяный сноб
Из странной касты «русские евреи»,
Всегда жилец чужих квартир и дач,
Где он неблагодарно пробавлялся.
Был программист — угрюмый бородач,
Знаток алгола, рыцарь преферанса,
Компьютер заменял ему людей.
Задроченным нудистом был четвертый.
Пришел умелец жизни — чудодей,
Творивший чудеса одной отверткой,
И дело пело у него в руках,
За что бы он ни брался. Что до тела,
Он действовал на совесть и на страх —
Напористо и просто, но умело.
Он клеил кафель, полки водружал,
Ее жилище стало чище, суше…
Он был бы всем хорош, но обожал
Чинить не только краны, но и души.
Она была достаточно мудра,
Чтоб вскоре пренебречь его сноровкой
Желать другим активного добра
И лезть в чужие жизни с монтировкой.
Потом — прыщавый тип из КСП,
Воспитанный «Атлантами» и «Снегом».
Она привыкла было, но в Москве
Случался он, как правило, пробегом
В Малаховку с каких-нибудь Курил.
Обычно он, набычившись сутуло,
Всю ночь о смысле жизни говорил,
При этом часто падая со стула.
Когда же залетела — был таков:
Она не выбирала сердобольных.
Мелькнула пара робких дураков —
По имиджу художников подпольных,
По сути же бездельников. Потом
Явился тощий мальчик с видом строгим —
Он думал о себе как о крутом,
При этом был достаточно пологим
И торговал ликерами в ларьке.
Подвальный гений, пьяница и нытик,
Неделю с нею был накоротке;
Его сменил запущенный политик,
Борец и проч., в начале славных дел
Часами тусовавшийся на Пушке.
Он мало знал и многого хотел,
Но звездный час нашел в недавнем путче:
Воздвиг на Краснопресненской завал —
Решетки, прутья, каменная глыба…
Потом митинговал, голосовал,
В постели же воздерживался, ибо
Весь пар ушел в гудок. Одной ногой
Он вечно был на площади, как главный
Над равными. Потом пришел другой —
Он был на удивленье православный.
Со смаком говоривший «грех» и «срам» —
Всех православных странная примета, —
Он часто посещал ближайший храм
И сильно уважал себя за это.
Умея «контра» отличать от «про»
Во времена всеобщего распада,
Он даже делал изредка добро,
Поскольку понимал, что это надо,
А нам не все равно ли — от ума,
Прельщенного загробною приманкой,
От страха ли, от сердца ли… Сама
Она была не меньшей христианкой,
Поскольку всех ей было жаль равно:
Политика, который был неистов,
Крутого, продававшего говно,
Артистов, программистов, онанистов,
И кришнаита, евшего прасад,
И западника, и славянофила,
И всех, кому другие не простят
Уродств и блажи, — всех она простила.
(Любви желает даже кришнаит,
Зане, согласно старой шутке сальной,
Вопрос о смысле жизни не стоит,
Когда стоит ответ универсальный.)
Полковника (восторженный оскал),
Лимитчика (назойливое «Слухай!») —
И мальчика, который переспал
С ней первой — и назвал за это шлюхой,
Да кто бы возражал ему, щенку!
Он сам поймет, когда уйдет оттуда,
Что мы, мерзавцы, прячем нищету
И примем жалость лишь под маской блуда —
Не то бы нас унизила она.
Мы нищие, но не чужды азарта.
Жалей меня, но так, чтобы сполна
Себе я победителем казался!
Любой пересекал ее порог
И, отогревшись, шел к другому дому.
Через нее как будто шел поток
Горячей, жадной жалости к любому:
Стремленье греть, стремленье утешать,
Жалеть, желать, ни в чем не прекословить,
Прощать, за нерешительных — решать,
Решительных — терпеть и всем — готовить.
Беречь, кормить, крепиться, укреплять,
Ночами наклоняться к изголовью,
Выхаживать… Но это все опять
Имеет мало общего с любовью.
3.
Что было после? Был иллюзион,
Калейдоскоп, паноптикум, постфактум.
Все кончилось, когда она и он
Расстались, пораженные. И как там
Ни рыпайся — все призраки, все тень.
Все прежнее забудется из мести.
Все главное случилось перед тем —
Когда еще герои были вместе.
И темный страх остаться одному,
И прятки с одиночеством, и блядки,
И эта жажда привечать в дому
Любого, у кого не все в порядке, —
Совсем другая опера. Не то.
Под плоть замаскированные кости.
Меж тем любовь у них случилась до,
А наш рассказ открылся словом «после».
Теперь остался беглый пересказ,
Хоть пафоса и он не исключает.
Мир без любви похож на мир без нас —
С той разницей, что меньше докучает.
В нем нет системы, смысла. Он разбит,
Разомкнут. И глотаешь, задыхаясь,
Распавшийся, разъехавшийся быт,
Ничем не упорядоченный хаос.
Соблазн истолкований! Бедный стих
Сбивается с положенного круга.
Что толковать историю двоих,
Кому никто не заменил друг друга!
Но время учит говорить ясней,
Отчетливей. Учитывая это,
Иной читатель волен видеть в ней
Метафору России и поэта.
Замкнем поэму этаким кольцом,
В его окружность бережно упрятав
Портрет эпохи, список суррогатов,
Протянутый между двумя «потом».
Я научился плавать и свистеть,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И ничего на свете не хотеть,
Как только продвигаться понемногу
По этому кольцу, в одном ряду
С героями, не названными внятно,
Запоминая все, что на виду,
И что во мне — и в каждом, вероятно:
Машинку, стол, ментоловый «Ковбой»,
Чужих имен глухую прекличку
И главное, что унесу с собой:
К пространству безвоздушному привычку.
1993
Часть вторая
А то вот был еще такой типаж,
Такая дева с травмой или драмой,
Красавица, при ней имелся паж,
Имелся круг, служивший как бы рамой,
Но главное, при ней имелся миф,
Ее младую жизнь переломив.
В недавнем прошлом некто роковой,
Несчастный и таинственный мужчина —
Любовь ее накрыла с головой
И головы навек ее лишила.
Назло природе, выгоде, уму
Она была привязана к нему.
Он старше был на десять-двадцать лет,
Невротик и блядун, как Вуди Аллен,
Но не насмешник, нет, не чмошник, нет.
Он был небрит, непризнан, гениален,
Озлоблен, как любая из теней,
И эту злобу вымещал на ней.
Он вел занятья, студию, ЛИТО,
Его талант никто не мог измерить —
Он сам себя назначил, и никто
Не мог проверить. Приходилось верить.
Аскет превыше быта и вина:
Его играли свита — и она.
Он мало в ней нуждался. Ни восторг