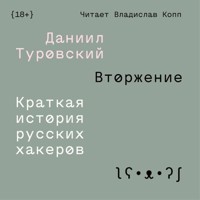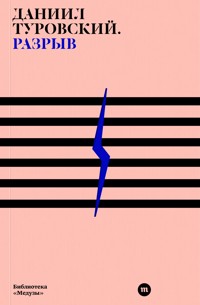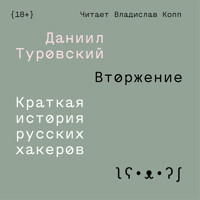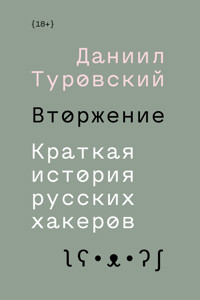
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Individuum
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Russisch
Летом 2016 года неизвестные выложили в интернет переписку высших чинов Демократической партии США — и российские хакеры, предположительно работающие на Кремль, моментально превратились в один из главных сюжетов мировой политики. Спецкор "Медузы", обладатель премии GQ в номинации "Журналист года" и четырех премий "Редколлегия" Даниил Туровский к тому времени писал об этих людях уже несколько лет: одни из них публиковали архивы почты российских чиновников, другие взламывали госсайты сопредельных стран по просьбе спецслужб, третьи просто зарабатывали миллионы, воруя их по всему миру. "Вторжение" — самая полная история российских хакеров: от советских матшкол и постсоветской нищеты к мировой кибервойне и транснациональным преступным группировкам. Книга описывает новый тип власти — но, как показывает Туровский, люди, которые обладают этой властью, сталкиваются все с теми же моральными дилеммами, выбирая между тюрьмой и сумой, чувством и долгом, добром и злом.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Даниил Туровский
Вторжение. Краткая история русских хакеров
Под редакцией Александра ГорбачеваИздательство IndividuumМосква, 2019
Оглавление
Предисловие
Пролог Первый беженец кибервойны
Часть I Корни
Глава 1 Территория свободы
Глава 2 Как обидеть тетю Асю
Глава 3 Сомнения стали страстью
Глава 4 Школьники взламывают NASA
Глава 5 Школа для взломщиков
Глава 6 Выпускник
Часть II Деньги
Глава 7 Планета хакеров
Глава 8 Диссидент из Крыма
Глава 9 Белорусский Али-Баба
Глава 10 Авантюрист с Tesla
Глава 11 Псих
Глава 12 Стартапер
Глава 13 Спортсмен
Глава 14 Адвокат
Глава 15 Затаившиеся
Глава 16 Сыщики
Глава 17 Черный рынок
Глава 18 Главный спамер России
Часть III Власть
Глава 19 Медвежонок из КГБ
Глава 20 Хакеры-патриоты
Глава 21 Остановить Грузию
Глава 22 Хакеры против либералов
Глава 23 Электричество кончилось
Глава 24 Взломщики на госслужбе
Глава 25 Доктрина Герасимова
Глава 26 Наука мракобесов
Глава 27 «Квант» и «Галилей»
Глава 28 Солдаты криптографии
Глава 29 Юные программисты ФСБ
Часть IV Война
Глава 30 Модный медведь
Глава 31 «Орки» со товарищи
Глава 32 Чистосердечное признание
Глава 33 Моя цифровая оборона
Глава 34 Всемирный вымогатель
Глава 35 За нами следят
Глава 36 Анонимы против государства
Глава 37 Бангкокский связной
Благодарности
Глоссарий
Примечания
Landmarks
Body Matter
Title Page
Cover
Table of Contents
Моим родителям — за то, что научили любопытству
Предисловие
История русских хакеров — это история подростков всего бывшего СССР. Они росли в семьях советских инженеров, в юности читали киберпанк и научную фантастику, покупали на рынках клоны компьютеров IBM — и вдруг оказывались на хакерских форумах, которые часто заменяли им тоскливую русскую жизнь за окном: грязные улицы, бедность, пустое и пугающее в своей неопределенности будущее.
Пока в США рос экономический пузырь доткомов, хакеры запустили в России свою золотую лихорадку: воровство американских кредиток, взлом счетов банков и интернет-магазинов приносили многим миллионы долларов. Кто-то, боясь бандитов или государства, тщательно прятал их — вкладывая в цветочные магазины или пункты шиномонтажа; другие покупали особняки и дорогие спортивные машины; третьи обзаводились домами за границей и уезжали туда, где краски ярче, чем те, что они привыкли видеть за окном, — на Мальдивы, Кипр, в Израиль.
Биографии этих людей часто похожи на остросюжетные боевики. Когда я разговаривал с ними о прошлом, мне часто казалось, что все их проделки были не только ради денег — они как будто хотели стать героями книг и фильмов вроде тех, которые они так любили в детстве.
В юности я много читал журнал «Хакер», который то и дело советовал, как что-нибудь взломать, — все это напоминало обновленную для нового времени «Поваренную книгу анархиста». Я рос в семье, где у каждого был компьютер, а программирование приветствовалось; вечерами изучал коды сайтов — и пробовал их взламывать. В пятнадцать я раздумывал о том, чтобы пойти после школы учиться на факультет информационной безопасности — а потом, возможно, работать в ФСБ. К счастью, эти раздумья продлились недолго: вскоре я всерьез увлекся текстами, историями, журналистикой.
Тем не менее полутайное хакерское сообщество, попасть в которое мне так и не удалось, время от времени напоминало о себе. Сначала у знакомых взламывали соцсети и просили денег. Позже уже мои собственные аккаунты из-за работы репортером в России атаковали прогосударственные хакеры.
Эта книга про выбор — и про те пути, которые выбирали люди, которые стали частью хакерской субкультуры. Пока одни оставались романтиками и не думали о деньгах (часть I), другие богатели (часть II); когда пришло время обустраивать отношения с государством, кто-то начал работать на него, а кто-то — против (части III и IV).
Книга основана на текстах, которые я в течение последних лет писал для «Медузы» (meduza.io), одного из немногих независимых российских изданий, но не ограничивается ими. Большую часть материалов я собирал в свободное от работы время, изучая форумы, интернет-архивы, книги, встречаясь с хакерами или — чаще — разговаривая с ними в зашифрованных чатах. Я называю этих людей «русскими хакерами», потому что русскоязычное хакерское сообщество осталось единым: россияне, украинцы, белорусы и выходцы из других стран бывшего СССР росли на одних форумах, создавали совместные группировки и продолжали взламывать свои цели вместе, даже когда их государства вели друг с другом войну.
В чем-то эта книга — путеводитель по миру русскоязычных хакеров с последних лет СССР до нынешних времен; в чем-то — энциклопедия главных лиц; в чем-то — расследование о том, как российские власти построили одни из самых боеспособных кибервойск в мире. В книге много отдельных человеческих историй — по ним можно представить себе, в какой обстановке росли хакеры и что определило их дальнейшую судьбу.
В конце концов, это рассказ о том, как незнакомцы, сидящие за компьютерами, могут ссорить между собой страны, разрушать критическую инфраструктуру (например, отключать электричество в целых регионах) и убивать, не ведя при этом никаких боевых действий и не зная своих жертв.
Пролог Первый беженец кибервойны
22 августа 2015 года бородатый мужчина в очках зашел с двумя рюкзаками в здание Ленинградского вокзала в Москве. Он прошел к кассам, где купил билет на ближайший «Сапсан» — поезд-экспресс, за 4 часа доезжающий до Санкт-Петербурга.
По прибытии мужчина поспешил к стоящим неподалеку от вокзала маршруткам. Он вырос в Петербурге и знал: микроавтобус до Хельсинки — самый дешевый и незаметный способ попасть из России в Европу. Билет стоит 800 рублей; путь занимает 8 часов, которые путешественник проводит в окружении бедных студентов и спекулянтов, везущих из России в Финляндию сигареты, а обратно — бытовую химию.
Через несколько часов мужчина перешел финскую границу и наконец немного выдохнул. Пока его план удавался: он наверняка сбросил хвост. Он все хорошо продумал: не полетел на самолете, потому что его бы задержали на паспортном контроле; билет на поезд покупал не в интернете, а прямо в кассе на вокзале. Мужчина вспомнил свой предыдущий побег из привычной жизни: десять лет назад он проезжал на троллейбусе мимо вокзала в Петербурге и спонтанно решил переехать в Москву к своей девушке. Вышел на следующей остановке, купил билет на поезд — и уехал на нем навсегда. С девушкой они потом поженились.
В Хельсинки мужчина сел на паром до Стокгольма, а в Швеции обратился к местным правозащитникам, попросив помочь с политическим убежищем. Те отправили его обратно в Финляндию: по европейскому законодательству просить убежище можно только в той стране, через которую человек въехал в Евросоюз.
Вернувшись в Хельсинки, бородатый мужчина нашел помещение с вай-фаем и написал письмо на общую редакционную почту «Медузы», где я работал специальным корреспондентом. Его почтовый адрес по-русски выглядел бы как «Мертваярука1984» — это отсылало одновременно и к антиутопии Джорджа Оруэлла, и к системе «Периметр», комплексу автоматического управления ответным ядерным ударом, созданному в СССР в разгар холодной войны. В Америке «Периметр» называли «Мертвой рукой»: система была придумана так, чтобы запустить ядерные бомбы, даже если все, кто мог это сделать вручную, к тому времени были бы убиты.
В письме мужчина представился Александром Вярей, одним из руководителей Qrator Labs — российской компании, занимающейся защитой от DDoS-атак [***]. Он рассказал, что российские чиновники и спецслужбы интересуются кибероружием, а он сам был свидетелем того, как оно применялось по распоряжению государства.
«Сейчас, когда в РФ обстановка накаляется, я опасаюсь, что меня могут „припахать“ заниматься организацией атак, так как я уже „в теме“, и я принял решение поставить общественность в известность, — писал Вяря (здесь и далее в цитатах героев сохранены авторские особенности орфографии и пунктуации). — Я считаю, что граждане должны знать, на что тратятся деньги в условиях кризиса. И КТО занимается этими грязными делами. Это не какие-то мелкие жулики. Если раньше все только догадывались, то теперь у вас есть доказательства:) Чтобы меня внезапно не переехала машина, например, мне пришлось покинуть страну. Это решение мне далось очень нелегко, я, считай, потерял хорошую работу, уезжаю от семьи просто в никуда. Плюс сейчас всякие шлюхи вроде Lifenews будут меня „мочить“».
Я ответил, что хотел бы подробнее узнать его историю и встретиться лично. Наш разговор сразу же перешел в секретный чат в Telegram — в России 2015 года уже массово начали пользоваться защищенными чатами, понимая, что российские спецслужбы могут слушать и читать открытые каналы, хотя по закону и должны сначала получить на это разрешение суда.
— Как быстро вы сможете приехать? Собираюсь идти сдаваться и просить защиты, — написал Вяря.
— Послезавтра?
— Оу.
— Долго?
— Нужно остановиться где-то сначала.
— Могу и завтра попробовать.
— Ох, я постараюсь найти какой-нибудь отель, у меня всего 4к на карте осталось.
Вяря остановился в общей комнате одного из городских хостелов. Хельсинки — дорогой город, но ему повезло и он нашел ночлег за 20 евро в сутки. На следующее утро, когда я садился в самолет, я получил от него сообщение: «Непередаваемый экспириенс с хостелом, я впервые. Храпят, говорят во сне, ворочаются всю ночь».
Вскоре мы встретились у торгового центра неподалеку от набережной. Вяря стоял около дверей, нервно оборачиваясь и выглядывая меня среди переходящих через трамвайные пути. Все вещи — два рюкзака — были у него с собой. Мы зашли в ближайшее кафе, заказали кофе, и он начал рассказывать о том, что с ним произошло.
***
Александр Вяря родился в середине 1980-х в ленинградской коммуналке и рос без отца. Когда ему было двенадцать, он увлекся компьютерами — сначала видеоиграми, потом программированием и «железом». Первой его работой была должность системного администратора в компании его двоюродного дяди. Социальные сети тогда только начинали появляться, но аккаунты в них Вяря не заводил принципиально: не хотел оставлять никаких следов в интернете.
Переехав в Москву, он поработал сетевым инженером в нескольких хостинг-компаниях [***]. В 2012 году он обнаружил на одном из профильных форумов интересную вакансию — и после пары тестовых заданий его взяли в компанию Qrator, специализирующуюся на защите от DDoS-атак.
К тому времени она уже лидировала на рынке: среди ее клиентов были и многие независимые СМИ (телеканал «Дождь», «Новая газета», «Ведомости»), и банки («Альфа», «Тинькофф»), и интернет-магазины («Юлмарт», Lamoda). По словам Вяри, их услугами даже однажды воспользовался интернет-магазин по продаже кедровых бочек; что удивительно — именно на него была совершена самая серьезная атака за все время его работы в компании. «В России популярно сводить счеты с конкурентами с помощью DDoS-атак, некоторым магазинам один день простоя стоит закрытия», — объяснял он. Такие атаки стоят очень дешево (около 3 тысяч рублей в сутки) и могут при этом вывести незащищенный сайт из строя, что приведет к серьезным убыткам.
Вяря работал в техподдержке и постоянно отвечал на звонки клиентов. Нередко в Qrator обращались те, кто недоволен тем, что она защищает в том числе оппозиционные сайты. Весной 2012-го — накануне инаугурации президента Владимира Путина — прогосударственные хакеры-патриоты атаковали сайты «Эха Москвы», «Коммерсанта» и «Дождя» — все они были клиентами Qrator. «Зачем же вы защищаете евреев?» — сказал Вяре один из позвонивших в тот день.
Во время выборов мэра Москвы в 2013 году Qrator защищал сайт Алексея Навального: оппозиционный политик выдвинул свою кандидатуру и вел успешную кампанию. В какой-то момент Вяря заметил возле офиса компании фургон с тонированными стеклами и антеннами на крыше. В следующие дни он появлялся там почти каждый день. Выходя на обед, сотрудники Qrator пытались заглянуть в фургон и шутили, что тем, кто их прослушивает, надо бы принести пончики.
«Саша — талантливый человек, но очень впечатлительный и с тараканами в голове, — сказал мне его бывший начальник Александр Лямин. — Когда слишком долго работаешь в информационной безопасности, начинаешь меняться, начинаешь во всем видеть угрозу себе».
Так или иначе, к 2015 году Вярю повысили до руководителя службы эксплуатации. Он начал часто ездить за границу: приходилось посещать дата-центры, расположенные в европейских странах, чтобы устанавливать программное обеспечение, способное работать при больших нагрузках — во время атак. В Qrator такие серверы с фирменным ПО называют «центрами очистки трафика». Они помогают окружать сайты клиентов виртуальным «забором» с «пограничными пунктами», которые отфильтровывают здоровый трафик от паразитного.
Тогда же компания начала подготовку к открытию первого зарубежного отделения в Праге. Всем сотрудникам делали рабочие визы. Возглавить филиал должен был Вяря.
3 февраля 2015 года генеральному директору Qrator Александру Лямину позвонил Вартан Хачатуров, заместитель главы департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи. Хачатуров попросил кого-то из сотрудников компании помочь чиновникам с одним «щекотливым вопросом». Кроме Вяри помогать было некому: все разъехались по конференциям.
Хачатуров связался с Вярей и оставил номер телефона, на который тот отправил сообщение. Ближе к вечеру раздался звонок: звонил некий Василий Бровко. Вяря понятия не имел, кто это. Бровко сказал ему, что через пару дней им вместе необходимо слетать в столицу Болгарии, Софию; все необходимые документы оформит его помощница.
Вяря поискал в интернете информацию о Бровко и схватился за голову. Больше всего ему запомнилось, что тот основал компанию «Апостол», которую Алексей Навальный весной 2013 года обвинял в том, что она с помощью ботов [***] раскручивала соцсети «Аэрофлота». В последнее время Бровко работал начальником департамента коммуникаций в «Ростехе» — госкорпорации, созданной для производства высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения. Руководил ею Сергей Чемезов, близкий знакомый Владимира Путина.
Вяря предположил, что от него хотят помощи по его профилю — выбрать новую систему защиты от DDoS. Но удивился, что позвали в Болгарию: известные производители соответствующего программного обеспечения находятся в Израиле и Штатах.
5 февраля 2015 года он прилетел в Софию. Отправил сообщение Бровко; тот ответил, что встреча состоится во второй половине дня. Вяря погулял по центру, потом подошел к назначенному месту — помпезному стеклянному зданию Grand Hotel Sofia.
Вскоре появился Бровко. В одной руке у него был смартфон российского производства, а в другой айфон; он постоянно что-то на них набирал. Вяря поприветствовал Бровко и сказал, что София — удивительно небольшой город. «Помойка», — бросил Бровко в ответ.
Следом появились двое мужчин. Они оказались сотрудниками местной компании Packets Teсhnologies (сайт [1] компании скромно сообщает, что организация специализируется на «разработке передовых сетевых технологий»). Бровко сказал Вяре, что нужно сходить в офис компании: «посмотреть продукт» и высказать свое мнение.
Офис располагался неподалеку. В переговорной один из сотрудников Packets Technologies включил презентацию, а заодно рассказал о себе: работал в израильской армии, консультировал по сетевой безопасности крупнейшие интернет-компании, участвовал в Black Hat (главная мировая конференция по информационной безопасности, на которую приезжают и представители IT-корпораций, и хакеры).
После этого сотрудник болгарской компании, как утверждает Вяря, заявил: «Сейчас я вам представлю продукт для организации DDoS-атак». Названия у программного обеспечения не было. Сотрудник добавил, что «продукт» умеет организовывать DDoS-атаки на сетевом уровне. Такие атаки «забивают» ресурсы сервера паразитными пакетами, из-за чего система перестает принимать полезные пакеты трафика.
Система представляла собой небольшое устройство — «коробку» с программным обеспечением, установленную на одном из трафикообменников [***]. Для «продукта» была выделена специальная полоса с максимальной мощностью в 10 Гбит / с. Специалисты Packets Technologies добавили: система позволяет совершать «коктейльные» — то есть смешанные по типам — атаки, которые труднее всего отражать; кроме того, можно легко увеличить трафик, установив еще одну «коробку». В 2010 году атака силой 10 Гбит / секунду была совершена на серверы Wikileaks; мощность крупнейшей DDoS-атаки [2] в истории интернета — голландский хостер Cyberbunker против компании Spamhaus — достигала 300 Гбит / секунду: как писали в The New York Times, она «замедлила интернет».
Закончив с теоретической частью, сотрудник компании запустил VPN-соединение [***] и Tor-браузер [***], обеспечив себе анонимность (начало такой атаки отследить практически невозможно). Набрал в браузере IP-адрес [***] — открылась страница с крайне простым интерфейсом. Наверху размещалась адресная строка, ниже — около десятка названий подвидов DDoS-атак, рядом с каждой — пустая ячейка, которую можно отметить галочкой. Внизу — кнопка для выбора мощности атаки: от 100 мегабит до 10 гигабит в секунду. «Можно не на всю катушку, если жертве достаточно поменьше», — поясняет Вяря.
Сотрудники компании ввели в строке интерфейса адрес сайта министерства обороны Украины. В соседнем окне открыли страницу сервиса, по которому можно определять работоспособность сайтов. Затем включили программу в полную силу. Возник график, показывающий мощность атаки — вскоре она достигла 10 Гбит / с. Сервис работоспособности показал, что сайт недоступен. Его попробовали открыть в браузере, но он не загрузился. Через пару минут атаку остановили и сайт снова стал открываться.
Потом они попробовали атаковать сайт украинского министерства обороны на мощности в 100 Мбит / с — он снова перестал работать.
«Давайте проверим на slon.ru», — предложил Бровко, до этого молчавший (я воспроизвожу его реплику со слов Вяри). «Слон» (сейчас называется Republic), одно из самых популярных независимых новостных СМИ в России, атаковали на мощности 10 Гбит / с. Сайт перестал открываться и лежал несколько минут. Позже тогдашний главный редактор «Слона» Максим Кашулинский подтвердил мне, что 5 февраля 2015 года они зафиксировали атаку, которая на две минуты обрушила сайт.
«А что, если сайты пользуются защитой? Пробьете?» — спросил Вяря. Ему ответили, что в этом случае придется узнавать реальный адрес сервера (все сервисы защиты пропускают атаку через себя, а реальный адрес сервера маскируют), но у Packet Technologies есть соответствующая методика. Вяря уточнил, сколько стоит система; по его словам, Бровко ответил: «Около миллиона долларов».
После встречи Вяря и Бровко отправились в Grand Hotel Sofia. Сели в лобби, взяли кофе. Вяря вспоминает, что Бровко больше всего интересовало, как найти реальный адрес сайта и на каких трафикообменниках лучше всего ставить такую систему. Через некоторое время сотрудник «Ростеха» якобы сказал: «Ну что, нам нужен кто-то, кто будет этим управлять». Вяря поперхнулся и сказал: «Нет, извините. Я не хакер. Это против моих принципов, и это противозаконно». Бровко, по словам Вяри, спросил: «Ты знаешь, какая организация тебя сюда пригласила?» Вяря предположил, что он намекает на ФСБ, но вслух сказал, что впредь готов только отвечать на вопросы по технической части. Они добавили друг друга в Telegram и разошлись.
Вяря, по его словам, был шокирован произошедшим. Он сразу написал обо всем своему начальнику Лямину — тот рекомендовал «остаться максимально в стороне». На следующий день, 6 февраля, Вяря вернулся в Москву.
Вяря предоставил мне скриншоты дальнейших переписок с Бровко и свои с начальством. Сотруднику «Ростеха» он написал несколько сообщений с советами по технической части. В частности, порекомендовал использовать для системы голландские трафикообменники, где «проходят терабиты трафика — и на десяток гигабит не обратят внимания». Бровко ответил коротко: «Спасибо. Изучаю».
5 марта 2015 года Вяре написала помощница Бровко, сообщила, что тот просит о встрече: «На Патриарших прудах. Это не конкретное заведение, просто прогулка». Через несколько часов Вяря ответил, что этот вопрос нужно решать с его руководством. Тогда ему написал уже сам Бровко.
Привет. Мы же вроде договаривались иногда общаться без вовлечения твоего руководства.Сможем сег повидаться?
Вяря:
Приветшеф просит через него решитькак он скажет
Бровко:
НуууЗачем?
Вяря:
он очень недоволен что через голову прыгают, обычно Вартан [Хачатуров] ему звонит и с ним обсуждаета я человек подневольный и без одобрения шефа не могу
Бровко:
Ну ты скажи, что кофе выпить выйдешь
Вяря:
к сожалению, не могу: (
Бровко:
Не прав, но ладноДай номер шефа своего
Лямину все это не понравилось. Он завел в Telegram чат под названием «WTF», куда пригласил Вярю, Бровко и Хачатурова.
Лямин:
Коллеги.День добрый.Сказать что я взбешен — это ничего не сказать.
Хачатуров:
Привет
Лямин:
Вартан, я всегда рад помочь тебе. Ты знаешь. Но когда к моим сотрудникам начинают лезть через мою голову — Я ПРОТИВ
Хачатуров:
Я честно говоря думал, что это разовая история:)
Лямин:
Я согласился помочь с Софией. Ни больше, ни меньше. Весь остальной «креатив» мной санкционирован не был. <…>. Ждем комментариев и объяснений Василия Бровко.
Хачатуров:
Коллеги, давайте только спокойно:)
Лямин:
я спокойно в бешенстведжентльмены так не поступают.
Бровко:
Не понимаю о чем речь в целом. Мне Денис [Вяря не знает, кто это такой. — Прим. Авт.] сказал, что вы мой консалтинг в очень щекотливом вопросе. Нет, так нет
Хачатуров:
Василий, просто Денис не сказал, что это длящаяся работа, а не разовая помощь:)
Бровко:
Разовая помощь15 мин хотел
Хачатуров:
Мне кажется, это тогда не проблема, Саш
Лямин:
Я не знал что это 15 минут и зачем эти 15 минут
Хачутуров:
Просто нужно с тобой согласовать
Лямин:
В любом случае это мой сотрудник рабочее время которого оплачиваю я.о чем вообще речь?есть мой контакт — со мной и работайте.дело не в том что 15 минут. дело в том что с людьми на моей зарплате общаются через мою голову. это недопустимо.
Хачатуров:
Ладно, Саш, успокойся, пожалуйста. Это недоразумение, и мы его уже урегулировали:)
Лямин:
Надеюсь меня услышали и поняли.
По словам Вяри, после этого Бровко и его сотрудники больше к нему не обращались.
***
Я написал Василию Бровко на номер в Telegram, с которого тот предлагал Вяре встретиться для обсуждения кибератак. Он почти сразу же ответил, что «был в Болгарии для анализа системы защиты от киберугроз, а не для совершения таковых». «Не буду комментировать обвинения за рамками здравого смысла и не имеющие связи с реальностью, — добавил Бровко. — „Ростех“ постоянно подвергается кибератакам — с начала года на предприятия корпорации их было совершено свыше 11 тысяч».
Начальник Вяри Александр Лямин пригласил меня поговорить в офис Qrator Labs. Он оказался веселым разговорчивым бородачом в кедах и разноцветной футболке — и подтвердил, что Вяря ездил на встречу с Василием Бровко по просьбе Хачатурова из Минкомсвязи. «Речь шла вовсе не о системе для DDoS-атак, а о трафикогенераторе — системе, необходимой для проверки устойчивости сайтов к нагрузке, — сказал Лямин. — Да, скорее всего, был залп по „Слону“. Экспериментальный, на проверку. Нелегально? Это серая зона».
Лямин предположил, что Вяря чем-то обижен на его компанию и, возможно, рассказывая о заказе «Ростеха», выполнял заказ «Лаборатории Касперского», их главного конкурента. «В Финляндии доллары пригодятся», — сказал Лямин и отправил мне ссылку [3] на расследование Reuters о том, что Евгений Касперский призывал «мочить конкурентов». Он добавил, что не уверен, что Вяря «здоров».
Весной 2015 года сотрудников Qrator вовсю оформляли в Чехию. Вяря с семьей переехали из съемной квартиры в Чертанове в Бирюлево, чтобы немного сэкономить денег перед заграницей.
В конце мая Вяря обнаружил возле офиса знакомую машину — тот самый тонированный фургон с антеннами, который приезжал к зданию компании, когда Qrator обслуживал сайт Навального. Через несколько дней он увидел такой же автомобиль возле своего дома. Вяря говорит, что «начал параноить»: ему казалось, что он встречал одних и тех же людей в разных частях города. Он решил ездить из дома на работу разными маршрутами.
В последних числах июля Вяря сказал начальству, что не сможет ехать в Чехию, якобы потому что жена против. Тем не менее Лямин хотел, чтобы у сотрудников его компании были европейские документы: он посоветовал Вяре получить вид на жительство в Финляндии, где у сотрудника были родственники по отцовской линии. Для ВНЖ требовалось сдать экзамен на знание финского языка. Вяря взял отпуск, чтобы его подучить.
Параллельно, по словам Вяри, его знакомые рассказывали, что им продолжают интересоваться сотрудники «Ростеха» и спецслужбы, чтобы в конце концов привлечь к работе над кибероружием, раз он уже видел его в действии. Вяря и сам был уверен, что так и произойдет — или его «ударят по башке».
В августе 2015 года друзья со связями в спецслужбах посоветовали ему покинуть Россию. На следующий день он собрал вещи в два рюкзака и уехал в Хельсинки.
***
Ранним утром 25 августа 2015 года мы с Вярей пришли к полицейскому участку в Хельсинки, в котором он должен был заявить о том, что просит политическое убежище. Участок был еще закрыт; рядом ожидали несколько беженцев из Ирака. После короткого интервью и снятия отпечатков пальцев Вярю отправили в один из миграционных лагерей — трехэтажное здание недалеко от центра Хельсинки с бесплатной столовой. Внутри и вокруг дома ходили десятки иракцев и сирийцев, без остановки разговаривавших по телефону.
После заселения Вяря встретил беженца из Чечни. Тот рекомендовал ему беречь постиранные вещи: в лагере воруют. На следующий день он познакомился с парой из Сибири, скрывающейся от уголовного преследования, и интеллигентным сыном какого-то египетского министра. На третий день из лагеря увезли мужчину с подозрением на малярию. На четвертый день Вяре сказали, что после большого интервью с сотрудниками миграционной службы его, скорее всего, переведут в миграционный лагерь в 600 километрах к северу от Хельсинки — ждать решения по его делу.
Так и произошло. После этого в течение полутора лет Вярю переводили из одного лагеря в другой, периодически вызывая на дополнительные интервью. Его не сильно ограничивали в передвижениях; ему выплачивали пособие, на которое с трудом, но можно было жить.
Его историей заинтересовались в посольстве Украины в Финляндии — на встрече с украинцами Вяря рассказал, как проходила атака на сайт министерства обороны. «Ростех» и российские следственные органы на заявления Вяри никак официально не отреагировали.
***
В конце декабря 2016 года на первой полосе The New York Times вышла заметка о Вяре, основанная на материалах, которые я делал для «Медузы» (позже газета получит Пулитцеровскую премию за серию материалов о России, включая этот). В тексте его назвали «элитным хакером». Вяря удивился и написал мне: «Илитный хакир, блядь, что они несут?» После выхода статьи его в очередной раз вызвали на разговор финские спецслужбы — спросили, что он знает о российских хакерах и недавнем взломе энергетической системы Финляндии.
Летом 2017 года Вяря наконец получил политическое убежище в Финляндии. В начале сентября — через два года после его бегства из России — мы решили встретиться. Я его не узнал. Он похудел на 20 килограмм и выглядел как человек, сбросивший груз, который его долго мучал.
Как рассказывал Вяря, полтора года в финской миграционной системе дались ему непросто. Он даже пытался покончить с собой, но друзья вовремя вмешались и отвезли его в больницу, где он провел следующие несколько недель. Денег было мало, воссоединиться с семьей не получалось, допросы отнимали очень много времени; единственной отрадой была рыбалка, на которую он часто выезжал на велосипеде на целый день. Соседями Вяри по миграционным центрам в основном были иракцы и сирийцы, бежавшие от «Исламского государства» (запрещено на территории РФ. — Прим. ред.). Большинство сидели на антидепрессантах, у многих были ранения. Они часто принимали Вярю за сотрудника центра.
Купив пиво и травяную настойку, мы с Вярей дошли до одного из озер на окраине города: он где-то вычитал, что там хороший клев. «Я теперь уже как дома тут. Меня все устраивает, климат мой, — сказал программист. — Я будто и не в эмиграции уже, это моя новая жизнь». Открыв металлическую коробку и немного покопавшись в снастях, он закинул спиннинг в воду.
***
Несколько недель спустя встречи с Вярей в одном из московских кафе я услышал знакомый голос. Обернувшись, я увидел бывшего начальника Вяри, Александра Лямина. Он давал кому-то интервью и сначала меня не узнал, а когда я поздоровался с ним, отвел глаза. Когда он уходил, я поздоровался с ним еще раз — оказалось, что, когда я поздоровался в первый раз, он подумал, что разговаривает слишком громко и мешает мне работать.
Лямин сказал, что рад, что Вяре удалось наконец получить документы. По его словам, большая часть сотрудников компании уже переехала в Прагу: оттуда удобнее предоставлять услуги по защите от кибератак. В конце разговора он спросил: «Что ты думаешь про историю с Михайловым, ФСБ, госизменой?» (незадолго до того высокопоставленный сотрудник ФСБ, занимавшийся киберпреступностью, был арестован по обвинению в государственной измене). Оказалось, Лямин в последнее время много об этом размышлял.
История Вяри — редкий случай, когда человек открыто рассказал об интересе российского государства и спецслужб к кибероружию. Возможно, Вяря единственный, кто отказался работать над таким оружием — и смог исчезнуть без серьезных последствий (если, конечно, не считать таковыми полный отказ от прежней жизни, в том числе семьи).
К осени 2017 года Вяря сменил имя и фамилию на финские; переехал, поменял телефон, почту и Telegram. Сейчас он мечтает купить большую лодку, с которой можно ловить лосося, ходящего на большой глубине. Похожими вещами он занимается и на работе: он устроился в неправительственную организацию, которая следит за тем, как одни государства совершают кибератаки на другие.
Часть I Корни
Глава 1 Территория свободы
В 1992 году молодой житель Санкт-Петербурга Кирилл впервые попал [4] на рынок «Юнона» на юго-западной окраине города. Сформировалась толкучка еще в предыдущем десятилетии: вокруг магазина «Юный техник» собирались люди, которые продавали радиодетали, разложив их на тротуарах. С наступлением рыночной эпохи рядом отгородили территорию и поставили прилавки — при этом рынок сохранил свою специализацию: в основном там торговали электроникой и запчастями к ней. Одними из популярных предложений были 15-минутные сеансы игры на приставке Atari.
Как и многие петербуржцы, Кирилл купил на этом рынке свой первый компьютер — и сразу начал проводить за ним много времени. Через пару лет юноша ненадолго уехал в США, где как раз начал приобретать популярность интернет; в Калифорнии Кирилл открыл свой первый браузер. Вернувшись на родину, он заметил, что свой цифровой андеграунд постепенно зарождается и в России, и решил делиться с людьми полученными в США знаниями про то, что такое WWW, FTP [***] и IRC [***].
Вскоре Кирилл познакомился с другими первыми российскими любителями компьютеров и интернета. Себя они называли «сценой», их было около 30 человек, большинство жили в Москве и Петербурге. В 1995 году они впервые собрались на Enlight, фестивале любителей компьютеров; среди прочего там, например, проводился конкурс по метанию винчестера на дальность. Впрочем, в основном они встречали друг друга в IRC-чатах — и это общение многим заменяло обычное.
«Улицы России тогда были куда менее приветливыми, чем сегодня. Самой популярной темой для разговоров всегда была сама жизнь. Всё — от баб до космоса», — рассказывал один из представителей «сцены». — «Конкретных тем не было, фан заключался в том, что мы стали первыми в мире, кто использовал преимущества интернета для общения. Когда [в 1997 году] принцесса Диана разбилась — это произошло ночью, — на канале были люди отовсюду. И один из них жил в квартале от происшествия. Он сходил, посмотрел и, вернувшись, стал рассказывать о своих впечатлениях. А весь мир начал это обсуждать только через 8 часов, просмотрев выпуски новостей».
Одной из главных проблем в те годы было получить доступ к компьютеру: иногда это было непросто даже для тех, у кого они были дома. Программист Антон Мельников подробно вспоминал [5], на какие ухищрения ему и его другу Мише приходилось идти, чтобы играть в компьютерные игры, — например, прогуливать школу. Вначале они симулировали болезни и печатали справки на струйном принтере. «„Болеть“ дома я не мог, так как у нас жила бабушка, поэтому каждое утро приходилось мучительно вставать и переться как будто бы в школу. Иногда врал, что нужно ко второму-третьему уроку, но часто так делать было нельзя — палево, — рассказывал Мельников. — Вместо школы я шел к Мише, но была проблема: его дом был ровно напротив школы. Так как в этот момент все одноклассники и учителя тоже шли в школу, приходилось играть в шпиона: идти аккуратно, нарезать круги, прятаться за сугробами etc. Потом пасти, когда отец Миши свалит на работу».
Были и другие трудности. «Отец Миши увидел появляющуюся у него зависимость [от игр и интернета] и собрал чудо-девайс, который подавал электричество на комп только при наличии ключа, — вспоминает Мельников. — Миша ключ, конечно, спиздил и сделал копию». Когда отец друга, как-то вернувшись домой, обнаружил, что монитор горячий, он начал прятать провод питания — и тогда подростки купили замену. Потом отец Миши стал убирать монитор в кладовку. «Но и тут решение было найдено. У двери были большие зазоры, и мы просто научились снимать ее с петель, — продолжает Мельников. — Самая жесть случалась, когда кто-то звонил в дверь. Нужно было оперативно отключить монитор, оттащить его в кладовку и поставить дверь на место».
В итоге друзья прогуляли почти целую школьную четверть. «Разоблачение закончилось одним из самых стыдных моментов в моей жизни, — говорит Мельников. — Нас шеймили перед всем классом. И каждый следующий учитель делал это заново. Особенно их тронула подделка справок. Нам пророчили карьеру фальшивомонетчиков». Теперь он играл у себя дома по ночам, разработав сложную систему, которая отключала систему охлаждения компьютера, чтобы он не шумел и не вызывал подозрения у родителей. Недостаток у нее был один: техника перегревалась — и однажды Мельников проснулся от того, что в комнате стоял запах гари.
Только через некоторое время после этого у подростков появился доступ в сеть. «Платить за интернет на фоне моей опустившейся школьной успеваемости никто не хотел, но выход нашелся, — говорит Мельников. — У провайдера „Метаком“ появился „гостевой доступ“. Халявный пул, где можно было посидеть в местном IRC и поюзать фтп. Время не было ограничено, но было очень сложно дозвониться. Хочется сказать спасибо людям, которые это сделали. Они во многом изменили мою судьбу и помогли найти себя на долгие годы. В общем, сидел я там безвылазно. Обзаводился друзьями и развивался как айтишник».
Похожим образом были устроены жизни и других молодых россиян, открывших для себя компьютеры. Некоторые из них быстро поняли, что на этом можно еще и зарабатывать: тем более что, как вспоминает Кирилл, большинство первых хакеров увлекались вошедшими тогда в моду рейвами и наркотиками, на которые нужны были деньги.
По словам хакера, сначала «сценеры» занимались «варезом» — компьютерным пиратством. Другие тратили дни (с медленным интернетом того времени), чтобы скачать популярные программы, записывали на CD-диски и перепродавали на рынках.
Следующим этапом стало воровство кредиток и взломы закрытых сетей — это приносило куда больше денег, чем пиратство. Участники группировки STEALTH рассказывали [6], что еще в 1994 году внедрились в американское посольство и называли себя «создателями боевых роботов-убийц на просторах киберпространства». Их коллеги вспоминали [7], как взламывали сайт Новороссийска и получали доступ к компьютерам Верховной Рады Украины. Сам Кирилл в какой-то момент основал хакерскую группировку Sodom. Ее лозунг гласил: «Russian Mafia—we’ll take care of you».
«В девяностых Россия и Украина зажигали по полной. Можно было делать все что угодно, так как не было никакой законодательной базы, — вспоминал участник хакерского андерграунда начала 1990-х. — Нашей свободе завидовали все. В России не было ограничений, как у ребят в Европе и Штатах. На мировой сцене нас всегда уважали и боялись, так как подрастающему поколению парни из России внушали животный страх рассказами о пушках, водке, мрачных улицах и других вещах».
Глава 2 Как обидеть тетю Асю
Это наш мир, мир кодов и электронных импульсов, наполненный красотой модемных звуков. Мы бесплатно пользуемся услугами, которые могли бы стоить копейки, если бы вы не спекулировали на наших потребностях и не были так жадны, — вы называете нас преступниками. Мы стремимся к знаниям — вы называете нас преступниками. Мы существуем без цвета кожи, без национальности и религиозных предубеждений — вы называете нас преступниками. Вы производите атомные бомбы, разжигаете войны, убиваете, обворовываете и врете нам, пытаясь убедить в своей правоте, — а мы все так же остаемся преступниками. Да, я преступник. Мое преступление — любопытство. Мое преступление — в том, что я сужу о людях по их знаниям, мыслям и поступкам, а не по тому, как они выглядят. Мое преступление в том, что я умнее вас, за что вы не можете меня простить. Я хакер, и это мой манифест. Вы можете остановить кого-то из нас, но вы не можете остановить нас всех.
В 2003 году в российском издании «Хакер» был опубликован [8] фрагмент манифеста хакеров, который впервые появился за 17 лет до того в американском сетевом издании PHRACK. Для читателей русского перевода все сказанное в нем уже было прописными истинами: к тому моменту издание для «компьютерных хулиганов» пять лет весело и доступно рассказывало всем желающим, как взламывать электронную почту, организовывать DDoS-атаки и воровать данные кредитных карт.
«Хакер», запущенный в 1998 году издательским домом Gameland (в основном там выходили журналы о видеоиграх), быстро стал для многих российских школьников и студентов предметом своего рода культа. Этот ежемесячный журнал чем-то напоминал «Поваренную книгу анархиста» Уильяма Пауэлла. В начале 1970-х молодой и злой Пауэлл, считавший, что знания должны быть доступны всем, а люди способны сами принять разумные решения, написал и издал пособие, в котором рассказывалось, как делать взрывчатку из общедоступных ингредиентов, вести слежку и убивать людей. На протяжении следующих десятилетий книгу нередко находили в квартирах террористов и убийц — например, подростков, устроивших стрельбу в американской школе «Колумбайн» (сам Пауэлл в итоге стал учителем и многие годы пытался запретить переиздавать свой труд).
В первом же номере «Хакера» была опубликована инструкция о взломе кредитных карт; во втором — советы о том, как угнать аккаунт в мессенджере ICQ (заголовок: «Как обидеть или защитить тетю Асю»), а также материал с перечнем программ для взломов. «На самом деле существует два способа хакать, — писал автор материала. — Первый: ты покупаешь кучу книг по устройству и работе Интернета, языкам программирования, операционным системам, протоколам, работе процессора и т. д. Ты все это внимательно читаешь и через два года тренировок сможешь видеть все дырки и получать нужную тебе инфу без проблем. Но ведь ты лентяй! <…> И поэтому ты выбираешь второй способ: пусть другие парни книжки читают и программы пишут, а я уже воспользуюсь плодами их труда. Ну что ж, ладно, хорошо, не вопрос!»
В других материалах журнала рассказывалось про «самые урожайные хаки» и про места в интернете, где можно искать уязвимости нулевого дня [***]. Журнал публиковал мемуары человека, взломавшего банк; советы, как не попасться в лапы к спецслужбам; и интервью со знаменитостями — певец Дельфин, например, называл хакерство «экстремальным видом спорта» и признавался, что и сам хотел бы «что-нибудь взломать».
В шестом номере «Хакер», рассказывая об уязвимостях критической инфраструктуры, даже нечаянно предсказал будущее своих читателей. «Информационные войны в конце ХХ века стали настолько реальными, что в определенный момент можно будет развернуть третью мировую, не выходя из дома, сидя за клавой своего компьютера, — писал автор материала. — И если раньше министерствам обороны различных стран приходилось уделять особое внимание защите своих наземных, воздушных и морских границ, то теперь появилась еще одна граница — виртуальная. Ну и кто же эти границы будет защищать? На мой взгляд, это будут выросшие хакеры, которым надоест заниматься всякой шнягой бесплатно, и они применят свои знания для работы на спецслужбы и Министерство обороны, становясь виртуальными пограничниками, отслеживающими каждый электрон, проходящий от континента к континенту».
Журнал фактически предлагал российским подросткам, жившим в бедных провинциальных городах, где нечем заняться, альтернативу. «Тебе катастрофически не дают. Обидно, но это легко исправить — стань хакером», — прямо говорилось в одном из номеров. Будущий хакер, который в 2000-х начал заниматься кардингом, в конце 1990-х рос в сибирском городе: в советское время он был организован вокруг большого промышленного предприятия, но после распада СССР завод закрылся и большинство жителей лишились работы. Раз в месяц после школы подросток ходил в единственную в городе палатку с прессой и покупал новый номер «Хакера» — продавщица в какой-то момент начала узнавать его в лицо и сразу протягивала ему журнал. «Возможно, к нам вообще только один номер и привозили, — вспоминал хакер в разговоре со мной. — Как бы тупо это ни звучало, „Хакер“ был как глоток свежего воздуха среди общей серости вокруг».
Впрочем, читали «Хакер» и в Москве. Илья Гофман родился в конце 1970-х в интеллигентной семье: его отец был композитором, мать занималась искусством. В детстве у него была сильная аллергия и астма, из-за чего он учился дома. У мальчика обнаружился талант и к музыке — он играл на скрипке и альте, — и к математике: он увлекался алгеброй и в подростковом возрасте опубликовал несколько научных работ в математических журналах. После школы Гофман поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского — одним из его преподавателей стал Юрий Башмет. К концу 1990-х Гофман считался [9] одним из самых перспективных и талантливых российских академических музыкантов.