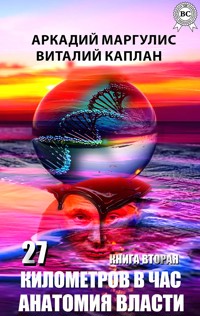Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Russisch
Божье провидение заранее подаёт нам путеводные знаки, но мы, бесстрашные недоумки, не пытаемся их прочесть. Возвращаем взгляд в прошлое. Пристально, до тошноты, рассматриваем подробности дороги. Под разными углами. Под одним и тем же углом. По отношению к настоящему. Соизмеряя с перспективами будущего. Умей мы вглядываться в знаки прозрения, несомненно, поняли бы их потаённый смысл. И тогда сумели бы избежать череду несчастий. Или предугадать будущее… Все 20 историй книги содержат эти знаки. Мы все живём под ними. И пусть каждому повезёт их распознать.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Аркадий Маргулис, Виталий Каплан
Ты исчезаешь
Божье провидение заранее подаёт нам путеводные знаки, но мы, бесстрашные недоумки, не пытаемся их прочесть. Возвращаем взгляд в прошлое. Пристально, до тошноты, рассматриваем подробности дороги. Под разными углами. Под одним и тем же углом. По отношению к настоящему. Соизмеряя с перспективами будущего. Умей мы вглядываться в знаки прозрения, несомненно, поняли бы их потаённый смысл. И тогда сумели бы избежать череду несчастий. Или предугадать будущее… Все 20 историй книги содержат эти знаки. Мы все живём под ними. И пусть каждому повезёт их распознать.
Мистика. Сборник рассказов
Свет в конце тоннеля
Где-то поблизости надсадно заголосила сирена, втискивая звуки в густой минор. Солнечные лучи, свитые в многоцветные косы, незваными скитальцами вторгались в окно эркера, безбрежной панорамой озирающего бульвар Варвашени, где, словно солдаты на параде Победы, выстроились двумя безупречными рядами пирамидальные тополя. Косы хлестали по давным-давно выцветшим обоям (рисунок, как ни пытайся — не угадать), взбивая на них замысловатые, изнуряющие глаз, пирографические узоры. Что-то разладилось с утра. Не вовремя зарождающийся день замышлял злокозненные гостинцы, начинённые обрезками намерений вместе с осколками надежд. Пришлось покидать тёплый уют постели, кланяться звезде в пояс:
— Благодарствую, матушка-светынь, что вернула мне душу.
Поперхнувшись, смолкла сирена, и заодно ударился оземь топот, будто свора чертей, минуя лифт, помчалась наверх. Выглядываю в подъезд — никого. Не привыкать. Всякое бывало. Странная штука память. Знавала я пару-тройку субчиков с проблемами. Один не помнил, что делал вчера, другой не представлял, чем займётся завтра, третий пытался вразумить обоих.
Завтракать пришлось под бессвязную лабуду телеприёмника. Он всё реже вещал на русском. Увы! Даже если до посинения следить за мельтешением на экране, вряд ли удастся постичь суть. Что ж, пусть себе — под неясный сорочий стрёкот выуживаю и располагаю на кухонном мраморе продукты: масло, сваренные в крутую яйца, брынзу, плавленые сырки, сельдь и овощи. Острым ножом отделяю невесомые ломтики хлеба, вырезаю из них затейливые фигурки (солдатики — называла их мама) и обжариваю до румяной корочки. Интересно, кто изобрёл бутерброды? Одни говорят, что кулинарные недоумки, другие, напротив, винят евреев, утверждая, что первый в истории сэндвич состоял из хрена и салатного листа, заключённых между коржами мацы. Сооружение заменяло древним иудеям пасхальную жертву. Признаться, меня больше устраивает второй вариант.
Невесёлые наступили времена. Разобщённость, растерянность… Слежка… Кого-то ищут… Топот всё ближе и отчётливей… Давно не работает лифт… Лестничные марши, один за другим, не переводя дыхание… Или это сквозняк в парадном распахнул двери настежь… Выключаю телевизор — скучно, ни одного знакомого слова. Кромешная компьютерная анимация, настырное слайд-шоу на тему Завета. Не Старого и не Нового — незнакомого. Кто мог так настроить антенну? Решаю вернуться в спальню — не тут-то было, вместо двери каменная кладка. Свежая, как срез крутого яйца на завтрак. Вконец расстроившись, колупаю стену ногтем — не поскупились на кирпич пиковой прочности. Наверняка, силикатный, М200. Как вам это? Такую пургу помню, а кто взбаламутил телеметрию — извините-подвиньтесь! Тогда обратно. Куда деваться… Батюшки-светы — и здесь тоже… Из-за стены, сменившей кухонную дверь, голоса! Ничего не понимаю, могу поклясться на нашем или даже на их Завете, что, выходя, выключила телевизор. Кто они — те, за неприступной кладкой? Расходились… Кричат, жалуются, боятся, что могут меня потерять! Бездарно потоптавшись в коридоре, выбираю избавительный вариант. Пусть потешатся — если уж торчать замурованной в собственных апартаментах, то лучше сидя, беседуя с белым другом. На самом деле оказалось иначе — перекрыть туалетную комнату, видно, кирпича не хватило или раствора. Всё ушло на пандус, под крутым углом ниспадающий к железнодорожной станции. Спуск начинался как раз на том месте, где возвышался вожделенный унитаз. Оставалось пожелать себе попутного ветра! Литые колёса папиной коляски застучали по ребристому настилу. На отчаянном вираже между этажами чуть не сорвалась вниз. Лишь в последний миг, обуздав опостылевший тремор — беспросыпное дрожание кисти, смогла удержать равновесие.
Поезд у безлюдной платформы ждал отправления. Суетливая, как брачующийся удод, проводница в венце из бессмертника, замахав руками на мою коляску, шмыгнула в вагон. Оттуда посыпались возгласы — скорее птичий щебет, чем человеческие голоса. Может быть, её телевизор работал в унисон с моим. Из вагона тотчас вынырнули служители, два лиловых близнеца в одинаковой униформе — однобортных сюртуках, зашпиленных воронёными пуговицами-печатями, с нагрудными карманами из-под клапанов; брюках-галифе, лакированных сапогах и фуражке с кантом, чёрным околышем и кокардой — двуликим Агни. Они долго уступали друг другу дорогу, пока проводница, угоревшая от вежливой возни, не вытолкнула их на перрон. Благодушно препираясь, служивые, будто освобождая черепаху от панциря, выпростали меня из коляски и на руках внесли в вагон.
Состав, словно дождавшись мгновения, когда моя скромная особа, оказавшись внутри, стала обладательницей счастливейшего приобретения, издал ликующий гудок и бряцнул колёсными парами. Лиловые носильщики на перроне торжественно взяли под козырёк, и, церемониально развернувшись, двинулись прочь.
Скорость стремительно нарастала. Я боялась упасть. Всё старалась сделать первый шаг. Грохот лязгающего металла и студёный мрак в тамбуре подталкивали к действию, а свет и теплынь вагона умоляли начать — и я в конце концов решилась. Ноги подкашивались, скрипели в коленях; дрожали руки, хватая воздух в поисках опоры. Но — как поверить в чудо — пошла! В вагоне оказалось тепло и многолюдно. Странная штука память. Маскарад, ей Богу, маскарад. Народ словно на карнавальное шествие вырядился. Маски, стереотипы, шаблоны, слепки, матрицы по одну сторону; личины, накладки, святочные рожицы, по другую. Люди оглядывались, радостно обсуждали появление нового пассажира. Слышалась их речь, точь-в-точь, как из телевизора, не разобрать ни слова. На шум оборачивались всё новые ряды — клоуны, арлекины, кривляки. Щебетали, стрекотали, ворковали, размахивая руками — словно закадычного друга встретили! Наконец, весь вагон, все присутствующие встали и зааплодировали. Тут я не выдержала, слёзы непроизвольно навернулись на глаза, спазм сдавил горло, перехватило дыхание и, кажется, остановилось сердце…
Поезд медленно набирал скорость, предельно взбрыкивая на неровностях пути. Я поискала глазами свободное место. Обнаружилось одно, почти в самом конце, рядом с полной дамой в белой бауте. Она, заметив интерес, призывно замахала руками. В её жестах и выкриках сквозило жадное нетерпение, так что стоило поторопиться. Но когда я оказалась рядом, дама неожиданно громким, не лишённым притягательности голосом, разразилась речью. Не знаю — какой, наверное, обличительной. Человек склонен к самообману. Это привычка или инстинкт. Уловив недоумение на моём лице, она протянула мне «Medico della Peste», маску Доктора Чумы, личину с гигантским клювом. Я укрыла ею лицо, и всё успокоилось. Поощрительно бормоча, полная дама ласково взяла меня за руку. Справа сухонький, но крепкий на вид, старичок в оранжевом Вольто, журча, как живительный родник, с нежностью ухватил за вторую.
Лишь сейчас, вертя головой в поисках спасения, я обратила внимание, что локомотив расположен позади вагона. А впереди — безбрежное панорамное окно, совсем как в эркере на бульваре Варвашени. Состав ворвался в гигантский тоннель, но двигался своеобразно, циклами, словно управляемый рукой нетрезвого машиниста. Как будто он, задремав, спохватывался время от времени от сна, тряс головой, изгоняя хмель, и, обнаружив убыль скорости, ошарашенно давил на «газ». С каждым последующим рывком зев тоннеля увеличивался, пока не заслонил собой горизонт. Свет, исходивший из подземной просеки с каждым циклом становился ярче и нестерпимее. Я прикрыла веки — помогло мало. Хотела закрыть глаза ладонями, но соседи в масках удерживали мои руки. Я не могла им противиться.
На последнем, разрушающем препоны рывке, поезд пересёк границу, отделявшую явь от нави. Свет, долю секунды назад казавшийся неимоверно ярким, полыхнул в мириады раз злее. Испепеляюще — но боли не было. Мозг, не испугавшись выжженной сетчатки, побудил веки раскрыться. Глаза видели. Состав по инерции продолжал катиться вперёд, но не внутри тоннеля, а по цветущему маковому полю прямиком к изумрудному плодовому саду у подножия седовласых хребтов. Стены и потолок вагона пропали, исчез и локомотив. Казалось, мягкие кресла несутся сами по себе под разноцветным небом без солнца. И тут перед глазами один за другим замельтешили прожитые дни, как быстро-быстро шелестящие страницы прочитанной книги. Вспыхнувшая грусть мучительно зазывала обратно. В моё незабвенное прошлое. Но почему-то не верилось, что оно было таким, как представлялось. Может быть, его вообще не было? И я родилась сейчас, чтобы жить… вечно?
Я повернулась к полной даме за разъяснениями, она по-прежнему сжимала мою руку. Но теперь на её лице, таком родном и знакомом, отсутствовала маска. Странная штука память. Уже многие годы без семейного альбома я не могла вспомнить бесконечно родных лиц. Но рядом… О, Боже… Улыбалась моя Мама! Я поспешно повернула голову направо — Отец сиял своей коронной улыбкой, полной сверкающих витаминов.
Странная она штука. Продолжая держаться за руки, мы встали, развернулись лицом к людям. Маски исчезли, и я узнала всех, родных и близких — родителей, соседей, из чьих квартир многие годы не доносилось ни звука, детей, забывших (так несправедливо думалось мне) собственную мать. Я снова прикрыла глаза, обняла, как могла, своих единственных, до боли любимых стариков и под восторженные, искренние, как в экстазе преданности, аплодисменты, впервые за многие годы позволила себе разрыдаться.
Я здесь, мои дорогие. Я с вами.
Карельский синдром
Прибытие в церковь Ингрии чрезвычайного посланника Верховного иерарха обросло смутными слухами. Будто келейная встреча легата с главой Карельского Пробства состоялась в Служебном домике при кирхе Святой Девы Марии. И якобы он, эмиссар первосвященника, предъявил Пробсту исключительные полномочия и небывалые — о том говорили шёпотком и на ушко — инквизиторские права.
У меня всё ладилось — приличная работа, заботливый муж, на сносях дочь. Но на сороковой день рождения вывернулось наизнанку. Благоверный исчез, заявив, что разлюбил. Зять сбежал развлекаться на Ибицу. Фирма, где оттрубила семнадцать лет, огорошила сокращением. Вконец растерянная, я ждала воскресенья, чтобы не молиться в одиночку.
Храм встретил лютеранской кротостью, лишь портик выделялся «Всевидящим оком». Два хориста, один на органе, другой на альте, наяривали «Семь слов Христа». Я была в вере, но после гибели родителей в день воскресения Иисуса и ареста пастора Шлага, позабыла о Боге. Мир рушился, и передо мной снова лежала Библия.
Я молилась, натыкалась на слова-огнива. Безудержно повлекло к священнику. Пастор выслушал и велел… молиться.
Углубилась в Книгу, проворонив, как утро перетекло в день, а день в вечер. Пресвитер тронул меня за плечо, и я очнулась. Вернувшись домой, не сомкнула глаз, пока не услышала Голос: «Началось».
Я превратилась в камертон. Вибрации исходили от древних Правед, возрождая зародыши истин. Посыпались прочь божки, идолы и демоны. Осенила себя крестным знамением. Следом увидела Его, Извечного Старца. Нимб вокруг головы. Лицо под капюшоном, виден клок бороды. Измождённые руки над капищем, торба-латанка через плечо. Я охмелела в умиротворении. Сносить голод, жажду и даже не мыться оказалось просто. Но всполошились соседи, их пугал мой запах.
Волхава! Волхава! Волхава! Платформа Москва-Октябрьская вторила: «Долго будет Карелия сниться». Поезд манил прохладой. Вагон кичился шторками на овалах окон. Смазливая проводница, прикрывшая беретом остроконечные ушки, делала вид, что не эльфийка. Для работы на «Карелии» требовался плотный стаж и восторженные отзывы. Пассажиры привередничали, и она, проверив документы, вежливо увлекала в вагон.
Я выложила в кассе две тысячи за купе. Из-за дороговизны вагон оказался пуст. Ни мешочников, ни алкашей, ни шалых детишек. На одной двери красовался бесовский знак. Изнутри выглядывал чалдон, до бровей укутанный в демисезонный плащ, на макушке рейдерская шляпа с пером жар-птицы. Он отсалютовал мне кровоточащей петушиной ляжкой и снова вонзил зубы в свеженину. Густой дух «Тройного» одеколона разбавляли обертоны чеснока. Ужасало леденящее урчание.
В моём купе чета вожан склонилась над ажурной клеткой. В ней копошилась фосфоресцирующая змейка с хвостом в виде черпака. У меня отвалилась челюсть. Вожанка в затоптанной юбке, постигнув мой трепет, успокоила:
— Это же леммюз. Не узнала, милая?
— Леммюз?…
— Ну да, дитё нашего петуха. Просила благоверного — спровадь горластого в суп. Не удосужился. По третьему году снёс петушок яичко. Я не утерпела, положила под курицу. Вот и вылупился Жорка — Жабья Икорка. Стал воровать и в дом тащить. Всего вдосталь стало. Зато люди, нас завидя, стали стороной обходить. Хотя знали — не покорми Жору, пожжёт, села не пощадит. Мы домой, в Карелию подались, авось, поможет. Ткнулись зайти — бесов вахлак петушка ощипал.
Старик вожанин раскладывал на «Карельской губернии» натюрморт — ломтики мяса и овощей.
— Казённая кормёжка дрянцо, — вздохнула вожанка, — макароны с тухлятиной. Вроде тошнотиков на Курском вокзале.
— В Волхаву собралась, матушка? — участливо спросил вожанин.
— В Волхаву! — взыграла я, как упырь, чуя кровь. Но разревелась.
— Ишь, болезная. Эк тебя прихватило, — глаза вожанки, как два солнышка, лучились морщинками, у каждой своё имя.
Леммюз пялился в иллюминатор, пытаясь скинуть ошейник с поводком.
Состав тронулся, и тотчас возник силуэт эльфийки. Она раздала постели за полтиннички и, пожелав «колесом дорогу», исчезла.
— Который день голодаешь? — поинтересовался водь и, сдвинув полосатую кичку, обнажил лысину.
Я трижды показала пятерни.
— Почти месячишко. Ложись-ка, голубушка, спать, я тебе внизу полочку выстелю. К утру в Петрозаводске будем. То-то выспишься.
Сквозь дрёму усмотрела, как в миску леммюза клали кашку.
— Ешь, Жора, — упрашивала вожанка, объясняя, — попробуй тебя не покормить — осердишься, улетишь.
Леммюз, негодуя, трепыхался пламенем. Потянуло дымком.
— Берегись! — вскричала женщина, — пожжёт! Гони чёрта!
Водь перекрестился, распахнул иллюминатор и клеть. Вожанка насела на леммюза, обременив его пустым делом: «Иди на берег моря! Сплети из песка верёвку». Лешаки в бесовским купе загалдели: «Отдайте Жорика нам!» Леммюз вспыхнул и выпорхнул в ночь. Старик мигом захлопнул окно. Чёрное небо исполосовал огненный Зверь.
В Твери сошли люди, на их места устроились новые. В Свири вожане, купив морошки, кормили друг друга ягодой. В Малых Вишерах давали «Маски-шоу». В вагон хлынули актёры в воинской амуниции и учинили суд. «Тихих» поблагодарили. «Буйных», ссадив с поезда, упекли в клеть, запряжённую подслеповатым мерином. Бесовское купе опустело.
— Утро. В Волхаве десять часов, — обновил время репродуктор.
— Ещё чуть, и будем на месте, — засуетилась вожанка, — как насчёт чая? В фирменном, наверняка, настоящий «майский».
— Обалдела? — возмутился муж, — барышня пост держит.
— Ох! — всплеснула руками женщина, — нерадивая я.
— Подъезжаем! Ещё час, и Петрозаводск-Пассажирская, — по-свойски дёрнула дверь проводница.
От неё несло «Тройным» одеколоном и разило устойчивым душком ночных приключений. Водой эльфийка пренебрегла. Лесной народ моется трижды: при рождении, женитьбе и смерти.
— Чайку желаете?
— Только «Майского», — согласились попутчики.
— Шесть рубликов по прейскуранту, и несу.
— Парочку, — звякнула монетой вожанка, — как там вообще?
— Инквизиция на ушах стоит, — ответила, забыв о сдаче, проводница.
Я попрощалась. Пошла по перрону. На выходе из вокзала два лоботряса инока отжали меня в иномарку. Сели по бокам, сдавив торсами.
— Последняя, — проговорился бледнокожий, видимо, альбинос.
— Остальных как ветром сдуло, — подтвердил загорелый напарник.
— Лысого водя с чувырлой упустили? — упрекнул водитель, тёртый, как жёваная резина.
Иноки потупились.
— И что теперь? Ищи-свищи по лесам-болотам-озёрам?
— Сыщем, пастор Мяки. Тут либо Ладожское море, либо Ловозеро.
Водитель повернулся ко мне. Пахнуло коньячным выхлопом.
— Отец Юха Мяки, из карельской автокефалии, — представился он, — давно тебя накрыло, мамка? Скажешь, семью оставила, работу? Так?
— Не ответит она, — вмешался альбинос.
— Цыц, сявка, без сопливых ведаю. Давно, милая, не жрамши?
Я закрыла глаза. Пастор рассмеялся.
— Достали! Чуть ваш Дажбог заблажит, сюда прёте. Как тараканы на блевотину! Карельский синдром? Бред языческого величия? Конгресс прожорливых вомитофилов? Что?
— Крысы рвотные! — подпевал загорелый.
— Если человек говорит с Богом — это молитва, если Бог говорит с человеком — сумасшествие. В России Господь говорлив на пике солнечной активности. Не Волхава причина безумия. Все, кто подцепил Карельский синдром, уже лечили головушку. Если человек сказал «верю в Бога», всё в порядке. Если «в пришествие Мессии» — на здоровье! Горе тому, кто подменил Бога божками!
Водитель замолчал, стал слышен двигатель.
— Не переживай, — прислонил ко мне плечо альбинос, — подлечат. Но лучше — дёргай отсюда. Святой отец, помните, одной Маруське примстилось, что она Дева Мария, ну и почухала к нам искать сына.
Пастор, управляя машиной, ответил:
— Иерусалим пахнет приправами, Берлин — пеплом. Карелия — патриархальной юдолью.
Я посмотрела в окно. К набережной, кряхтя, поворачивал поржавевший троллейбус. В его окне маячила, напевая псалмы, Петрозаводская Бабушка. Печальные тополя, источенные грибком, прощались, как ветераны на кладбище. Полагали, что не вернусь.
Патер крутил баранку, ворчал. Голос звучал отдалённо, и я ощутила запах перхоти на воротнике его пиджака. Иерарх, почувствовав неладное, включил радио. «Европа плюс Петрозаводск» крутило ноктюрн Modern Talking. Он тронул волосы, мостом перекинутые через плешь, и в сердцах сплюнул:
— Тьфу, опять педерасты!
Привадила Юху классика, финская полька на чувашском языке. Мои ягодицы отбивали такт, и я крепко невзлюбила святошу. Он поднял глаза на полицейского, отдающего честь. Просигналил. Меня стошнило от омерзительного зрелища.
— Проехали последний пост, мадам. Шаг влево, шаг вправо — расстрел, — пастор фамильярно захихикал, — автострада номер сто пять из Петрозаводска в Европу. До поворота к опочивальне «Матросы» считанные километры, домчим с комфортом.
— Видели вы ребёнка, которого не существует?
Пресвитер боднул мрачным взглядом:
— Тебе давно в «Матросах» место. Смерть — освобождение от жизни и боли, а ты, еретичка, должна страдать. Долго, — подчеркнул он.
Раздраисто загромыхало, словно небеса пнул пьяный атлант. Юха Мяки поднял взгляд:
— Не дури, — погрозил он мирозданию волосатым стручком.
Небо ответило молниеносно.
— До «Матросов» двадцать восемь километров. Карельский синдром, — лицо его треснуло в усмешке, — аномалия. Сначала мандраж. Потом тянет забыть всё и помчаться в Волхаву. К прощелыге Василию! Так? Ты прошла очищение? — Юха схватил мою руку, впился в неё взглядом, — Несчастные! Сбривают волосы, стригут ногти! Избавляются от грязи! Затем прут сюда, на перешеек, и шастают, выблёвывая маньячные проповеди об искуплении. Ищут жабий Перуньев остров. А его здесь нет! Ясно тебе, квочка… — стекло покрылось брызгами слюны. Волхава — бред! И ты не Мессия! Ты — кликуша!
Пресвитер минуту ехал молча, но потом снова разразился:
— Грех винить Карелию в том, что она Карелия. В наших городах и деревнях святость даже, когда идёшь вдоль улиц. Гармония островов — Валаам, Соловки, Кижи! Леса с корабельными елями, каменные обрывы, изумрудность рек… Беломорские петроглифы… Духовный экстаз. Магнетика времени. Коллапс эпох. Это многих сбивает с толку.
Иномарка достигла окраин за полночь. Разровнялись пустые улицы. Слева строй пятистенков. Покров травы под осинами. Справа — дом «неполного разума» — в стороне от питомника лаек. Пять серых, как память кататоника, этажей, мрачными фасадами на трассу. Их не удивишь пресвитером на «Лексусе». Мы, священник церкви Святого Духа и я, лишённая суверенитета, успели к раздаче. Небо разродилось ливнем. Отяжелели струи. Утонули последние метры. Мной распоряжался лицедей. Иноки остались на воле.
Я на миг остановилась и подставила лицо дождю. Вода шаг за шагом смывала соль. Запах мокрой пыли завладел миром.
Безобразно кривой Юха втолкнул меня внутрь. Секундой спустя проскочил сам, скованный тяжестью чемодана. Оставляя лужи на стёртом линолеуме, потянул в приёмную. Вручил окошку конверт с направлением в «Матросы».
— Дежурный врач, — зевнула пожилая карелка, — на совещании.
Пресвитер взглянул на часы. Мы заняли старинные кресла. Они напирали на стену, как стенобитные машины.
— В России всегда чего-то не хватало: хлеба, мыла, психиатров.
— Ошибаетесь, с доктором вам повезло. Это Божий промысел.
Она посмотрела мне в глаза, внимательно и в глубину, как мама.
— Больше ты отсюда не выйдешь, деточка, — прошептала, прячась за клубок с шерстью.
Из глубины коридора послышалось шарканье.
— Наши клоуны — Еник, Беник и Хандрилла, — карелка поправила платок, — вы для них свеженькие. Еник в МГУ красный диплом отхватил. С менингитом. Вчера главврача подколол. В ответ укольчиком наградили. Беник — еврей и наркоша. Хандрилла — дизертирщик. Родители от армии откупили, — сообщала карелка, приложив палец к губам.
Раздался звук унитаза, из уборной выпрыгнула девочка.
— Гля! Бородатая Гномиха! Это ты её на ассамблею позвал?
— Загнул. Бабы у гномов щетину не носят.
— Может, бреют. Я за гендерное равноправие.
— Без разницы — чудь или гномиха. Верь хоть в Лохнесское чудовище, хоть в Ладожского Змея. И не мешай существовать!
— Простите, — пресвитер наклонился к девочке, — ваша бородка — дань эпатажу или крик моды?
— Вау, вы малефик? Архитектор проклятий? — парировала она.
От её бороды веяло настоящим табаком, тонким и ароматным.
— Ладожский Змей — санитар моря. Он квёлых дельфинов пожирает.
— Того, кто не по зубам, грызут сплетнями, — вывернулась она.
— Ты мастерица отшивать. Это зачтётся, — пообещал пресвитер.
— Полагаете, гномов нет? — прищурился охламон с причёской Йельского бакалавра и еврейским именем Беник, — тогда про кого стиш:
Невысок он, с бородою,
Носит молот за спиною.
Пузо бочкой, нос как слива,
И шатается от пива.
— Про твоих нищих потомков, — предрёк Хандрилла, прыщавый, как юнец с контральто в операх Монтеверди.
Пресвитер усмехнулся:
— Слушай, Еник. С чего у тебя рожа ядовитая? Сибаритствовал?
— Беник, — поправил прыщавый, — в кабаке «Матросы» найдёте кучу мужиков и баб, обликом — чудь.
— У нас на Севере, — покосился на меня Еник, бывший студент МГУ, — детей чудью стращают.
— Утащит и съест? — картинно изумился пастор.
Я развернулась к стене, прижалась лбом к шершавому барьеру. Несмотря на ночь, он оказался живым. Я беззвучно заплакала. Закрыла глаза, скатилась в пропасть. Когда, когда уже жилистый кролик в шёлковых перчатках словит меня в пуховые объятия?
Стена, как зеркало, отразила явь. Вначале воспринималось иначе, чем происходило. Но вот, разгладилось, обрело вразумительность. Есть, как есть. Моя мама ушла. Я осталась одна. Санитарка, вручив пижаму, подвела к кровати, где мне предстояло спать до рассвета. И всю оставшуюся жизнь. Памятные штучки вернули не все. Детское фото предводителя гномов Дургримара Рыжая Грива присвоил врач. Хотелось выть, но в подростковом отделении пограничных состояний психиатры ненавидели разглагольствования.
Снаружи изощрялся дождь, и человеческие детишки в коридоре по очереди ездили на велосипеде. Терзали душу «Белые розы». Женщина в роговых очках, заведующая отделением, предупредила:
— Седьмая пятница, вместо трудотерапии дискотека.
Нашла, кого воспитывать. Мне за свой клан не стыдно.
Докторша вцепилась, как клещ:
— Попробуешь вскрыться, нафарширую дерьмом. Хлебнёшь ломки.
Я поверила и два часа наслаждалась бездельем. Потом надоело. Недавно в заброшенных штольнях завелись зелёные человечки. Они обидчивы, вздорны и ленивы. Мы, чудь, другие. Любим поднатужиться. Всегда найдётся какая-нибудь работёнка. На кузне, где-то ещё. В психушке вообще глухо. Чтиво, тупой интернет, фальшивая музыка. Скука. Удел биоробота. Понаблюдала, как пялятся в телевизор, и стало тоскливо. Они — прообраз всего, чего я старалась избежать. Деградация, ничтожность и бесполезность. Образ жизни в психушке — копия существования на воле. Утешает? Меня — нет.
В одной из дверей щёлкнул замок, и в коридоре промелькнул белый подол. Возник сутулый доктор — явно, с горбом на спине. Вскрыл пакет с документами, изучил — просто вынюхал. Подписи Верховного Иерарха и Главы Карельского Пробства возымели эффект, и мои жалобы он не услышал. Меня обыскали с пристрастием, во всех местах. Клоуны пытались подсмотреть, но сердобольная карелка спровадила, пригрозив сбрить бороду их подружке. Я из солидарности пообещала вскрыть себе вены, и меня оставили в покое. Пастор, уходя, пожал руку психиатру. Карелка посмотрела ему вслед, сплюнула и показала на плотно прикрытую, будто нарисованную, дверь:
— Иди, родная… Ждёт.
За кофейным, под мшистую кору, столом — Врачеватель. Целитель душ. Адвокат, обвинитель и судья, многоликий в одном лице. Я предполагала, что увижу изваяние, но ошиблась. Не знала, получу ли ответ на главную загадку — кто стряхивает пепел в священный Грааль. Снова возвысился Голос. Ресницы стали липкими, словно пальцы вожан после морошки. Вернулась, как сокол в тьму прожорливых чаек и бочком протиснулась в процедурную.
На кушетке скальпель. Неожиданно для себя разрыдалась. Словно заказала очередь, но забыла за чем. Он присел рядом. Словно юноша, нетронутый, нежный. Звонкий, как погремушка младенца. Прикоснулся, остановив мне дыхание.
— Хорошо, что вовремя. И выглядишь складно. Начнём?
Я вздохнула и перестала дрожать. Когда он разрезал моё тело на две половины, я сидела рядом и смотрела. Он тронул мою кисть — за ней начиналось пространство боли. Злой и безадресной.
— Позволь крови покинуть тело, напитать постель, слиться на пол.
Больничный кафель покрылся разводами. Волна горячности, не сдерживаемой плотью, вырвалась изнутри. Кто же он, осмелившийся пробудить от спячки!
— Теперь, когда знаешь, кто, — шепнул он, — расслабься. Не надо бояться. Ты долго ждала. Попытайся распробовать. Это — удовольствие.
Он знал обо мне всё, даже мысли. Я оглядела половинки тела.
— И утешение?
— Болезни мешают радоваться жизни, — пощупал он мой пульс, — нарушают баланс.
Моё исстрадавшееся тело распалось на мириады атомов и тут же возродилось вновь. Наслаждаться? Укрощённые страхи не оставили меры спокойствию.
Он рассмеялся. Помог встать. Взглядом посулил облегчение. Шаг в потусторонней зоне. Сознание сканировало воссозданное тело. Кровь, расплывшаяся бесформием, возвратилась капля за каплей. Что его рассмешило? В простыне запутался свёрток кожи, прекрасной, как Припять перед катастрофой в Чернобыльском апреле.
— Взгляни — твоя гордыня. Надменная и никчемная.
Я взглянула на невесомую дерму. Она покрывала меня снаружи. Он двинулся дальше, увлекая за собой. В углу теплились сваленные в кучу внутренности. Неостывшие и склизкие. Мои.
— Господи, что это?
Он с жалостью взглянул на расползавшуюся органику:
— Блудный жир. Скопление отчаяния, страха, покорности. И лжи на протяжении лет. Сделки с законами мироздания. Авантюры с временем.
Оконце уронило свет на ворох тряпья. Среди хлама я узнала свой гардероб. Различила стоптанную юбку вожанки и полосатую кичку водя. Он потянул за руку, путь продолжился. На берегу забытого моря вскипали лужи. В них дымилась мездра истеричных оттенков. Я замерла, пытаясь осознать, что изменилось во мне.
— Суть. Когда уходит Гордыня, является Зависть, затем рассыхается и в трещинах обнажает Гнев. За Гневом — Уныние, Алчность, Чревоугодие, Похоть. Семь смертных грехов. И всем срок.
— Но что сохранится? — недоумевала я.
— Горечь. Только горечь.
Он окунул кончик башмака в радиоактивную лужу. Она откликнулась ядовитым всплеском.
— Но и её можно унять, — успокоил он.
Лужа извергла протуберанцы, поменяла раскрас. Я с трудом отвернулась. В его глазах светились щедрость и тишина.
— Что станет со мной?
— Новый мир — могила старого. Вспомни, что видела. Мир качелей. Бываешь наверху, но чаще — внизу. Под пластами тьмы комочек света. Спеши подобрать. Не верь, что мир лишён добра. Добро внутри нас.
Очнулась осоловелой от счастья. Открыла глаза, попыталась сообразить, где нахожусь. Крепкий сруб, резные коньки на крыше, просторные сени и широкие ставни. Снаружи — приволье. Двери открываются свободно, чтобы всякий мог войти и попросить о помощи. Светло и чисто, добела выскоблены полы. Половину горницы занимает печь, обмазанная глиной — на печи пыхтят котелки со снадобьями. Пахнет сушёными грибами, подвешенными к потолку.
Стены обвиты травами, их аромат чист. Ни сушёных змей, ни крысиных хвостов, ни прочих мерзостей, почерпнутых из суеверий. В углу сундук с рукописями, свитками, книгами. Всё — целебные заговоры.
Лицо скрыто капюшоном, виден клок седой бороды. Вокруг головы — нимб, окаймлённый закатом. Руки труженика. Через плечо сума врачевателя.
— Узнала?
Я бухнулась на колени, припала к старческой ладони. Сам и ответил:
— Узнала. Василий, сын Анисимов из мещан Щедриных — последний волхв России. Мы на Перуновом острове, посреди Молочного озера. Здесь тебя не обидят. Здесь мир шире, чем чуют его другие люди. Психиатры твердят о галлюцинациях. Галлюцинации вообще не отличимы от реальности. «Прозрачные» можно пройти насквозь. Есть и «густые». Если увидишь стену, которую не видят другие, её не пройти и не обойти. Выгляни в окно.
Одна из стен избы сделалась прозрачной. Погас свет, и я вышла. Осторожно ступила на бархатистый покос и тут же увидела их. Вожане ждали меня, чтобы отправиться вместе. Наш путь лежал вдоль ручья, истекавшего из глубины веков и журчавшего далеко за горизонтом.
В задраенном тучей Матроском небе разгоралась единственная звезда Рагнарёк — предвестница последней битвы света и тьмы, гибели богов, разрушения старого мира и зачатия нового.
Те, кто всегда всё знают
В нелепейшую жарынь лета, в час, когда бесчинствовал зной, исподтишка собираясь поддаться квёлому зефиру, произошло что-то сверхъестественное. Стая одичавших, некогда сбежавших из клеток домашних попугаев с гадким галдежом пронеслась над пустынным двориком и укрылась в кроне старой, всё ещё плодоносящей маслины, неукротимого патриарха в благодатном местечке Иерусалима. Один из попугаев, франт непринуждённого окраса, уловив среди гвалта собратьев просвещённые звуки, облюбовал диковинный подоконник. О святая земля! Из окна, из-под раздражённой солнечным беспределом крыши, лилась прославляющая белый свет мелодия. Посреди крошечной, едва ли в десять шагов, комнатки упитанный, с рыбьим профилем, мальчик упражнялся на скрипке. Попугай прислушался, чувственно встряхивая оранжевым хохолком. Несомненно, ему хотелось запомнить и даже повторить жизнеутверждающий гимн. И впрямь, если не судить предубеждённо, чувствовалось, что в юном скрипаче с рождения верховодил слаженный «Дух ремесла». Именно такой вывод нежно разглаживал морщины на лице его учительницы Таисии Михайловны Круг. Что-что, а это она могла предугадать. В своей скомканной преклонными годами карьере ей довелось воспитать множество юных дарований — восприемников изощрённого слуха, обострённой ритмики, классического строения кисти и желейной эластичности пальцев. На изначальном, местечковом уровне, подобных талантов, как правило, оказывалось уйма. Конечно, не все осознавали суровую наготу жизни — там, где гению сами собою открывались сияющие горизонты, рядовому смертному предстояли годы изнурительного труда.
К досаде заслуженного педагога из внезапно распавшейся Советской империи смуглое, почти до асфальтовой черноты, дарование, было наделено обидно короткими руками и толстыми, как сардельки на Курском вокзале, пальцами. Она изо всех сил, как могла, старалась приучить мальчишку дотягивать смычок до позиции, где ещё сохранялось правильное положение руки.
Попугай переместился поближе и поискал себе под крылом, зачарованно ожидая исполнения «на бис». Мальчик поднял скрипку, как единственную в мире драгоценность. Таисия Михайловна принципиально прищурилась. Спасти виртуоза от конфуза могло лишь пристальное внимание к мелочам искусства — какое же без них соло. Многие ли в состоянии почтить первую скрипку в оркестре среди прочих?! Или постичь головокружительную партию танцевальной пары «Riverdance» в окружении первоклассных танцоров?! Глаза скрипача устремлены на гриф скрипки, как глаза пилота на взлётную полосу. Левая рука под нижней декой. Пальцы, строгие к струнам, готовы ударить с твёрдым обожанием, способным расплавить строптивость девственницы и лицемерие мессалины. Попугай переминался с лапки на лапку, вздрагивая от нетерпения. Предвкушение выплёскивалось наружу, словно магма из жерла вулкана, словно догма из водоворота гипотез. Мальчик снова опустил инструмент на плечо, но тотчас исправился, приподняв скрипку. «Ну! Что вы на это скажете? — возликовала Таисия Михайловна Круг, — да он сто раз прав, сочетание плечо-скрипка извращает звук!», но вслух произносить не стала, задумалась: «Немало на святой земле деток, чьи родители мечтали бы увидеть знаменитыми своих ненаглядных. А всё же меньше, чем в той же Москве… Там любая уважающая себя еврейская семья считала призванием осчастливить родину собственным виртуозом. Здесь, на исторической, кроме альтистов, флейтистов и скрипачей, страна остро нуждалась в грузчиках, уборщиках и пуще всего — в заправских вояках».
Попугай почесал когтем загривок — где знать залётной птице, что имя мальчика Ор, что он из йеменских евреев и что скорее представлял собою счастливое исключение, чем традицию. Среди подобной публики преобладают уличные торговцы. Они, сказать откровенно, не все дилетанты в музыке, привычной для европейца, зато в восточной, тягучей и терпкой, как выдержанное вино, непревзойдённые ассы.
Ор взглянул на учительницу. В ответ Таисия Михайловна коснулась мизинцем кончика носа — подав знак началу «концертного выступления». Не отводя взгляда от Таисии Михайловны, мальчик поместил второй палец там, где на струне «До» извлекалась ближайшая нота «Фа»; большой палец уже стоял наготове против той же линии. Всё правильно. Четыре пальца опустились на струны именно на тех позициях, где им надлежало быть.
А всё же чрезвычайно буднично. Обычно родители одарённых детей учителям проходу не дают: «Как там наше чадо? Наш вундеркиндик? Когда, наконец, посыплются приглашения с больших сцен? Созреют ангажементы? Разразятся овации?». С родителями Ора Таисия Михайловна не была знакома, вообще ни разу не видела. Что там родители — с учеником по-человечески поговорить оказалось задачей. Госпожа Круг пребывала в том почтенном возрасте, когда приобретённые годами навыки окостенели, а новые не желали стать частью личности. На иврите, возрождённом еврейском языке — будто «идиша» не хватало — пожилой женщине не давалось слов, кроме «Шалом» и вопроса как пройти к ближайшему магазину. Мальчик же, кроме родного иврита и английского, свободно пользовался арабским — языком почтенных родителей, что, впрочем, тоже ясности в общение не вносило. Полгода назад он внезапно образовался в её квартире, с грехом пополам, знаками, показал, что желает заниматься музыкой. Впоследствии сам же, отчаянно стесняясь, краснея и отводя глаза, совал мятые пятидесяти-шекелевые купюры. Парня, несомненно, что-то мучило. Казалось, он страстно желал поделиться какой-то тайной, но не решался. Сама же госпожа Круг толком и расспросить не могла.
— Пойте, молодой человек, пойте, милый, — разрешила Таисия Михайловна.
Попугай отнёс это на свой счёт и осторожно попробовал. Следом, словно в точности поняв русскую речь, вступил Ор.
Его пассаж заворожил с первых звуков. Таисия Михайловна слушала, не вмешиваясь, лишь раз, когда паренёк, возбудившись стремительным темпом, сомлел от собственной беглости пальцев, пожилая дама нахмурила брови. Как, не зная языка, объяснить мальчику, что в таком завихрении не заметить шероховатости, не почувствовать чистоту и тональность, не уберечь интонацию от фальши, рождённой поспешным движением пальцев. Но когда он опустил смычок, в воздухе воцарилась вселенская тишина. Столь вдохновенного исполнения Таисия Михайловна не слышала давно — ещё немного, ещё чуть-чуть… и оно оказалось бы совершенством. Но когда Ор заиграл меланхолический этюд, попугаю почему-то стало неловко, так совестно, что захотелось улететь восвояси. Таисия Михайловна, изменив устоявшейся традиции (после тридцати минут игры четверть часа отдыха), тотчас оборвала ученика. По обыкновению сефардских евреев следовало поспорить, но Ор возражать не стал, засобирался. Уже в двери остановился, хлопнул себя по лбу, вернулся и, отведя глаза, положил на скатерть банкноту. Те самые замусоленные пятьдесят шекелей.
Таисия Михайловна, вздохнув, тяжело поднялась, подошла к столу и спрятала забытую скрипку в футляр. Попугай, недоумевая, как поступить, огорчённо развёл крылья, и в этот момент пожилая мадам передумала. Пальцы её рук когда-то не нуждались в упражнениях на гибкость, но постепенно изжёванные артритом, утратили прежнюю эластичность. Она сначала вздохнула, затем стёрла возникшие в памяти ноты «Романса Бетховена для скрипки» и заиграла «24 каприса» Роде. Первые же звуки оказались настолько певучими, что побудили мальчишку забыть физический процесс их возникновения. Роняя пульс, Ор дослушал мелодию и взглянул на часы. Подорвавшись, скатился вниз по лестнице. Выбежав из парадного, содрал с тела рубашку и заменил её на кимоно с эмблемой борцовского клуба.
Сердечко любопытного попугая едва не разорвалось на части, ведь, как ни очаровывал подоконник, сильнее влекло вслед за маленьким виртуозом. И он вспорхнул.
Автобусная остановка за сквериком пустовала. Чертыхнувшись, мальчик помчался по улице вниз. Выскочив на дорогу, поймал взглядом торец автобуса, уже набравшего ход. Надежда испарилась, как не бывало, и он рванул напрямую, через кварталы. Несколько минут удушливого бега вывели на проспект, что вёл к дому. Тут и произошла заминка — устроившись посреди тротуара, в край обескураживая прохожих, Ор сменил шортики на трико, носки на гетры, туфли на борцовки. И небрежно подпоясал кимоно. Покончив с маскарадом, снова припустил вскачь. Пот застилал глаза; подмышками и на спине испарялись до разводов соли тёмные пятна. Походя, мелькнула резиденция президента, ещё поспешней — театр. Последний рывок, и он дома, на самой прекрасной в Иерусалиме улице Шопена. Встречные, завидев юркого самурая в кимоно с развевающимися полами, торопились уступить дорогу. За ним, перелетая с дерева на дерево, спешил попугай, коснувшийся тайны скрипичного мастерства.
Свернув в переулок, стиснутый со всех сторон зданиями, боец облюбовал скамейку. Детская площадка оказалась безлюдной, если не учесть карапуза в песочнице и с ним старухи — древней так, что не разобраться, кто за кем в присмотре. Но обоим, бабушке и внуку, было начихать на скрипача в кимоно — вот что возмутило попугая. Он как раз примостился в ветвях дерева над скамьёй. Отдышавшись, Ор нырнул в песочницу, поплескался в песке, как изнывающий от зноя воробей, и скакнул на газон. Накатавшись в мокрой от полива траве вдоволь, пока чистенькая форма не превратилась в затасканный боевой камуфляж, выглядел так, будто выдержал схватку со взводом морской пехоты. Попугай, сидя над ним, прижмурился. Решил было, что теперь уж точно пора передохнуть, но скрипач, взглянув на часы, пустился через клумбу обратно, на улицу Шопена. И наконец, уже перед домом, в руках его, как у фокусника, возникла скрученная в моток скакалка. Подумав немного, потёр ею о кимоно, о пятна травяного сока, о налипший песок, и лишь после ворвался в подъезд. Взбежав на третий этаж, остановился у двери с табличкой: «Здесь, в любви и согласии, проживает семья Дамари». За дверью слышались шум, визг и смех. Вот оно, если не рай, то счастье!
Ор широко улыбнулся и постучал. За дверью раздался предупредительный окрик отца, звуки враз смолкли, и голос матери, будто бы равнодушный, подвёл напевную черту:
— Откры-ы-ы-то…
Ор потянул ручку вниз, подтолкнул дверь. В квартире было нарочито тускло. За тахтой, едва различимой в темноте, раздавалось чьё-то неудержимо радостное — представьте себе — похрюкивание. Затем буйно разразились петарды, рассыпались искры бенгальских огней, и десятки глоток возопили:
— Сюрприз!!! Сюрприз!!! Сюрприз!!!
Сильно, во все плафоны, ударил свет люстры. Ор растерянно заморгал, прикрывая глаза, три бутуза, младшие братья, обняли за ноги. Родители зашлись в смехе — ещё бы, удалось на славу! Здесь все, кто дорог — бабушки, дедушки, дяди и тёти, сёстры, братья, племянники… Как без них! Подносились подарки, и очень скоро образовали приличного достояния холм. Последним подошёл отец, держа в руках объёмистый короб, обёрнутый подарочным ворохом в лентах. А как же! Весёлое праздничное разноцветье! Ор улыбался, стараясь выглядеть, как следует, не расплакаться от умиления. Какая разница, что там — новейшее спортивное приспособление, или, на худой конец, комплект кимоно-гетры-борцовки. Отец кивнул на короб, приглашая открыть. Мальчик потянул за ленту, она поддалась не сразу. Не спеша, стараясь продлить «удовольствие», ободрал обёртку. Увлечённый действом, не заметил, как в комнате настала тишина, совсем не присущая семье йеменских евреев в праздник. Шеи родных вытянулись до отказа. Тут-то Ор и справился с упаковкой… Приподнял крышку. Попугай от неожиданности едва не упал с подоконника наземь. На обивке благородного красного бархата, лежала… скрипка! Точь-в-точь такая, как у Таисии Михайловны Круг. Мальчик поднял на отца налившиеся слезами глаза:
— Вы знали? — беззвучно, лишь губами, спросил мальчик.
— Родители всегда всё знают, — так же беззвучно ответил отец и раскрыл руки для объятия. Сын, не раздумывая бросился навстречу.
Когда немного утихли всхлипывания родственников, а мать, спохватившись, увлекла всех за стол, Ор вдруг изо всех сил хлопнул себя по лбу.
— Стойте! Я мигом! Только не сердитесь! — бросил он и скрылся за дверью.
Обратный маршрут проделал вдвое быстрее выдохшегося на лету попугая и вскоре вбежал в квартиру Таисии Михайловны — именно в тот момент, когда она, украсив нос очками, пыталась разобрать по буквам записку, найденную подле купюры. Там, было написано, конечно же, на иврите: «Любимая учительница, ты лучшая в целом мире, но это мой последний урок. Я больше не могу разрываться между велением сердца и волей отца. Спасибо тебе за всё, дорогая учительница!».
Мальчик выхватил из рук пожилой дамы исписанный клочок бумаги, ничего не объясняя, почему-то запихал себе в рот, развернулся и помчался домой, где ждали его те, кто всегда всё знают.
В кроне старой, всё ещё плодоносящей маслины, неукротимого патриарха в благословенном местечке Иерусалима, маэстро попугай, оборвав наскучивший галдёж собратьев, непререкаемо мощно заголосил жизнеутверждающий, прославляющий белый свет, гимн.
Фаворит Смерти
Положи меня, как печать, на сердце твоё,
как перстень на руку твою,
ибо крепка, как смерть, любовь
Из Книги «Песни песней Соломона»
Самюэль