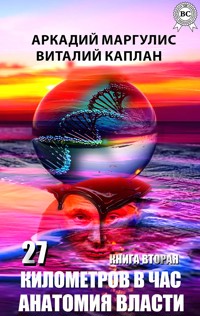
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Strelbytskyy Multimedia Publishing
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Russisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Как известно философская категория, «власть» подразумевает форму воздействия человека на окружающее, предполагающая целенаправленное осуществление своей воли вопреки сопротивлению. Кирилл Кириллович Мутин, главный герой романа-гротеска «27 километров в час. Вторая книга. Анатомия власти» одержим маниакальной идеей безраздельного всесилия. Ему удаётся не только внушить ближайшим приспешникам перспективность концепции по приобретению, длительному сохранению и расширению владычества, но и любыми средствами достичь её успешной реализации, в том числе благодаря использованию научных открытий. Начальное знакомство с героями настоящей серии происходит в романе «27 километров в час. Книга первая. Центростремительный марафон».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Аркадий Маргулис, Виталий Каплан
27 километров в час. Книга вторая
Анатомия власти
Как известно философская категория, «власть» подразумевает форму воздействия человека на окружающее, предполагающая целенаправленное осуществление своей воли вопреки сопротивлению.
Кирилл Кириллович Мутин, главный герой романа-гротеска «27 километров в час. Вторая книга. Анатомия власти» одержим маниакальной идеей безраздельного всесилия. Ему удаётся не только внушить ближайшим приспешникам перспективность концепции по приобретению, длительному сохранению и расширению владычества, но и любыми средствами достичь её успешной реализации, в том числе благодаря использованию научных открытий. Начальное знакомство с героями настоящей серии происходит в романе «27 километров в час. Книга первая. Центростремительный марафон».
Глава 1. Март 1953. Кирилл, Алексей…
Безмолвствовал мрамор. Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул, на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился. Дыханье из гроба текло,
когда выносили его из дверей мавзолея
Евгений Евтушенко
Утро шестого дня весны 1953 года, пасмурное и неприветливое, безрадостно стлалось над Советской столицей. Площади, улицы и переулки, если и были иррационально пусты, то тишина в предрассветном сумраке заходилась в истеричном кличе ко всеобщему поминовению, и городской сквозняк повсеместно кропил колкой моросью скорби. От Дома Союзов до Кремля протянулась густая череда венков, со стен домов свисали, едва ли не облизывая тротуар, траурные знамёна. Москва готовилась проводить в последний путь вождя, «отца всех народов» Иосифа Виссарионовича Сталина.
Хотя кончина великого пролетарского вожака случилась несколько часов назад, скорбная весть распространилась так быстро, что заставила мир вздрогнуть и замереть в ожидании запредельных событий. То, что до сих пор происходило за стенами Кремля, слишком часто представлялось головоломкой или мистификацией. Но теперь истории предстояло беспощадно расстаться с одной из своих самых парадоксальных фигур. На время прощания в стране объявили национальный траур — запрещались мероприятия, развлечения и забавы. Любые телевизионные и радиопередачи, выражая безграничное страдание страны, посвящались нетленной памяти лидера. Ведь человек, в чьих руках сосредоточилась непререкаемая власть, покинул этот мир, навсегда оставив след в истории человечества.
Обеспечение безопасности объектов, отнесённых к передней линии траура, включавшей непосредственно Дом Союзов с многочисленными помещениями и службами, а также несколько зданий напротив, откуда враги народа могли вести провокационный обстрел, поручили — иначе и быть не могло — Краснознамённому Кремлёвскому Караулу. Защищённость прилегавшей к Дому Союзов территории обеспечивал расквартированный в казармах одной из столичных околиц полк специального назначения, и уж совсем дальние подступы охраняли территориальные милицейские подразделения. Кроме этого, вдоль или поперёк улиц были включены прожекторы, установленные на грузовых машинах — ими предполагалось освещать пешеходные маршруты, по которым предстояло двигаться несметному скоплению людей.
Сразу же после полудня к Дому Союзов потянулись первые толпы жаждущих проститься с усопшим. Молодые и старики, в расцвете сил и дети. Одни, источая искреннюю печаль, видели в Сталине гения, кумира и основателя, сумевшего превратить социалистическое отечество в несокрушимый бастион справедливости и счастья. Другие торопились отдать долг признания международному политическому тяжеловесу. Пришли даже те, кто, торжествуя или злорадствуя, мечтали воочию убедиться в долгожданном и хотя бы поэтому в бесславном конце виновника бесчисленных репрессий. Людей на входе и внутри Колонного зала Дома Союзов встречали огромные портреты покойного, обрамлённые цветами и траурными гирляндами. Хрустальные люстры с электрическими свечами в два яруса были взяты в чёрный креп. Они скудно освещали тёмно-рубиновый бархат полотнищ, притороченных к белому мрамору колонн. Посреди зала и всё же ближе ко входу возвышалась величественная усыпальница — установленный на ней гроб с телом почившего тонул в обилии цветов, зелени и приспущенных стягов. К изголовью никло огромное знамя с вышитым государственным гербом страны. Покойника обрядили в серовато-зелёный мундир, пришпилив к отложному воротнику шинельные генеральские петлицы. К тому же посмертный френч от прижизненного отличали погоны Генералиссимуса, орденские планки и золотые пуговицы. На атласе рядом с гробом покоились Маршальская звезда, ордена и медали усопшего. Все эти знаковые атрибуты военного ремесла, собранные воедино, предназначались свидетельствовать о несомненном мастерстве их обладателя, как выдающегося полководца. Подле гробницы застыли навытяжку сменные бойцы доблестного Кремлёвского Караула. Вовсе поближе, всего на расстоянии локтя, над гробом скорбела «кремлёвская восьмёрка» — восемь высших руководителей Советского государства. И уж за ними, на втором почётном рубеже, в кучной тесноте расположились наиболее ответственные и преданные правительству чины. Очень тихо, словно из-под земли, сочилась роковая музыка Моцарта, Бетховена и Чайковского.
По ритуальному протоколу Кириллу Кирилловичу Мутину, новоиспечённому генералу КГГБ[1], досталось вполне достойное место. Поэтому он без околичностей сосредоточился на собственном дыхании. Всего несколько секунд внешней тишины ему понадобилось, чтобы услышать, насколько шумна изнутри собственная голова. При всей масштабности грядущего решения в ней оказался не только легитимным, но просто неизбежным творческий хаос. Тот, который яйцеголовые титаны мысли из «Лаборатории Андроген» называли «принудительным мышлением». Те, что в далёкие тридцатые годы по настоятельной просьбе товарища Сталина должны были найти эликсир долголетия для правящей элиты Советского государства. В сорок пятом году лабораторию неожиданно разгромили, а её сотрудников спешно расстреляли. Не потому ли, что эти бедолаги на радостях проболтались о секретах, которым никак нельзя было просочиться в массы? На этот риторический вопрос Кириллу Кирилловичу предстояло отыскать вразумительный ответ. Доступ к архивам «Андрогена», помеченным грифами «Лаборатория А» и «совершенно секретно», генерал госбезопасности Мутин получил на Кунцевской даче из рук вождя вместе с генеральскими погонами. Совсем незадолго… и вот Его нет. Врачи констатировали смерть 5 марта в 21 час 50 минут. И уже в шесть часов следующего дня о несчастье сообщили народу, стране и миру обмороженным голосом всесоюзного диктора Юрия Левитана. Похороны назначили на утро 9 марта. И также предусмотрели, что во второй день прощания двери Колонного зала закроют для рядовых посетителей в пользу ближайшей родни покойного и номенклатуры высшего эшелона власти.
Кирилл Кириллович с рождения унаследовал досадную низкорослость, и, чтобы разглядеть перспективу, ему приходилось подниматься на «цыпочки», вытягивая шею до боли в позвонках — даже несмотря на то, что обувь шил по индивидуальному заказу с сильно утолщёнными подмёткой и каблуком. Нынешнюю ситуацию разрядил генерал из армейской контрразведки, добряк и приятель Слепокуров, уступив Мутину своё место в первом ряду. Отсюда подробно просматривались матёрые затылки «кремлёвской восьмёрки». Кирилл Кириллович попытался прикинуть, кому из них улыбнётся удача, с реверансом поднеся в дар золочёный скипетр власти. Жоре Маленкову? Пожалуй, но ненадолго — хмырёк безнадёжно скомпрометировал себя перед «мировым еврейством», явно переборщив с позорным разгромом ЕАК, еврейского антифашистского комитета. Может быть, Славику Молотову? Тоже вряд ли! Мир не простит ему шашни с Риббентропом и чёртов «Пакт о ненападении между Германией и СССР». Не Климке ли Ворошилову? Нет — этот, хоть и удостоился маршальского жезла, но лишь благодаря собачьей верности покойному Кобе. Или всё же Коленьке Булганину? Отпадает — трусоват Николя — говорят, при авиационном налёте едва не обоссался. А если Анастасику Микояну? Дудки, народ до сих пор помнит, как Стас на всю страну оправдал репрессии 1937 года: «Славно поработало НКВД за это время». А то, что ли, Лазарю Кагановичу? Могло статься, если бы в остатке не оказались Лаврентий Берия с Никитой Хрущёвым! У Лаврика не худой авторитет в военной промышленности, зато слава по женской части, как у бешеного жеребца, дурная. Никитка — дуб, деревенщина, правда, осторожен и хитёр, как гиена. Оба выглядели так, будто застали сотворение мира — каждый по-своему, но и тот, и другой младенцем. Кирилл Кириллович мысленно усмехнулся. Никто из восьмерых упорно не замечал недавно помазанного генерала КГГБ — не та масть, чтобы привлечь внимание небожителей коммунистического олимпа. Зря! Именно в эти минуты решалась их судьба — у большинства в незавидном направлении.
Кирилл Кириллович сосредоточился на свистопляске мыслей. Они надёжно блокировали его от самого себя. Прислушался к ощущениям в теле. Почувствовал плечи. Спину. Услышал ритм сердца. Изведал, насколько поверхностно дыхание. Как напряжён живот. Постиг температуру тела и воздуха вокруг себя. Увидел действительность. Почуял запахи, вкус и звуки.
К гробу размеренно и печально приближался бывший деревенский учитель немецкого языка Наумкин. Заматерел Алексей Евсеевич. На пользу пошла безмятежная и сытая жизнь. В теле проглядывал неукротимый мужской стержень. Немного поредели, зато не поседели волосы. Всё с тем же задором искрились глаза в моменты эмоционального шторма. Добавилась округлая плавность в движениях — именно она подчёркивала уверенность в себе и фундаментальное мужское начало. Надёжный паренёк, за долгие годы ни разу не подвёл. Пожалуй, на него можно делать ставку. Их взгляды встретились, и Мутин выразительно сощурился. Они давно понимали друг друга без слов. Пристроившись справа, Наумкин нагнулся к уху Мутина:
— Всё, что не умеет гнуться, рано или поздно ломается.
— Мы все когда-нибудь сдохнем, но некоторых будет даже жалко, — одними губами ответил генерал и снова погрузился в себя.
Поразительно, насколько сложно возвращаться к привычной скорости. Всё что может понадобиться — это внимательно замедляться. Почувствовать, как пахнут сухие мысли придворных лизунов. Им трудно, почти непереносимо жить без вождя — практически, бесполезно. Кирилл Кириллович вздохнул глубже, до упора, хотя судьбоносное решение продолжало вызревать неторопливо и на уровне ассоциаций… может быть, бессловесной игры… Сирень или полевые цветы, мёд или мякоть плода, миндаль или жёлуди, древесные сколы или торфяные нити. Что-то из детства — но скорее, из юности. Или что-то ещё… В этот миг Кирилл Кириллович изощрённо присоединялся к себе. Оценивал, как отзывается тело на ассоциации. Тело всегда откликалось по-разному. Но интуиция ни разу не подводила. Долгие годы он учился доверять ей, и со временем тонкие душевные настройки становились почти реальностью. Большинство человеческих желаний восхитительны тем, что не осуществимы.
Алексей Евсеевич, офицер для особых поручений, едва различимо, почти на границе ультразвука, кашлянул и достиг желаемого. Привлёк внимание патрона. К гробу приближалась колоритная пара. Именно Наумкин, обыгрывая трагические событиями сорок третьего года, когда комиссар фронта Мутин получил ранение щепетильного свойства, свёл их обособленные жизни в сосуществование. Всегда осанистый полковник Людвиг Степанович Мокрицкий, сейчас двигался суетливо, будто окончательно потерял пространственную ориентацию. Генералу он представлялся пройдохой, который пытается так извернуться, чтобы взглянуть на мир сквозь собственное анальное отверстие. О таких говорят: «Трудится не покладая рук и не омывая ног». Хотя правильнее было бы сказать «не омывая ногу», ведь Людвиг Степанович вернулся после фронта только с правой, потеряв при артналёте на госпиталь левую. Хорошо, что благоверная Гвардия оказалась рядом, а скальпелем владела, как собственным интеллектом. Вот и теперь рядом с Мокрицким она выглядела очень заманчиво в своём последнем приступе женственности. Вызывающе несла монолитный, будто высеченный из скальных пород зад, неосторожно притупив внимание членов Политбюро к созерцанию мёртвого лика вождя. Гвардия Абрамовна Карп всегда первосортно вписывалась в военную форму, особенно элегантно сидела на её голове пилотка с кокетливо-вагинальным вырезом. Доктор, наткнувшись на взгляд Мутина, мгновенно приспустила ресницы. В глазах Кирилла Кирилловича боролись два противоречивых начала — с одной стороны генерал был безмерно признателен хирургическому таланту Гвардии, с противоположной — чем меньше народа знало о его несчастье, тем послушнее оказалось бы общество, которое он собирался взрастить в стране, размерами с материк. Оказавшись заложницей государственной тайны, доктор Карп, вроде пугливой пичуги, всегда пребывала настороже и никогда не давала повода усомниться в нарушении клятвенного молчания. Но суть события всегда скрывалась глубже слов, его описывающих. В КГГБ даже у дна есть подвал.
— Всё ещё хороша стервочка, а? — снова припав к генеральскому уху, шепнул Наумкин.
— Тебе когда-нибудь целились в пах? Или, может быть, тебе отстреливали яйца? — галантно поинтересовался Мутин у помощника.
Наумкин отрицательно покачал головой.
— Каждый раз, когда вижу симпатичную девку, представляю, сколько у нас с ней могло получиться детей, — сжалился Мутин над его растерянностью.
Наумкин и на этот раз не нашёлся ответить на реплику хозяина.
— Хороший мальчик, — похвалил его генерал, — будь и дальше, как карлик в мужской бане.
— Это как? — поинтересовался Наумкин и сразу же поплатился за несдержанность.
— Не открывай рот. Во избежание слепой неожиданности…
— Опять двадцать пять… Неожиданность… Слепая… Что за ребус? — притворно не сдавался Наумкин.
— Представь себе… — расщедрился Мутин на засаленный анекдот, — слепец в женской бане пристроился к бабе со спины и впритирку — «Слепой, слепой, ты же меня иймёшь!» — «Ой, пардон, а я и не видел!»
Наумкин вежливо осклабился, стараясь избегать ситуаций, возвращающих Кирилла Кирилловича к больному вопросу. Генерал КГГБ Мутин давно смирился со своим увечьем, на войне случалось и хуже, но его бесконечно удручала рефлексия о невозможности иметь собственное продолжение. Хотя бы одного-единственного дитяти.
У гроба беспрерывным потоком текла панихидная череда. Вперемешку проходили жители Москвы и представители других городов — работники предприятий и учреждений, школьники с учителями, солдаты и офицеры различных войск.
— Эх Лёха, Лёха, — снова пришли в движение губы Мутина, — не царапай мне сердце, разве моя любовь может быть только к Родине? Давай не портить всё обнажённое, что между нами произошло…
Режущая, как остриё ассагая, душевная боль плескалась в закипавшем шёпоте. Наумкин на всякий случай согласно кивнул.
— Устроили всесоюзное погребение старые пердуны, — продолжил Кирилл Кириллович. — ты же знаешь, в зависимости от социальной концентрации индивида градус неадекватности возрастает по экспоненте и стремится к бесконечности в случае летального исхода. Для начала раструбили легенду о том, что «ещё один сгорел на работе». Затем устроили прощание в Колонном зале Дома Союзов, куда сбежалась толпа желающих поглазеть на знаменитого покойника, изобразить скорбь и произнести пламенный спич. Возвеличивание покойников в нашей стране не знает границ. Обыкновенного грузина превратили в величайший российский ум, и его уходом завершили эпоху. Последуют пафосный катафалк, гражданская панихида и почётный караул с ружейной стрельбой в воздух. В конце концов, мертвеца забальзамируют в закрытом от быдла месте… Лёха, взгляни внимательно на наших партийных секретарей. Что видишь?
— Вывеску на входе в крематорий: «Не дадим археологам ни единого шанса».
— Ого, сильно сказано… Не боишься?
— Был у меня один знакомый еврей, Хема Армавирский. На шее носил латунный крест такого размера, что полагалось бы выписать мандат на ношение оружия. Рассказал он мне притчу, — на шепчущихся у гроба вождя товарищей стали обращать внимание, но, опознав генерала КГГБ Мутина, отворачивались, — к авторитетному раввину как-то раз, зажав в кулаке живую моль, пришёл его ученик. «Бабочка у меня в кулаке, — спрашивает мудреца, — живая она, или мёртвая?» А сам себе хитрит, — дескать, если он скажет живая, сожму кулак, скажет мёртвая, раскрою ладонь, пусть летит куда хочет…
— Ну и что ответил святой? — на этот раз не стерпел Мутин.
— Да так… Всё в твоих руках.
— Достойно… Значит… Ты со мной? — в голосе Мутина зазвенела тетива и Наумкин тотчас осознал убойную прозорливость кураторов из Абвера, сумевших ещё в начале войны безошибочно поставить на «правильную лошадь».
— До самой смерти, — просто и по-философски ответил Наумкин.
— Где мы пройдём, там остановится время, — пообещал генерал, бросив презрительный взгляд в сторону «Кремлёвской восьмёрки» — соискателей заветного монумента «Первый секретарь ЦК компартии Советского Союза», — собирай команду, Алексей Евсеевич, пора. Учти — надёжную и без сантиментов. Успех любой миссии очень зависим от количества и качества запасного оборудования.
— А Берия?
— Пусть мерзкий пакостник хихикает над чужим горем. До поры, до времени. Фигура битая, хотя он о том ещё не смекнул — вот и взбрыкивает. Когда я его первый раз увидел, подумал: доберман нюх потерял и жрёт собственные какашки. Пусть пока что девицам прелести ниже поясницы вылизывает… наступит время, и мы его «фаберже» в тиски зажмём и раздавим. Что скажешь, Наумкин?
— Раз уж дамы ловят рыбу, кавалеры отгоняют мух…
— Стало быть, лады… — генерал притянул голову Наумкина к себе и заглянул в глаза долгим пылающим взглядом, прожигающим нутро насквозь и едва слышно прошептал, — ну что, дошло? Всё уразумел?
Алексей Евсеевич мотнул головой, словно от насекомого, но Мутин тотчас слил в небытие зародившееся сомнение:
— Идея проста… До глупости. Но, когда дурацкая идея срабатывает, её кто-нибудь когда-нибудь назовёт гениальной. Ты, мужичок, слишком давно перестал быть молодым. Но я, пожалуй, пойду откушаю жареной картошки у одного ответственного работника в Марьиной роще. Вчера в кабинете, когда сообщили о смерти дорогого товарища Сосо, сразу припомнил запах жареной картошки, а ведь я варить её ставил. Действуй, переводчик, вдумчиво и ничего не бойся.
— Неужто… Сам? — Наумкин глядел обескураженно.
— Лидер не должен заниматься ничем, кроме стратегии. Если он занимается текучкой, то работе грош цена. Возьми Мокрицкого, он с Хрущёвым работал, когда тот прозябал в членах военного совета фронта.
Ободрительно толкнув кулачком плечо соратника, для чего пришлось приподняться на «цыпочки», генерал КГГБ Мутин покинул Колонный зал. Наумкин удивлённо смотрел ему вслед. «Иногда нам позарез не хватает признания тех, кого мы вынянчили», — подумал Кирилл Кириллович, нисколько не сомневаясь, каким именно взглядом проводил его Наумкин.
На площади Мутин застал, как ему показалось, чуть ли не светопреставление. Из новеньких, сверкающих лаком автобусов «Икарус» одна за другой спускались смуглые женщины, одинаково одетые в чёрное. По всей Грузии спешно собрали профессиональных плакальщиц, чтобы в погребальный день они, сопровождая по старинной традиции траурную процессию, горько оплакали ушедшего в мир иной единокровного соотечественника. Их душераздирающий плач, предполагалось, будут транслировать по всем каналам радио и телевидения.
Отдельную машину, передвижной медицинский салон, переоборудованный под лимузин представительского класса, покинул человек в строгом тёмно-сером костюме и в однотонной рубашке, выгодно оттеняющей цвет галстука и пиджака. Голову его покрывал непременный атрибут национального гардероба — войлочная шляпа с пером из крыла беркута, по случаю похорон поминальным. Это был Имре Надь, член Политбюро и председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики. Его мгновенно окружила охрана, десятка с два бойцов в одинаковых униформах. Весь его вид свидетельствовал, как глубоко он переживает утрату великого вождя — не только советского народа, но и мирового пролетариата. Кирилл Кириллович узнал его по щегольским усикам и апатичному взгляду, ведь иногда, совсем не часто, приходилось пересекаться с ним по службе в прежние годы. В свою очередь, Надь, возможно, узнал Мутина, но сделал вид, что не заметил. Помнилось, что Наумкин всегда нелестно высказывался о лояльности Имре к построению коммунистического общества. Это иногда наталкивало генерала на мысль, что Алексей Евсеевич мог знавать венгра в прошлом. Но инициировал выдвижение Надя на пост главы венгерского правительства Берия — это и подкрепило обобщающую оценку в глазах генерала КГГБ, вкупе с беглым взглядом, которым он удостоился от спесивого Имре Надя.
Ровно восемь лет спустя Кирилл Кириллович Мутин стал с насмешкой называть «отца народов» «Дважды похороненным», ведь тело Сталина по решению ЦК партии было вынесено из мавзолея и захоронено у Кремлёвской стены.
Глава 2. Март 1953. Всеслав, Хенарива, Теодор, Таисия…
— Папа, а как понять «в конце концов всё будет хорошо»?
— Да легко! Вот умрёшь ты, повезут тебя на кладбище хоронить, станут опускать гроб в могилу, а бригадир могильщиков скажет: «Ага… так, только капельку ниже… И чуть правее… Вот точняк! В самый раз! Теперь всё будет хорошо…»
Народный фольклор
Доходный дом графа Шереметева, построенный в далёком, но почти позабытом 1898 году, имел собственную историю, всецело связанную с летописью Москвы и, в частности, с эпопеей рядовой ячейки советского общества — пролетарской семьи рядового завхоза и поначалу простой официантки. Как-никак, Всеслав Болеславович Трезузе и Хенарива Имревна Смальц после рождения сынишки — ему на диво импонировало имя Теодор — поселились в коммунальной квартире этого по новым временам «правительственного» дома на улице Грановского, раньше носившей не менее презентабельные названия — Хитров, а затем и Никитский переулок. «Коммуналка», жильцы чаще называли её «Галера», располагалась на последнем, четвёртом этаже, имея два безотказных сообщения с внешним миром — «парадное» с широчайшей белокаменной лестницей вместо нижнего пролёта и «чёрный ход» к дворовым постройкам, гаражам, где парковались служебные машины высокопоставленных жильцов. В глубине подъезда бесшумно парил вверх-вниз лифт с двумя дверцами вручную — кукольный, словно лакированная ореховая шкатулка. Между дверьми в «парадное» и к «чёрному ходу» извивалась лубочная кишка коридора. По левой её стороне жались друг к другу тесно, как соты в улье, светёлки соседствующих семейств. Справа проход делился надвое отдельным клозетом с банно-душевой клетушкой, куда в любое, тем паче, в пиковое время суток, выстраивались спонтанные очереди. Завершался коридор общей кухней, заставленной обугленными табуретами под закопченными примусами. Здесь всегда по-свойски пахло незамысловатыми блюдами вперемешку с керосином. Номинально пищеблок из-за отсутствия регулярного «красного уголка», был признанным эпицентром «общих собраний». Поэтому даже здесь с растиражированного портрета в рукодельной раме поощрительно взирал на коммунальный быт сограждан неутомимый правитель страны. И, если три нижних этажа занимали известнейшие в стране семейства, такие например, как Молотовы, Рокоссовские и Коневы, то обитания в «Галере» удостаивались счастливчики из простонародья — наверняка, обладатели выигрышных номеров какой-то таинственной лотереи. В полуподвальных же ведомственных помещениях проживала обслуга домового хозяйства — по паре сменных профессионалов из числа дворников, слесарей, электриков и лифтёров, непременно семейных. Их дети забавлялись во дворе дома вместе с отпрысками маршалов и партийных секретарей.
Хенарива Имревна мечтала воспитать сына не только высокопросвещённым интеллектуалом, но, прежде всего прочего, добропорядочным и отзывчивым человеком, патриотом первого в мире социалистического отечества. Лишь одно обстоятельство препятствовало её сокровенным грёзам — проклятая болезнь, цинично неизлечимый синдром Туретта. Ведь несчастная женщина изнемогала от вспышек внезапной бранчливости, иногда по отношению к своему единственному, беззаветно любимому ребёнку. Правда, изредка ей удавалось побороть свою немощь, но стоило это нечеловеческих усилий. В отместку в часы ежедневных перепалок с товарками по кухне она раскрепощалась, наделив себя необузданной свободой. И тогда вслед отступавшим, как шведы под Полтавой, полномочным владелицам примусов громыхала дальнобойная ругань, не знающая ни аналогов, ни границ. Поэтому соседки трепетали перед Хенаривой Имревной. Панически боялись, но уважали. Впрочем, дождавшись завершения приступа и отойдя нервами, она благочестиво извинялась — тогда соседки увёртливо и с облегчением уверяли её, что «ничего страшного не случилось». Мужская конфигурация «Галеры» вообще таяла в присутствии бескомпромиссной женщины. Тому была матёрая подоплёка. Кричащее тёмно-рыжее, зеленоглазое и белокожее великолепие с пунцово вздутыми губами сражало мужчин влёт — они безнадёжно падали ниц, захлёбываясь комплементами в собственной слюне. Наследница добропорядочного рода Смальц была сложена так изумительно, что пройти мимо роскошной «поделки» оказывалось невозможно, поскольку её пылкая душа, ощущая и осознавая свою безудержную физиологическую мощь, добавляла облику шарм аристократической неприступности.
Хенарива Имревна Смальц работала в КСЛП — Кремлевской столовой лечебного питания при четвертом главном управлении Минздрава. Начинала она с низов, всего-то вторым помощником официанта, но через семь лет, пройдя все ступени карьерной лестницы, заняла престижную должность су-шефа[2].
Отец семейства Всеслав Болеславович Трезузе трудился в том же КСЛП завхозом. Всё бы ничего, но его внутреннее состояние оставляло желать лучшего. Ещё с фронтовых лет он испытывал мучительное чувство раздвоенности. Первая, то есть, повседневная его индивидуальность страдала от ощущения в себе какой-то другой личности. Но эта вторая натура была слишком инфантильна, чтобы заявлять о себе в голос. Фронтовая контузия оказалась настолько глубокой, что прежняя жизнь напрочь улетучилась из памяти. Он мучительно пытался проникнуть в прошлое, чтобы нащупать и хоть как-нибудь восстановить существенные детали, но ничего подобного не удавалось. Редкие приятельские встречи с бывшим учителем немецкого языка Наумкиным, с его слов свидетелем их довоенной молодости, облегчения не приносили. Наоборот, доставляли беспокойство, и он втихомолку попивал.
Тем роковым утром на заднем дворе общеобразовательной школы с политическим уклоном юные тимуровцы хоронили раненого дятла. Пернатый ещё не успел испустить дух и подозрительно косился чёрным немигающим глазом на пионеров. Теодор, невзрачный парнишка, достигший первых звоночков мужского самоопределения, заводила и отличник военной и политической подготовки, мимолётно взглянув на трофейные часы, отцовский подарок ко дню вступления в пионерское достоинство, бросил в ямку первую ритуальную горсть. На восемь утра была назначена экстренная линейка, общешкольное построение. Опаздывать туда не полагалось ни под каким видом. Наскоро утрамбовав земельку, откуда ещё доносилось попискивание заживо похороненного дятла, участники панихиды вприпрыжку помчались в школьный спортзал.
Рыдала траурная музыка. Неумеренно прыщавая Тасенька Передрягина — одноклассница Теодора, хроническая второгодница и соседка по «Галере» — задавала мелодию кларнетом. Получалось у неё из рук вон плохо. Этим утром она, как всегда, получила жёсткую взбучку от матери за немытую посуду, пустые бутылки под столом, накопленную стирку и неметёный пол. Мамашу, Раису Мефодьевну жильцы «Галеры» справедливо провозгласили «Одноночкой» и менять прозвища не намеревались. Её, Раиску-Передряжку, всякий раз навещали случайные знакомцы, что, несомненно, сказывалось на скороспелом взрослении старшей дочери. Раиса Мефодьевна по-своему, как могла, разгребала перманентные трудности быта, неустанно поднимая к самостоятельной жизни пятиглавую ораву детей.
— Таисия, детка, дай мне сугубый до-минор, — требовала товарищ Кунявская, завуч и флейтистка по образовательному профилю, — плотный до-минор, тебе говорят, — и Тасенька наобум раздувая щёки, на свой лад воспроизводила гармонию Шопена. Играть вдохновенней она умела только на немецкой губной гармошке, трофее, подаренном Людвигом Степановичем Мокрицким, когда он по случаю ночного дежурства супруги побрёл погостить к Хенариве Имревне, а попал к Передрягиным на случайный чай. Завуч в силу творческой натуры не придавала значения пеленгам истины «яблоко от яблони далеко не катится», зато в ближайшей округе многие пацаны пубертатного возраста знали о них или понаслышке, или совсем вплотную. Если девушка Таисия таким образом выводила прыщи, то кто решился бы возражать! На здоровье. Но, к сожалению, ничего не помогало — по мере того, как старые фурункулы дозревали и удалялись, новые появлялись с неотложной обильностью.
Заунывная музыка рвала душу, и Теодор сразу заподозрил неладное. Со стен твёрже обычного взирала универсальная троица «Три богатыря» — по матёрой школьной традиции Ленин, Маркс и Энгельс. Преподаватели-учителя обречённо столпились около гимнастического снаряда, старого козла с насквозь прохудившейся кожей по бокам. Без стеснения утирали слезы и сморкались. Кому-то полагалось взять слово, но никто не решался. После нескольких минут немоты на козла с помощью наградной соревновательной тумбы взобрался директор, полковник в отставке Шкамих, в молодые годы выпускник ВВПУМФ[3]. Жизнь отчеканила на его лице чудовищные морщины побед, реже — поражений и кровно добытого опыта, собранных нынче в маску необратимого горя. Дети невзлюбили его за ефрейторскую толстокожесть, передавая из поколения в поколение необидное прозвище Шкалик, с явным намёком на флотское пристрастие. Но, выделяя Теодора из ученической среды, директор никогда не распинал его в присутствии одноклассников. Родителей в школу тоже не вызывал, возможно, учитывая их фронтовой престиж, или втайне пасуя перед лобовым столкновением с Хенаривой Имревной, однажды пережившей затяжной приступ сварливости в директорском кабинете. Откашлявшись, Шкамих начал издалека, но шибко невпопад:
— Вслушайтесь… Вдумайтесь внимательно… Семь раз… Семь раз царское правительство отправляло товарища Сталина в сибирскую ссылку! Он бежал шесть раз… — директор прижмурился и сжался, будто в ожидании контрольного выстрела в голову, но не дождавшись, очнулся, в голос запричитал, и капли слёз необработанными янтарями полились со щёк, бороздя арыки на пыльной и бессменной адмиральской шинели со споротыми погонами.
Дети стояли смирные и напуганные, они ещё не ощутили масштабов горя и поэтому не знали, как реагировать на прелюдию Шкалика. Теодору подумалось, что померла мать прыщеносной Таисии, ведь Раиса Мефодьевна частенько посещала медвытрезвитель и, конечно, рисковала не вернуться.
— Горе у нас, дети… Иосиф Виссарионович… — неожиданно тихо, но отчётливо, слог в слог, произнёс директор и дальше заговорил, как по писаному, — Скончался… Совсем недавно всех нас потрясло неожиданное известие о его болезни… Теперь и смерти. Осколки наших терзаний будут пронзать сердца грядущих поколений… Но мудрым в народной памяти останется каждое Сталинское слово. Канут в прошлое тысячелетия, и человечество, навсегда избавленное от горя и бед, произнесёт в светлом будущем имя Сталина, как символ бескорыстного созидания вечности.
Медленно обведя взглядом школьников, директор окончательно сник:
— Сталин умер, дорогие мои ребята…
Редкое зимнее московское солнце исчезло, будто проглоченное расходившимся монстром. Тасенька Передрягина непослушными руками уложила инструмент в кофр. Беспощадная реальность непереносимым грузом обрушилась в детские и взрослые души. Всеобщее стенание зашелестело в спортивном зале. Страшная весть об утрате понеслась по коридорам в классы, наполняя пространство бесстрастными вихрями жалоб, страданий и горести. Всё жалостливо затрепетало. Сначала послышались всхлипы, но затем тишину под корень снесли рыдания. Или даже тоскливые вопли. Эти минуты намертво вгрызлись в душу юного Теодора. Разве не существует вещей, которые рушат границы миров! Разве смерть любимого вождя не худшая из них! Ни душа, ни сердце мальца не справились с ощущением катастрофы, и он помчался домой, не чуя под собой ног, и по-зимнему обнажённые ветви клёнов распахивались в стороны. Горечь потери бурлила в сердце, металась, как птица в клетке. Задубевшие слои эмоциональных мозолей отшелушились, обнажив надолго бездонную и незаживающую рану.
Стоило запыхавшемуся Теодору появиться во дворе, как Хенарива Имревна распахнула окно. Ей не пришлось кричать. Было так тихо, что рядом со словами, слетавшими с её губ, слышался писк голодных комаров, взлетавших из подвала на запах крови.
— Дорик, домой… Беда у нас…, - промолвила она.
Теодор, забыв о лифте, молнией взлетел на родной этаж, в этот раз не понукаемый ругливыми присказками матери. Она встретила паренька у подмостков «Галеры» и немедленно сдёрнула с него демисезонную, не раз ремонтированную курточку, мигом сменив на меховую «выходную», которую полагалось носить по самым ответственным праздникам.
— Хена… Рива, — попытался возразить Всеслав, — его-то зачем? Вся Москва сбежалась, обидеть могут… Затоптать…
— Я им, гадам, затопчу, хрен приделаю к плечу, — ругнулась мать, — Кобу Виссарионыча при жизни не удостоились лицезреть, так хоть по смерти поглядим, пока заживо не зарыли.
— Как? — воскликнул сбитый с толку Теодор, вспомнив похороны дятла, — закопали заживо? Разве товарищ Сталин сначала не умер?
— Не богохульствуй, сынок. Товарищ Сталин, как и до него дедушка Ленин у нас живее всех живых, — заявила мать и потащила ребёнка по ступеням вниз. Тоже решив не дожидаться лифта.
Горе пережить в одиночку крайне сложно, радость — невозможно вообще. И, если двум неразлучным церемониям — прощания и похоронам вождя — предстояло в конце концов завершиться, то тризне по отцу народов уготовили удел нескончаемый. Поздним вечером двери Дома Союзов плотно закрылись, оставив тело отца народов в венценосной недосягаемости. С наступлением полуночи бойцы Краснознамённого Кремлёвского Караула приступили к выносу траурных венков. Предметов собралось слишком много, и мнение члена политбюро ЦККП[4] Берии, непревзойдённого знатока ритуальных услуг, возобладало над прочими. Ведь за его подписью приводились в исполнение приговоры по многочисленным расстрельным спискам. Венки решили возложить к подножию Мавзолея. Притом первую сотню — от советских руководителей, лидеров других государств, руководителей крупных иностранных компартий и родственников покойного — загодя отсортировали для обязательного использования в похоронной процессии и в чине погребения.
На исходе ночи отперли сборные пункты для делегаций, намеченных присутствовать на Красной площади. Назначенцы, получив специальные пропуска, немедленно направились к Мавзолею, чтобы прибыть заблаговременно до наступления утра. За пару часов до начала похорон вход на Красную площадь перекрыли — даже для делегированных посланников. С рассветом запретили движение автомобильного транспорта в пределах Садового кольца. Исключение предоставили лишь спецмашинам, получившим допуск. По маршруту следования траурного кортежа выстроили непрерывное оцепление. На Красной площади кипело построение войск и трудящихся. Дирижирование процессом доверили товарищу Хрущёву, и уже по этому признаку можно было предположить его потенциальные возможности на освобождённый трон. За это полагалось бы пригубить, но — не у всех же на виду. Как-никак тысячи военнослужащих и делегатов заполонили Красную площадь, доказав непревзойдённую масштабность социалистического погребения. Около 10 часов поутру из Дома Союзов стали выносить венки и награды усопшего. Вскоре ближайшие соратники — вся «великолепная восьмёрка» — подняли гроб и понесли к выходу. К их спинам пристроились рослые полковники, приняв на свои плечи основной политический вес покойника. Саркофаг из твёрдых пород дерева установили на артиллерийский лафет, застеленный малиновой полстью, словно круп рыцарской лошади. Рама как будто прогнулась, но выдержала. Вопрос «Снесёт ли сыра земля тяжкие грехи, смертную добычу?» подразнивал членов «великолепной восьмёрки», ведь в борьбе за престол удостоиться победы мог любой из них — и каждого тешила надежда «Почему бы и нет!» Траурная миссия выстроилась в соответствии с иерархией. Первыми шли члены Политбюро, за ними следовали родственники усопшего, затем члены ЦК, вслед депутаты Верховного Совета, далее делегаты от иностранных коммунистических партий и, наконец, шествие замыкал почётный эскорт Кремлёвского Караула. На атласных, специально изготовленных подушечках награды Сталина несли высшие офицеры — генералы армии и адмиралы флота. Маршальскую звезду доверили маршалу от кавалерии, герою гражданской войны Будённому, но знаменитый военачальник от горя едва держался на ногах. И, чтобы устоять, ему пришлось принять внутренне заветную дозу «будёновки». Хрущёв, подыскивая замену, сначала растерялся. Но потом его взгляд, порыскав, остановился на перспективном генерале Госбезопасности Мутине. Кирилл Кириллович артачиться не стал, принял подушечку с высшей армейской наградой и под траурный марш Шопена двинулся за процессией. Вскоре шествие достигло Мавзолея. Надпись «Ленин — Сталин» на нём подтверждала, что усыпальница готова к приёму второго насельника. Гроб перенесли с лафета на специальный постамент. Начался траурный митинг. Именно эта часть церемонии и оказалась главной. Формально соратники отдавали должное памяти ушедшего вождя. Неформально каждый рассказывал о своём видении будущего после «великого вождя и учителя», «мудрого отца», «зодчего коммунизма» и «локомотива истории». Согласно пирамиде власти строилась очерёдность выступавших. Траурный митинг открыл Хрущёв, пригласив к микрофону первого из скорбящих — товарища Маленкова, именно он, возглавив Совет Министров после смерти Сталина, считался прямым наследником власти. В своей речи председатель правительства, вспомнив достоинства покойного, обозначил направление, в котором должно развиваться государство. В первую очередь назрела необходимость решать экономические проблемы, улучшить жизнь советских людей, которым за долгую сталинскую эпоху перепало слишком много «кнутов» и совсем мало «пряников». «Кенарь», — оценил его выступление Мутин и на роль «Ястреба» определил Берию, идеологического апологета Сталинской линии, означавшей продолжение борьбы против «врагов народа». Когда митинг закончился, соратники снова подняли гроб и понесли в Мавзолей. «Иконы не хватает… Тьфу, тьфу, тьфу три раза — не моя зараза» — совсем, как в детские годы подумал Мутин и, отыскав закуток, куда прибрали награды Сталина, пристроил туда же Маршальскую звезду.
В полдень над Кремлём прогромыхал холостой артиллерийский залп. За ним заводы, фабрики и даже речные пароходы на Москве-реке разразились протяжными гудками. После пяти минут скорбного молчания во всех предприятиях и учреждениях страны прозвучал траурный марш, быстро сменившись государственным гимном в оптимистической тональности. Церемония похорон Сталина, начавшись в Колонном зале Дома Союзов, завершилась проходом войск у Мавзолея и пролётом боевых самолётов. Над Кремлём подняли приспущенный государственный флаг. Изжившая себя эпоха приказала долго жить. Рана, причинённая стране кончиной вождя, закрылась неторопливо, как сонный глаз пожилого труженика. Время похорон скрылось в копилку прошлого, промелькнув, словно мимолётная улыбка младенца.
Хенарива Имревна торопилась, и Теодор, рискуя скатиться по лестнице, мчался за матерью. Позади раздавалась бодрая морзянка, высекаемая подкованным протезом Всеслава о ступени. Душа отца семейства ликовала — видать, в кромешной спешке жена позабыла о нём. Совсем не часто удавалось избежать ему насыщенной жениной опеки. На радостях Всеслав Болеславович подарил красненькую ассигнацию дворнику Багратиону Лукичу, который выметал из парадного натасканную за неделю грязь.
— Благодарствую, ваше высокоблагородие, — оценил лафу дворник, шатко изобразив похмельный книксен.
— Зря, брат, стараешься! Видно, запамятовал, как тебя всей «Галерой» от участкового отмазывали.
Багратион Лукич, справедливо полагая, что в доме на Грановского случайными людьми не пахнет, собрался заикнуться о «благодарности», надёжно хранимой в его дворницкой, но едва не опешил от неожиданного возвращения Хенаривы Имревны.
— Никак, языки в брюхо всосали, педрилы? Всё бздите побздеть по раздельности! — намекнула она на излишне товарищеские отношения мужа с дворником и добавила, увлекая за руку Всеслава, — так знайте, сируни… мне с вами не резон базарить…
Когда советским гражданам сообщили о болезни Сталина, народ ужаснулся, впитав подробности о мозговом кровоизлиянии вождя, парализовавшем его речь и всю правую половину тела. Люди поторопились за свежей прессой в киоски «Союзпечать» и, заняв очередь, допытывали счастливчиков, успевших разжиться свежими газетами, есть ли правильные новости в медицинской сводке. Мрачные события обрастали слухами, как катыш льда снегом и так стремительно, словно сошедшая с гор лавина. Многие в эти жестокие дни так и не успели выразить сочувствие политическому исполину, пожелав ему быстрого выздоровления и долгих лет жизни. Страна застыла в горестном ожидании. «Что теперь будет?» и «Кто теперь будет?» Государственный траур объявили на три дня. По сути, все ведомства, министерства, управления, заводы и электростанции перестали работать по плану. Три дня подряд живая река человеческих тел, извивалась по улицам Москвы, направляясь к Колонному залу Дома Союзов. Не все желающие успели пройти мимо гроба. Многим пришлось заново стоять в очереди. Наплыв людей не убывал. Ближайшие маршруты необдуманно перекрывались, и путь многократно удлинялся. Милиция растерялась и не знала, куда направлять потоки людей, никто из высших чинов не отслеживал ситуацию и не представлял, как продвигается очередь. Сотни тысяч людей пытались обойти отгороженные улицы, но не смогли найти ни малейшей бреши. Это был маршрут-невидимка в бедственные и горестные дни.
Торопясь к Дому Союзов, Хенарива Имревна, знавшая столицу едва ли не лучше агентов госбезопасности, продолжала без устали сжимать потную ладошку сына и неподатливую пятерню мужа. Центр Москвы не успевал вместить катастрофического наплыва пешеходов, ведь городские власти разрешили допуск людей с окраин и оцепили непосредственный маршрут следования, перекрыв военной техникой боковые улицы. В поисках свободных проходов толпы людей шарахались из стороны в сторону, как гигантский маятник Фуко со всё возраставшей амплитудой. Именно тогда, на пике всеобщего хаоса Хенариву Имревну, потерявшую ориентацию в пространстве и даже контроль над собой, оттёрли от мужа и сына. Теодор даже не заметил, как оказался один среди перепуганной стайки девушек — от них непритворно несло потом и перекисшим мускусом. Девушки непроизвольно увлекли мальца с собой, и сопротивляться напору у него не хватило сил. Лишь издалека он различил угасающие вопли отца:
— Теодор, сынок! Отзовись! Где ты?
Откликнуться не удавалось. Как и запастись воздухом, чтобы позвать на помощь. Пробраться к родителю сквозь слипшиеся в ком тела тоже не выходило. Оставалось одно — безропотно слушать, как отец пробивается куда-то наудачу:
— Что прёшь! Кретин деревенский! Не видишь, инвалид перед тобой! Как это — по барабану?! А я тебе протезом в кадык! И между глаз! Теодор! Сынок, где ты… — но затем его не стало слышно.
Верезг матери, переживавшей острый приступ Туретта, тоже оказался бесполезным. От собственного бессилия Теодор ощущал себя размазанным по стене насекомым. Толпа продолжала уплотняться, и в её охвате становилось труднее и труднее дышать. Но это состояние показалось ему блаженством в сравнении с моментом, когда качнулась первая волна. Дышать стало невыносимо. Девушки навалились на него так немилосердно, что захрустели рёбра. Теодора накрыла с головой вязкая гуща родового ужаса — того, который перехватывает сердце неизбежностью гибели. Хотелось побыстрее припасть к земле, потому что лишь между скоплением ног оставались свободные пятачки, не занятые ничем. Теодору показалось, что за обладание его тело разразилась драка. И других мыслей не существовало.
— Мама! Мамочка! — отчаянно, из последних сил, завизжал паренёк, уже не надеясь на спасение. Ведь он до изнеможения устал и смирился с неизбежностью. Тяжкое решение родилось в муках. Ничего другого не оставалось, как покориться всепоглощающему хаосу. Ему до смерти захотелось прижаться к земле окончательно, без просвета, но кряжистый парень в форме пилота, пробуравил насквозь девичий клубок — словно раскалённый фугас лобовую броню штурмовика. Выдернул обессиленного мальчугана из-под беспощадных каблуков и пристроил в нишу стены на какой-то безопасный уступ. Словно приколол ночную бабочку к чистому листу бумаги. Теодор почувствовал жажду, голод, и одновременно страшную необходимость оставаться недвижимым, чтобы сохранить равновесие. Почему он не замерз и не упал обезвоженным в голодный обморок, никто не взялся бы объяснить. Толпа перед ним пошевеливалась, ведь двигаться было некуда. Теодору бросился в глаза облезший лак на ногте ближайшей девушки, с виду мёртвой, и почему-то появилась уверенность, что сомнительная неподвижность исчезнет, стоит пальцу выпасть из поля зрения. Но оставаться стоять дальше оказалось невыносимым, и Теодор осторожно ступил ногами на толпу — на чью-то спину, червяком пролез наземь и пополз по-пластунски, как учили в школе на уроках военного мастерства — вынужденно извиваясь между сотен ног. Толпа жалась к грузовику, перекрывшему проход на боковую улицу. Теодор пролез под машиной и только тогда почувствовал облегчение. Уже на рассвете вышел к заветному «правительственному» дому. В предчувствии весны пробовали петь птицы. Во дворе, орудуя метлой, приступил к утренней разминке дворник Багратион Лукич. Завидев пацана, он без слов принял тельце на руки и унёс в дворницкую. Там бережно уложил паренька на старый топчан, на дырявый травяной матрас, развёл руки и покачал головой. Теодор безропотно провалился в сон, густой, вязкий и — чёрный без сновидений.
Отец юного пионера Теодора, Всеслав Болеславович Трезузе в поисках проглоченного толпой сына беспорядочно сновал в толпе и вместе с ней перемещался в неизвестном, но всё же наиболее вероятном направлении — к Дому Союзов. В появлявшихся время от времени просветах виднелись то стены домов, то силуэты грузовых машин. В какой-то момент толпа, постепенно забурлив, затем разбухнув, уплотнилась, и Всеслав оказался безнадёжно зажат в живой человеческой массе. Движение замедлилось и в конце концов вовсе застопорилось. Сзади продолжали напирать вновь прибывавшие, усиливая давку. Послышались иступлённые вопли, стоны и жуткий многоголосый вой. Толпа казалась единым, погибающим от боли и страха существом. Спасение было рядом — на свободной части дороги. Но испуганные солдаты в кузовах грузовиков жались к бортам, не зная, что предпринять, ведь по приказу должны были пресекать любые попытки людей пролезть под машинами. Лишь на одном из грузовиков молоденький взводный, свесившись с борта и не скрывая рыданий, стал выдёргивать из толпы и поднимать в кузов детей. Ему помогали солдаты, а он, смахивая слёзы, не переставал выкрикивать: «Не могу больше! Нельзя ведь, нельзя…» — и продолжал свой жертвенный труд. Всеслав, давно потеряв протез и возможность даже пошевелиться, стоял на одной ноге, зажатый со всех сторон так, что не получалось дышать. Было очень страшно, и помыслить о чём-то другом, кроме страданий, он не мог. Лишь старался устоять, собрав остатки сил. И кое-как дышать. Когда рядом сползли наземь несколько несчастных, чтобы больше не подняться, и перед ним сбоку появился просвет, он, инстинктивно хватаясь за плечи рядом стоящих случайных друзей по несчастью старался отодвинуться от ближайшего грузовика, чтобы не оказаться затоптанным. Рядом жалко и беспомощно распластался старичок в золочёном пенсне — падая, он разбросал свои костыли и протаранил головой бордюр. Из носа и рта хлестала кровь, и он, отхаркавшись, матерно кричал: «Хрен тебе, дьявол усатый! Сдох — так сдох! Теперь не воскреснешь!» Он продолжал орать несуразное, пока с машины в толпу не ввинтился солдатик в фуражке с малиновым околышем и малиновым кантом на темно-синей тулье. Приклад винтовки навсегда успокоил вражеского выползня — служивый хорошо знал своё ремесло и, сдёрнув с носа мертвеца пенсне, сунул себе в карман. Всеслав, жалостливо крякнув, скакнул поближе за костылём, успев засомневаться, не пригодится ли второй и тут же услышал сверху крик взводного:
— Руку, батя, руку! Давай! Быстрее! — и Всеслава мощно втянули в кузов.
Оттуда из зева толпы, слышались проклятия и хриплые вопли «Машины! Уберите машины!». Когда Всеслав отдышался, солдаты опустили его на безопасную сторону и подали костыль. Вконец обессиленный, он пересёк тротуар ко входу в подворотню незнакомого дома. Вечерело, холодало, и спасительное безлюдье не унимало страданий. Склепом показался карликовый подъезд, но Всеслав с облегчением пристроился под лестницей. Это не было похоже на последний приют, скорее наоборот, жизнь обрела новое хронологическое начало. Задремать не дала усталость. Когда занялся рассвет, Всеслав покинул согретый угол и поковылял домой по разбросанным на мостовой галошам, шапкам, очкам и сумкам. По дороге пришлось обходить даже кровавые кучи останков. Под столбами валялись растоптанные тела — ещё недавно живые карабкались по столбам вверх, пытаясь спастись, но, обессилев, падали вниз. Когда он добрался, из открытого оконца дворницкой не слышалось ни звука, хотя Багратион Лукич в такое время по-тихому крутил на патефоне заезженную в хрип пластинку — чтобы в стотысячный раз посмаковать Утёсовские куплеты: «Только глянет над Москвою утро вешнее…». Дверь оказалась незапертой, и Всеслав вошёл.
— А… а твой пацанчик здесь… Дрыхнет без задних ног, — вместо приветствия заявил дворник и затем ввинтил, — если помнишь, я обещал презент…
— Давай, — в изнеможении присел к столу Всеслав, подперев стену костылём и почувствовав, что непременно упадёт, если тут же не сядет.
На столе в рост поднялся фугас — так между ними звалась дешёвая, но критическая бутыль «шмурдяка». В глазах Всеслава копошились вопросы, и Багратион Лукич по старинной привычке утешил:
— А в шкафчике есть ещё… Ну, вздрогнем, пока твоей благоверной мегерой не пахнет…
Кто мог подумать, что судьба с Хенаривой обойдётся ещё круче. Очутившись в водовороте событий без мужа и сына, она предприняла титанические усилия, чтобы отыскать пропавших. Бушующий человеческий поток переносил её, как щепку с улицы на улицу, пока на пути не встал живой заслон — конная милиция. Толпа, обезумев, пошла напролом. Всхрапывали, вежливо пятясь от людей, кони. У пегого жеребца вконец сдали нервы. Он прянул, заржал и встал на дыбы. Люди ринулись в образовавшуюся щель, прихватив с собой Хенариву и её непобедимого Туретта. Рядом мчалась седая пигалица, беспрерывно причитая: «Азохен вей[5], Беня… говорила же — увидят твой носатый пунэм[6] — забьют ногами…». Но когда старушка споткнулась, и взвизгнув, упала, по ней, не останавливаясь, пронеслись десятки ног, переламывая и перемалывая кости, и она быстро затихла.
Прорвавшаяся толпа столкнулась с другой толпой, выплеснув Хенариву внутрь странной компании. Сколько она ни тужилась, никак не могла вспомнить, где видела этих элегантно одетых, даже в трауре, сограждан. Но неожиданно вспомнила. Совсем недавно она повела Теодора в цирк и на время двухактного представления арендовала в фойе театральный бинокль. Именно тогда в подробностях рассмотрела их лица. Особенно врезалась в память воздушная гимнастка, совсем девочка, эфемерная пушинка. После головокружительных трюков под куполом цирка она побежала между рядов амфитеатра, посылая гражданам воздушные поцелуи — как раз рядом с Хенаривой и Теодором. Мимо них вихрем пронеслась юная жизнь, цветущая и яркая, исполненная бойких надежд на будущее.
Взгляды гимнасточки и Хенаривы пересеклись. Вот и узнали обе друг дружку. Само по себе это событие никак не претендовало на исключительность, но подтверждалось благосклонным бездействием неутомимого Туретта. Толпа сильно напирала, вокруг слышались крики и визг. Цирковых в какой-то момент разметало. Хенариву прижали к гигантской витрине универмага. И девочку-гимнастку тоже, почти вплотную рядом. Под напором массы тел стекло угрожающе затрещало. Сверху со скрежетом и хрустом отделился длинный и острый, как ассагай, скол. Никто не сумел бы увернуться, некуда было. В тот же миг толпу качнуло, чуть отклонив Хенариву в сторону, и огромный, в человеческий рост, осколок, вонзившись в грудь девочки, прошёл насквозь. Их взгляды снова встретились. В глазах несчастной не было ни боли, ни удивления, ни мольбы о помощи, в них лишь угасала жизнь. Люди, невзирая на стёкла, на порезы, ринулись внутрь. Долго сидели молча оглушённые, пока снаружи раздавались крики ужаса. Там смерть по-свойски собирала урожай. Хенарива вместе с другими выбралась во двор. Сердце рвалось на части. Где искать сына! Жив ли! Решила, что Теодор обязательно уцелел, взамен умерла эта девочка. О своём на волосок от смерти спасении, не вспоминала. И с упрямым материнским предчувствием, что Теодор жив и невредим, решила пробираться домой. Пошла через дворы — ворота часто были открыты или сорваны. Затем пришлось пересечь улицы, перекрытые грузовиками в несколько рядов, иногда проползать под колёсами. Кругом скрипело битое стекло — откуда оно взялось, оставалось загадкой. Резиновые ботики Хенаривы оказались изрезаны, на юбке и рейтузах зияли дыры, и запеклась кровь. Если и были порезы, то они не тревожили — болела душа.
Гораздо позднее, уже на рассвете, войдя в подворотню «правительственного» дома, Хенарива явственно различила в пьяном мужском дуэте голос Всеслава: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва…» Песня рвалась из дворницкой прямиком на улицу Грановского через настежь распахнутые окно и двери.
— Хена… Рива, — цепляясь языком за нёбо и зубы, пробормотал Всеслав, едва завидев на пороге супругу. Багратион Лукич продолжал петь в одиночку, но от неожиданности гораздо тише.
Приятели сидели за столом, рассматривая друга через вместительную тару двух «Фугасов».
— Теодор, — зарыдала, не сдержавшись, Хенарива Имревна.
— Тс-с-с… — стали унимать её сообща супруг и дворник, оба прикладывая указательный палец к губам, — вот он здесь… чего там… жив-здоров мальчишечка… задремал только что… полчаса как…
В последующие годы в памяти Всеслава, Хенаривы и юного пионера Теодора, то и дело всплывали воспоминания о чудовищной давке. Внутри этой гигантской, многоликой и отвергнутой толпы. Ведь у неё была единственная физиономия — морда плотоядного уродца — мгновенного, но щепетильного шаржа на посмертную маску покойного вождя. Когда тысячи людей, быть может, самих по себе самодостаточных, собираются вместе, они становятся чудовищем, неуправляемым, жестоким, с перекошенным от скоропостижной ненависти рылом. Зато властелин остался верен себе — и мёртвый он не мог допустить, чтобы жертвенник оказался пуст. Если Сталин был человек хороший, то почему его смерть пробудила безумие? Небо голубое, солнце светит, а на бульваре валяются растерзанные трупы. Абсурд, так не должно быть. Так не логично. И значит, не был он ни грядущим, ни реальным гением. Не был просто хорошим человеком. Поэтому люди свободны от всепрощающей любви к нему.
Ведь небо всё равно голубое, и солнце всё равно светит…
Глава 3. Июнь 1953 — Январь 1954. Кирилл, Ян, Никита, Алексей…
Жизнь пришлась на смутную эпоху.
Эту мглу всегдашнюю и тень,
Скрягу эту, лгунью, выпивоху
Все бранят теперь, кому не лень.
Александр Кушнер
С нетерпением дождавшись вечернего адъютантского обзора и отложив первоочередные, но прозаические трудности, Кирилл Кириллович Мутин решил незамедлительно отправиться в спортивный комплекс при Кремлёвской комендатуре. С десяток минут тому заступивший на дежурство полковник из РОА[7] выложил на стол генерала красную папочку с текущими донесениями разведуправлений, сопроводив их собственными аналитическими выкладками. Мутин, наскоро просмотрев содержимое накопителя, менять планы не стал, перенеся рассмотрение документов к часу предполагаемого возвращения. От постоянной сидячей работы генерал испытывал назойливый дискомфорт в шейном и прочих отделах позвоночника, причину которого обслуживающий медперсонал относил к последствиям хронического остеохондроза — болезни, присущей подавляющему большинству апологетов номенклатурного дивизиона. К тому же безнадёжно затекли ступни, сжатые плотно облегающей и под высоким каблуком обувью, но пуще всего донимали колики в пальцах, резко переходящие в неприятное онемение конечностей. Именно поэтому Кирилл Кириллович, вспомнив перипетии детских лет, во что бы то ни стало решил вернуть телу боевитость. В те бодрые годы ему часто приходилось защищать своё достоинство в сырых ленинградских подворотнях, яростно отбиваясь от обнаглевшей шпаны. Именно тогда, прослышав о набиравшем пиетет у молодёжи японском единоборстве, он просочился в спортивную секцию дзюдо, негласно собиравшую своих поклонников в облагороженном подвале одного из домов Василеостровского района северной столицы Союза.
— В Кремль собрались, товарищ генерал? — догадавшись, вытянулся в струнку сменный адъютант.
— Так точно. Пора подразмять кости… Как у нас обстоит с колёсами?
— Лучше не бывает… Транспорт, как обычно, под парами…
Москва-столица грустила в предчувствии грозных событий. Ветер разносил по городу угарные вести. В странах социалистического содружества созревал гнойник междоусобиц. Напряжение росло везде — на страницах газет, в радио и телепередачах и даже на рядовых уличных перекрёстках. В глазах людей исподволь плескался страх — новая война стучалась в окна и двери и не казалась такой уж несбыточной, как с месяц назад.
Отпустив шофёра вздремнуть «часик-другой», Кирилл Кириллович расслабленно побрёл в здание Спорткомплекса. В вестибюле торжествовало безлюдье, столько же пустовала раздевалка, и на матах малого тренировочного зала в приотворённой двери солидарно кичилась апатичным «никого» занудливая пустынность. Лишь поблизости приглушённо слышались срывавшиеся на шёпот голоса. Кабинка Мутина, зашифрованная аббревиатурой М.К.К., никогда не запиралась на ключ, впрочем, как и все остальные, и Кирилл Кириллович, вытащив манатки на скамью, заодно убедившись в приемлемости фетора, принялся переодеваться. Выходило хуже, чем всегда — послеобеденное брюшко заметно урезало объёмные возможности кимоно.
С появлением в зале Мутина разговор на креслах прервался.
— Ладно, Янек, пока… Не бери в голову… Будь здоров… Как-нибудь разберётесь, — отправился к выходу один из собеседников.
— Повозимся? — потянул Мутин второго за рукав.
— Куда мне спешить, Кирюша… С жёнкой вот рассорился… До развода дошло… так что… — опустошённо продирижировал он рукой.
— С Галкой? Ну, дура… Такого мужика теряет! Плюнь, все они стервы, — сходу постарался уравновесить напарника Мутин, — сам знаешь, баба с возу — возу легче.
— Оно то так, но всё ж не очень…
С Яном Мариновским, начальником охраны Кремля, Кирилл Кириллович закадычной дружбы не водил, встречаясь вот так — изредка на татами. Чем не время перекинуться живительным для души словцом! Иногда, в случайных подвижках, но всегда с почтением к его бойцовской ухватке.
— Разомнись хорошенько, Кир, перед растяжками, — заботливо посоветовал Мариновский.
— То-то и оно, Янчи, что тело пощады просит… Закостенело до мозга костей, — ответил Мутин, разогревая себя гимнастическим ассорти, — ну, сплошь каменюка.
Уж если чем-либо и славились тренировки, так это прежде прочего обречённостью на равноправие, это сводило на нет любые житейские преимущества. Маршал и рядовой могли щедро поелозить соперника физиономией по татами, не беспокоясь о субординации и вероятных обидах. И в этот раз тоже — вполне реально пошвыряли друг друга на маты, подняв седенькую на свету пыль, и отправились в сауну. Душные бани с парком да под дубовый веничек постепенно теряли патриархальную прелесть и, заодно, хронических приверженцев в пользу финских «потогонок» всухую.
В предбаннике сбросили в корзину кимоно — обслуге под стирку. Охранник голышом, а генерал в элегантном гульфике, перебрались в «салун» и достали из «сейфа» по простыне. Мутинский клапан на причинном месте поначалу вызывал любознательные пересуды. Многие соглашались, что мотив кроется в уникальной чистоплотности генерала, сам же он шутливо ссылался на подобную повадку пиратов — прикрывать глаз чёрной повязкой. Хитрость имела вовсе не косметическую подоплёку. Свободным глазом головорез пользовался в палубной драке, вторым же, сбросив повязку — исключительно в трюмном мраке. В том же посыле подавался намёк на частные особенности ночной жизни, но, конце концов, аналогию надоело замечать.
Ян Мариновский издавна славился как угарный обожатель зелёного чая, предпочитая его даже крепким напиткам. Нынче его душу кошмарила обида, и поэтому, чтобы отвлечься, он принялся запаривать травный сбор. Чайный сервиз с уникальной восточной росписью мог украсить любой интерьер.
— Галка приобщила, — свернул он собственную слабость на супругу.
Кириллу Кирилловичу и без сопутствующих объяснений представлялась подноготная — охранник всякий раз инстинктивно поклонялся издержкам Галкиной логики с напряжённым поиском пути для преодоления последствий. Набор по отдельности всегда представал троицей — повиниться, перетерпеть, или, наконец, предпринять чрезвычайные усилия, чтобы вернуть пошатнувшийся быт в привычное русло. Кто-кто, а Мутин до мелочей понимал, что иную утрату восстановить нечем — как бы критически ни хотелось.
Наконец, поднялись и окунулись в мир, пышущий несусветным жаром.
— Слышь, товарищ генерал, если попадём в такой себе приблизительно ад, то я, в принципе, согласен, — заметил Мариновский.
— Грех жаловаться, — подтвердил Мутин.
— Каких-то несчастных сто пять градусов, запротестовал Ян, глянув на термометр и тут же плеснул на импровизированный камин плошку прихваченной заварки. Зашипело, воздух взбодрился ароматом чабреца.
— Так-то балдёжнее… Вот они, родимые сто десять…
Оба взобрались на верхнюю полку, и кожа моментально оросилась пузырьками пота. Стало почти невмоготу, даже рот открыть не моглось. Поэтому упрямо молчали. Выдержав по первому заходу с десяток минут, они выскочили, и дышать стало вольготней.
Мариновский, плюхнувшись в резное деревянное кресло, занялся излюбленной магией — подняв высоко над чашками «чайничек-заварничек», принялся разливать снадобье. Мутин же побрёл настраивать технику — телеприёмник «Север-2», один из первой опытной партии. Аппараты пока что не удостоились социалистических прилавков, находясь на узкой предпродажной проверке. Кирилл Кириллович пощёлкал переключателем каналов. Серьёзный диктор с экрана объявил о предстоящем концерте государственного камерного оркестра.
— Да уж, — скрестил руки на груди Мариновский, — у нашего Лаврушки такие же игрушки…
— Ну-ка, ну-ка, о чём это ты? — развесил уши Мутин, приняв независимый вид торговки с одесского Привоза.
— А ты не слышал? — зевнул Ян, — сказочку народ сплёл… про «оркестр Берии». Охранники Лаврентия в футлярах для скрипок таскают автоматы, а ручной пулемёт вообще в колчане для контрабаса… Оно, знаешь, всё ничего, но слишком уж заковыристо выходит в последнее время… Как будто приучают.
— Пустое… Похоже на абстрактный анекдот — отмахнулся Мутин, но втихомолку задумался. Ему уже не впервые приходилось слышать эту байку в разных интерпретациях — ей бы на погост, но подозрительно живучей оказалась, чтобы не обратить внимание.
— Ну, не скажи, — возразил Мариновский, — ребятишки вполне серьёзно готовы сыграть на своих инструментах похоронный марш кому угодно, лишь бы Лаврентий остался доволен…
Сентенция Мариновского показалась Мутину окрашенной слишком явно, чтобы восприняться поверхностно. Возвратившись в управление, в заветное кабинетное логово, Кирилл Кириллович отослал в архив дежурного полковника за сведениями о перспективных образцах стрелкового оружия. Сам же потянулся к телефону правительственной связи, поднял трубку и нажал сбоку аппарата едва приметную кнопку. После похорон Сталина Никита Сергеевич Хрущёв воспылал к Мутину неожиданным доверием. Настолько безукоризненным, что ординарному генералу жаловали автономную связь.
В голове Кирилла Кирилловича давно наклёвывалось и в итоге созрело судьбоносное для страны, но очень опасное для исполнителей предположение. Ошибка подразумевала ликвидацию их без отсрочки.
— Я весь внимание, генерал, — послышался ответ.
— Никита Сергеевич, вечер к ночи на доброе здравие!
— И тебе не хворать… чую, есть новости…
— Есть, Никита Сергеевич… Свежие агентурные… Присядьте, чтобы не упасть. 26 июня заседание Президиума ЦККП расстреляют. План покушения разработан детально в штабе мерхеульских мегрелов…





























